-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Posts posted by Pandukht
-
-
Композитор с армянским духом и русским интеллектом
К 80-ЛЕТИЮ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР, ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ АРМЕНИИ АВЕТА ТЕРТЕРЯНА
Искусство в Армении в XX веке развивалось в тесном взаимодействии с культурой России. Интересно то, что в этом единении и устремленности друг к другу творчество армянских художников обретало особую самобытность, познавая еще глубже и определенней свои национальные корни. Ярким примером этого плодотворного содружества сегодня видится творчество выдающегося композитора второй половины ХХ века Авета Тертеряна.

Собственно, связь с русской культурой сопровождала его с самого раннего детства. Авет Тертерян родился в Баку, в 1929 году. Его отец, Рубен Тертерян, известный в городе ларинголог, был страстным любителем оперы, как и мать, Кармен Иосифовна. Обладая к тому же музыкальным талантом и прекрасными голосами, он – тенор, она – меццо-сопрано, они все свое свободное время отдавали музыке. Пели сами, устраивали домашние концерты, в которых играли и профессиональные музыканты, участвовали в оперных любительских спектаклях. Одно их самых первых впечатлений будущего композитора – фигура отца на сцене, он пел партию Ленского, и потрясение – в момент гибели героя... Может быть, тогда в сознании маленького Альфреда (его первое имя) возникла формула драмы, которую он многомерно и глубоко воплотил в общечеловеческом масштабе в своих грандиозных произведениях – в симфониях, которых восемь, в двух операх – «Огненное кольцо» и «Землетрясение», в балете «Ричард III»...
Отец умер рано, в 42 года, от сердечного приступа, в первый год войны. Мать зарабатывала концертами, в ее репертуаре в основном были русские романсы. Совсем еще подросток, Авет нередко аккомпанировал ей, заменяя концертмейстера. Но дом Тертерянов был по-прежнему полон гостей, среди которых были известные музыканты. Так, в 1943 году в их доме остановилась группа музыкантов, приехавших в Баку на гастроли. Среди них были композитор Сергей Прокофьев и певица Нина Дорлиак. В те годы Прокофьев работал над созданием оперы «Война и мир» и в свободное от выступлений время часами сидел за роялем в их гостиной. «Какое это было счастье соприкасаться с неповторимой музыкой и высочайшим исполнительским мастерством!» – вспоминал впоследствии Авет Тертерян.

Прошли годы, и вот, закончив Ереванскую консерваторию по классу композиции, имея в своем творческом портфеле Первый квартет, два вокальносимфонических цикла, множество романсов, в самом начале 60-х Авет Тертерян знакомится с главным режиссером Театра им. Станиславского и НемировичаДанченко Львом Михайловым, который ищет авторов для своего театра. Прослушав музыку Тертеряна, режиссер предлагает ему сюжет – драму Брехта «Мамаша Кураж». Композитор с увлечением берется за работу, едет в Германию, посещает театр Брехта, знакомится с его вдовой, известной артисткой Еленой Вейгель... Однако юридические моменты осложняют ситуацию, и композитор вместе с режиссером решают искать другую тему. Ее подсказал армянский журналист Владимир Шахназарян. Это была счастливая находка. Только что по экранам страны прошел фильм Г. Чухрая «Сорок первый», созданный на основе одноименного рассказа Б. Лавренева. Насыщенный психологизмом, драматичный по своему содержанию сюжет удивительно подходил к оперному жанру, в котором экспрессия чувств всегда должна подниматься до накала. Лев Михайлов принял активное участие в создании либретто, а в дальнейшем и в сценическом воплощении написанной Тертеряном оперы «Огненное кольцо». Интересно, как в самой опере соединились творческие реалии русской и армянской истории. Рассказ Б. Лавренева, как и фильм Г. Чухрая, о трагических днях Гражданской войны 20-х годов. История этих лет соединила Армению с Россией как никогда близко. И в Армении в эти годы шла гражданская война, решался ее исторический путь. Поэтому действие «Сорок первого» было естественно перенесено в Армению. Все обрело свою самобытность, свою историческую правду. Поэтический пафос великого армянского поэта Егише Чаренца, современника этих событий, по духу своему и широкому регистру чувствований близкого Маяковскому, определил эмоциональный и интонационный строй оперы. Его поэмы «Неистовые толпы» и «Сома» стали литературной основой оперы. На новой творческой высоте соединились художественные импульсы русского и армянского искусства. Премьера оперы «Огненное кольцо» с резонансом на весь Союз состоялась в Ереване в 1967 году. В 1977-м она была показана на сцене ленинградского Кировского оперного театра, в том же году была осуществлена ее новая постановка на сцене оперного театра города Галле ( Германия).
Творчество Авета Тертеряна развивалось динамично. Каждые два-три года – новая симфония, была написана еще одна опера «Землетрясение», заказанная театром города Галле, балет «Ричард III» по Шекспиру. И каждый раз контакт с русскими исполнителями, с русскими слушателями становился для композитора моментом истины.
В конце октября 1982 года выдающийся русский дирижер Геннадий Рождественский исполняет в один вечер в Большом зале Московской консерватории Четвертую и Пятую симфонии Авета Тертеряна. Он повторяет этот концерт 7 ноября в зале Ленинградской филармонии. Во вступительном слове Рождественский называет Тертеряна «поэтом звука», проводит интересные параллели с поэзией Армении. Прекрасным поводом для таких рассуждений стала Пятая симфония, написанная для большого симфонического оркестра и каманчи. «Из всех людьми хваленных лир полней звучишь ты, каманча...» – цитирует дирижер строки Саят-Новы... Эти концерты под управлением Геннадия Рождественского стали подлинным триумфом композитора.

Великолепного интерпретатора своих симфоний Авет Тертерян нашел в лице дирижера Александра Лазарева, руководителя Ансамбля солистов Большого театра. Шестая симфония Тертеряна, написанная для камерного оркестра и камерного хора, тенора и девяти фонограмм прочно вошла в репертуар этого музыкального коллектива, имеющего самый высокий рейтинг. Под управлением А. Лазарева она прозвучала на ХII Музыкальном биеннале в Загребе в 1983 году, в Западном Берлине, в Бостоне на фестивале советской музыки, в Москве, в Зале им. Чайковского и на сцене Большого театра, в Дуйсбурге на Прокофьевском фестивале, на фестивале современной музыки «Варшавская осень-1985». Следующую, Седьмую симфонию Тертерян посвящает А. Лазареву, и дирижер исполняет ее в Лондоне с лондонским оркестром осенью 1994 года. Но до этого жизнь Тертеряна обогатилась еще одним прекрасным периодом интенсивных и возвышенных связей с Россией. Зиму 1992–1993-го Авет Тертерян провел по приглашению в Екатеринбурге, где в консерватории вел мастер-классы, читал лекции, с огромным интересом и радостью общался с художественной средой города.
Интерес к музыке Тертеряна был огромный. Круг русских городов, узнающих музыку Тертеряна, расширялся. Помимо Москвы и Ленинграда его симфонии звучали в Саратове, Вологде, Пензе, а теперь и в Екатеринбурге. Новым интерпретатором симфоний Авета Тертеряна стал талантливейший дирижер, тогда молодой Мурад Аннамамедов, туркмен по национальности, ученик Геннадия Рождественского, главный дирижер Саратовского симфонического оркестра (1985-1994), в настоящее время художественный руководитель и главный дирижер Ярославского академического симфонического оркестра. Восьмая симфония Тертеряна, посвященная Мураду Аннамамедову, была написана в 1989 году и в тот же год исполнена под его руководством в Саратове.
Но и жизнь расширяла свои параметры. Известность Тертеряна росла, и в 1994 году он получил стипендию земли Бранденбургской и стипендию ДАА Д, что давало ему возможность ближайшие годы провести в Германии.
Что переживал он, уезжая из Армении, из своего дома, построенного на берегу Севана, прерывая свою интенсивную связь с Россией, с русским слушателем? Перед отъездом в Германию со всей присущей ему ответственностью он поставил перед собой вопрос: кто он, что он несет в себе? И ответил: Род, родовая память – Карабах; Дух – Армения; Генетика – Восток; Язык, интеллект – Россия; Разум – весь мир; Вера – христианская; Храм Господний, под которым теплится языческое капище.
Едва освоившись на новом месте в Германии, Тертерян с нетерпением ждал своего приезда в Екатеринбург, где 24 декабря 1994 года открывался посвященный ему фестиваль «Три вечера с Аветом Тертеряном». Вот он снова в кругу своих екатеринбургских друзей. Первые репетиции прошли прекрасно, обещая огромное художественное событие. Но за 13 дней до начала фестиваля Тертеряна не стало. Несмотря на всеобщее потрясение и скорбь, охватившие всех, задуманное свершилось. Три вечера зал Екатеринбургской филармонии был заполнен теми, кто знал и любил его музыку, кто ждал и готовился к ней. Резонанс этого фестиваля был велик. На него отозвались своим творчеством художники, поэты Екатеринбурга, о музыке Тертеряна размышляли философы, критики, простые слушатели, которых так любил композитор. Но главное – фестиваль повлек за собой динамичное творческое продолжение. Художник и режиссер Ольга Паутова приступила к работе над спектаклем на музыку Пятой симфонии «Версии-2», а в декабре 1995-го в Екатеринбурге состоялись два вечера памяти Авета Тертеряна, где Вторая и Седьмая симфонии Тертеряна прозвучали под управлением главного дирижера Уральского симфонического оркестра Дмитрия Лисса. В эти дни в Екатеринбургской филармонии состоялся большой фестиваль, приуроченный к 70-летию композитора. Фестиваль получил название «Тайны избранных», и каждый концерт имел свою тему – «Магия звука», «Путь посвященных», «Время тишины». Он стал международным событием. Все полнилось размышлениями композитора, его откровениями. Диалог продолжался... В рамках этого фестиваля прошли выставки екатеринбургских художников - живописца и графика М. Сажаева и скульптора Г. Геворкяна. В концертах фестиваля рядом с произведениями Тертеряна звучали сочинения его выдающихся современников - Арво Пярта, Гии Канчели, Софьи Губайдулиной. В своем эссе М. Сажаев писал: «Вслушайтесь в печальные восточные обертоны симфоний Тертеряна. Впитайте скрипку. Уловите шорох басовой струны. Успокойтесь и отдайтесь течению времени на зыбком и утлом плоту звуков...»

Екатеринбургская земля сполна возвращала Авету Тертеряну любовь за любовь, верность за верность, искусство за искусство. Творчество Тертеряна врастало в российскую почву, давало новые и неожиданные всходы. Оно стало предметом изучения, объектом постижения, методом общения. В 1999 году в Нижнем Новгороде прошел большой международный фестиваль под названием «На пути духовного единения: Авет Тертерян в кругу друзей». Четыре дня звучала музыка, были исполнены произведения Макара Екмаляна, Комитаса, отдельный концерт дал каманчист Акоп Халатян. Сложнейшая Восьмая симфония прозвучала в исполнении симфонического оркестра студентов Нижегородской филармонии под управлением талантливого дирижера Евгения Шейко, Второй квартет был исполнен музыкальным ансамблем солистов «София» под управлением Софии Пропищан, а в Государственной академической филармонии под управлением А. Скульского прозвучала Пятая симфония Тертеряна. А в 2002 году опять в Екатеринбурге состоялся международный фестиваль новой музыки «Линии Авета Тертеряна». Видный российский композитор В. Кабекин писал: «Явление Авета Тертеряна в Екатеринбурге не могло остаться без последствий. Мастер ушел. Осталась радиация его личности...»
Времена интенсивных контактов Армении и России в области искусства, к великому сожалению, прошли. Но есть вершины, которые подают сигналы и зовут нас к обоюдному общению.
Маргарита Рухкян
-
Звартноц - храм
До начала ХХ века на этом месте были лишь небольшие пустынные холмы с бесформенными остатками построек. О том, что здесь «похоронен» храм, построенный в VII веке, можно было догадаться по книгам наших историков.
В 1900 - 1907 гг. проводились раскопки холмов, были открыты остатки храма Звартноц и примыкающих сооружений. Потом начались кропотливые работы по воссозданию облика этого великолепного творения человеческих рук. И талантливый архитектор Торос Тороманян путем многочисленных измерений, сравнений и зарисовок создал модель Звартноца. Предметы, извлеченные из раскопок, хранятся в небольшом музее при развалинах. Согласно реконструкционной схеме Т. Тороманяна, Звартноц представлял собой центральнокупольную, трехъярусную композицию, покоящуюся на многогранном семиступенчатом невысоком стилобате. Три многогранных, последовательно уменьшающихся цилиндра поставлены один за другим и увенчаны пирамидным куполом.

В 15 км от Еревана находится один из шедевров мировой культуры - храм Звартноц.
В VII веке, исходя из социально-экономических и политических соображений, католикос Нерсес Строитель решил перенести резиденцию армянских католикосов из Двина в Вагаршапат, и в окрестностях его примерно в 643 году начал грандиозное строительство храма Звартноц. Летописец VII в. Себеос свидетельствует: «В то время католикос армянский Нерсес задумал построить себе жилище близ святых церквей города Вагаршапата, на дороге, где, как говорят, царь Трдат вышел навстречу св. Григорию Просветителю. Построил там одну церковь во имя небесных ангелов... высокое сооружение... привел воду из реки и превратил эту каменистую местность в плодородные земли: посадил сады и деревья и оградил жилище высокой стеной». Себеос с восхищением пишет о чудесной красоте Звартноца, считая его достойным славе Бога. Храм под названием Звартноц упоминает только Себеос. Все остальные летописцы называют его «храм св. Григория». Исследователи считают, что такое название связано с перезахоронением в Звартноце праха Григория Просветителя.
Точная дата построения Звартноца не сохранилась ни в письменных, ни в литографических источниках. Об окончании строительства свидетельствует летописец Мовсес Каланкатваци. Он пишет, что в 652 г. строительство Звартноца было уже завершено. Именно в этом году в Армению прибыл кесарь Византии Константин III и участвовал в церемонии освящения храма. Он пожелал в Константинополе иметь такое же чудесное сооружение и приказал зодчему Звартноца поехать в Византию и осуществить этот проект. Пожелание кесаря не было исполнено, так как в дороге зодчий умирает. Согласно легенде, он бросился в море, чтобы не строить храм на чужбине. Храм Звартноц просуществовал около 320 лет. Храм был разрушен в X в. и несколько веков оставался под толстым слоем земли. На ближайших постройках образовались холмы.

По поводу причин разрушения храма мнения исследователей разделяются. Одни находят, что храм был разрушен вследствие землетрясения, другие причиной разрушения считают арабские нашествия. В самом начале раскопок, в 1900 году, была обнаружена клинописная стена араратского царя Руса II, датируемая VII в. до н. э. Во время раскопок были обнаружены различные предметы средневекового ремесленного производства, керамика, металлические инструменты, украшения и т. д. Были найдены хорошо сохранившиеся миски, кувшины, большие карасы, небольшие сосуды для благовоний. Большие карасы, емкостью в 500 литров, использовались для брожения и хранения вина. В небольших сосудах хранились благовонные масла, духи и ртуть, которая разбавлялась хной и использовалась для окрашивания волос. Наряду с неглазурованной керамикой была найдена разнои одноцветная глазурованная керамика. Из металлических предметов интересны земледельческие орудия, широкие и узкие лемехи, а также гвозди, костыли и кинжалы. Как показали исследования, при помощи металлических костылей камни скреплялись между собой. Восхитительны стеклянные изделия - разноцветные изящные браслеты.
Сам храм Звартноц спланирован как равносторонний крест, три стороны которого обрамляют расположенные полукругом пропилеи. Каждый полукруг состоит из 6 колонн. Колонны, увенчанные плетенчатыми капителями, связаны друг с другом арками. Восточная сторона храма представляет собой полукруглую сплошную стену. За каждой колонной стоит по одному столбу с капителью, на которой изображен орел с распростертыми крыльями. Снаружи храм кажется трехъярусным кругом простой конструкции. Интерьер храма выделяется своим декоративным убранством. Особо следует отметить две плетенчатые капители экседральных колонн, на которых видны взятые в окружность монограммы и кресты. Венцом внутреннего убранства храма являются капители с изображением орла, которые присущи ранней армянской архитектуре. Все четыре капители сохранились довольно хорошо, и ни одна из них не повторяет другую.
Основным строительным материалом храма был черный или коричневый туф. В верхних частях сводчатых конструкций использовался также дутый обсидиан для облегчения веса. Позже внутренние стены храма были покрыты тонким слоем известкового раствора. Для покрытия храма была использована красноватая черепица.
Особый интерес представляют сохранившиеся на многогранных камнях литографические знаки, которые интересно расшифровываются: зодчий, распределяя работу между каменотесами, давал каждому определенные поручения. На тесовых работах измеряли стену, построенную каждым мастером согласно их собственным меткам, и платили деньги. Эти метки свидетельствуют также о том, сколько каменотесов работало над строительством храма. Мастер, метящий камень в виде пятиконечной звезды, был искусен в кладке вогнутых камней, а мастер с меткой в виде свастики отесывал камни внешней кладки стен храма.

Одновременно с храмом был открыт патриарший дворец, который находился в его юго-западной части. От дворцового здания сохранились только нижние части стен. Дворец состоял из двух параллельных пролетов, соединенных между собой коридором. В восточной стороне дворца располагались жилые и бытовые помещения для прислуги, а также баня. Баня состояла из двух параллельных и полностью независимых частей. Общими были только печь и котел для воды. Печь располагалась в углу и по всей ширине сообщалась с восточным отсеком бани. С западной стороны находился широкий арочный проем, через который купающиеся брали горячую воду. Западная часть состояла из двух раздевалок, большой купальни с востока и ее продолжения - малой купальни. К сожалению, не сохранилось ни одного фрагмента пола. О его существовании можно судить только по дымоходным отверстиям, которые находятся намного выше сохранившегося земляного пола.
В юго-восточной части архитектурного комплекса была расположена давильня. Скорее всего, это было трехнефное сооружение с деревянными перекрытиями, вдоль боковых нефов которого располагались площадки для давки винограда и колодцы для скота. Слегка наклоненные к колодцам площадки были вымощены булыжниками, сверху покрыты толстым слоем известкового раствора. От колодца площадка отделялась каменными прямоугольными плитами высотой всего 0,7-0,8 см. В центральной части, под плитами, располагалась канавка, по которой виноградный сок стекал в колодец. Колодцы были круглыми и квадратными глубиной 1,85 м, диаметром 1,85 м, неодинаковой величины и, видимо, предназначались для разных сортов винограда.
Ныне живописные развалины посещает множество туристов. Здесь часто проводятся различные театрализованные представления.
Григор Григорян
-
Большой мастер малой доски
Гроссмейстера Виталия Габриеляна можно без преувеличения назвать королем русских шашек. 13 раз становился он призером чемпионатов СССР. Причем четырежды он был победителем всесоюзных первенств, столько же раз занимал второе место и пять раз – третье. Подобных результатов не имеет ни один другой мастер малой, 64-клеточной доски. Мне недавно довелось побывать в гостях у Виталия Рубеновича на его новой Родине, в Белоруссии, где он обосновался в начале 90-х годов.

– Виталий Рубенович, Ваш спортивный путь начинался в Баку, и Вашим землякам, а я отношусь к их числу, хорошо известны основные этапы этого пути, на котором было одержано столько знаменательных побед.
– Мне было 15 лет, когда я увлекся шашками и стал заниматься в бакинском Дворце пионеров и школьников у замечательного наставника, заслуженного тренера СССР Николая Христофоровича Хачатурова, воспитавшего целую плеяду высококлассных шашистов, в частности, чемпионов СССР Юрия Арустамова, Бориса Симоняна, Эльшада Мурсалова. Влияние Хачатурова на всех нас было огромным. Он ведь учил не только играть в шашки, а внимательно следил за нашей учебой в школе и институте, если возникали бытовые проблемы, помогал решать их. Николай Христофорович был частым гостем в домах своих воспитанников, поддерживал постоянный контакт с нашими родителями. Мы – члены руководимой им шашечной секции Дворца пионеров – всегда были очень дружны, несмотря на острую конкуренцию, и в этом тоже заслуга Хачатурова, прививавшего нам чувства коллективизма, дружбы и взаимовыручки.
– Вы всерьез занялись шашками довольно поздно, однако успех пришел к Вам быстро…
– И опять же благодаря Хачатурову, который разглядел мои способности и научил правильно использовать их, а также играть смело с любым соперником, не боясь авторитетов. И я, начав заниматься русскими шашками в 1959 году, уже на следующий год дебютировал в чемпионате СССР среди юношей, где занял высокое для новичка четвертое место, а потом два года подряд становился победителем этих престижных соревнований. Ну, а в 1963 году я был уже третьим призером мужского первенства СССР, проходившего в Лиепае. А первую свою золотую медаль чемпиона страны я завоевал спустя три года в Грозном. Потом были победы в чемпионатах СССР 1969, 1973 и 1977 годов. Четыре раза становился обладателем Кубка СССР в составе сборной команды Вооруженных сил, за которую выступал на протяжении почти всей своей спортивной карьеры.
– В начале 70-х годов по просьбе тогдашнего редактора еженедельника «64» Тиграна Вартановича Петросяна я написал о Вас очерк. Были в нем, помнится, такие строчки: «За доской он преображается, глаза горят, взгляд буквально «режет» доску, руки беспрерывно «ходят» под столом. Иногда он не в силах сдержать эмоции, убегает со сцены и долго ходит по длинным коридорам фойе. В партиях Виталия Габриеляна не бывает шаблонных и скучных позиций. Он всегда ищет что-то новое, страшно любит играть «не по правилам». Таков его стиль». Этот стиль привил Вам Хачатуров или это проявление Вашего характера?
– Скорее все же последнее. Ведь стиль – это человек. Шахматисты, шашисты ведут себя за доской, как в жизни. Так что мой жизненный характер проявлялся всегда и за доской.
– Своих самых больших успехов Вы достигли на малой, 64-клеточной доске. Но Вы ведь играли и в стоклеточные шашки…
– Да, играл и на большой доске, хотя предпочитал малую. В «стоклетках» я выступал в финале чемпионата СССР, становился чемпионом Азербайджана.
Между прочим, в общей сложности, если считать оба вида шашек, я выигрывал первенство республики 15 раз. Если продолжить разговор о стоклеточных шашках, то в 1987 году я победил в открытом первенстве США, дважды побеждал на турнирах в Польше.

– Жаль, конечно, что чемпионаты мира по 64-клеточным шашкам стали проводиться слишком поздно, когда Вы миновали уже пору своего расцвета. А в свои лучшие годы – с 1966 по 1977, – когда Вы четырежды выигрывали чемпионаты СССР, очевидно, могли рассчитывать и на звание сильнейшего в мире…
– Наверное, мог. Ведь в 1999 году, когда мне было уже 55 лет, я разделил 2-3-е места на чемпионате мира по 64-клеточным шашкам, точнее, их бразильскому варианту.
– С Бразилией у Вас связаны приятные воспоминания…
– Да. В 1999 году мне предложили выступать за бразильский клуб «Сан-Андре», и я согласился. Об этом времени вспоминаю с удовольствием. Меня встретили очень тепло и радушно. Я старался оправдать надежды гостеприимных хозяев, и, кажется, это удалось. Мы были чемпионами Бразилии.
– Как Вы оказались в Белоруссии, где живете уже 15 лет?
– После того, как в конце восьмидесятых годов нашей семье пришлось в связи с известными событиями покинуть Баку, мы приехали в Ереван. Здесь я был назначен старшим тренером сборной Армении по шашкам, председателем тренерского совета, избран заместителем председателя республиканской федерации шашек. Но решение квартирного вопроса затягивалось. И мы решили поехать на Родину моей жены – Галины. Она – из Белоруссии. В городе Марьина Горка в Минской области нам выделили трехкомнатную квартиру, в которой мы теперь и живем. Поначалу играл довольно активно, был чемпионом Белоруссии. Сейчас играю, конечно, редко. Зато организовал в Марьиной Горке шашечный клуб «Дебют», который дважды выигрывал Кубок Белоруссии. Здесь же, в Марьиной Горке, проводим традиционный международный турнир по шашкам «Листопад» на приз гроссмейстера Виталия Габриеляна. Так что наша маленькая Марьина Горка стала своеобразным шашечным центром Белоруссии.

– У Вас настоящая шашечная семья, где все играют в шашки – семья гроссмейстера и трех мастеров…
– Да. Моя жена – Галина Габриелян – мастер спорта, неоднократная чемпионка Азербайджана и Вооруженных сил СССР, участница международных турниров. Звания мастеров спорта имеют и оба наших сына – 36летний Владислав и 34-летний Вячеслав. Владислав в 1989 году выиграл первенство СССР по русским шашкам среди юношей. В том же году он стал первым и последним чемпионом СССР среди мужчин по чеккерсу – английским шашкам. Благодаря этому достижению он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Совсем недавно мы с Владиком были участниками проходивших в Пекине первых Всемирных Интеллектуальных игр, включавших в себя соревнования по шахматам, китайским шахматам (сянци), шашкам и бриджу. Я выступал в состязаниях по обычным шашкам, Владик же соревновался в чеккерсе. Конечно, мне в мои 64 года трудно было рассчитывать на успех, я доволен и тем, что стал участником первых Интеллектуальных игр. На результате Владика сказался большой перерыв в соревновательной практике. Он давно не играл в чеккерс. Но в целом поездкой в Пекин мы остались довольны. Ведь приглашение на этот замечательный представительный форум получили только лучшие мастера, имеющие высокий международный рейтинг. Белоруссию в Пекине представляли кроме нас такие известные шашисты, как экс-чемпион мира в «стоклетках» Анатолий Гантварг, двукратный чемпион мира на малой доске Андрей Валюк, неоднократный чемпион СССР по русским шашкам Аркадий Плакхин. Словом, делегация была представительная.
– Подрастает новое поколение семьи Габриелян. Продолжит ли оно шашечные традиции семьи?
– Трудно сказать. Владислав пока не женат. У Вячеслава - две дочки. Старшей, Наринэ – 5 лет. Шашками начинает понемногу интересоваться. А вот младшая, Ануш – совсем еще маленькая. Ей всего 2 года. Так что ей еще в куклы играть. Но надеюсь, что, когда они подрастут, к ним придет настоящее увлечение шашками, и они продолжат наши традиции. Мы все были бы этому очень рады.
Валерий Асриян
-
Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН
Геополитический оксюморон
Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест Православный,
дымом фимиама и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный...
Русский монах Авель Вещий, XVIII-XIX вв.
Армения, НКР и Азербайджан солидаризировались в едином чувстве тревоги по поводу наблюдаемого российско-турецкого сближения. В Баку опасаются, что зарождающаяся дружба между Москвой и Анкарой лишит Турцию возможности оказывать Азербайджану полноценную политическую, а, при необходимости, и военную поддержку. В Ереване и Степанакерте вспоминают недавнюю историю: в 1918-22 годах дружба Ленина с Кемалем Мустафой создала для Турции возможность оккупировать обширные армянские территории. В Азербайджане также помнят историю: осенью 1918 года турецкая армия покинула Закавказье, бросив на произвол судьбы ею же порожденное государство под названием Азербайджанская республика. Итогом этого отступничества стала советизация Азербайджана, обернувшаяся огромным благом для Баку. Однако в 1918 году новорожденная республика еще не могла предвидеть политических и экономических дивидендов от ухода турок, потому и обиделась на вероломство сородичей.
Интересно, что тревожное недоумение от проявлений дружбы между Москвой и Анкарой наблюдается также и в России, и в Турции. Патриотично настроенные русские мыслители и интеллектуалы (за исключением не скрывающей удовлетворения небольшой группы последователей «евразийца» А. Дугина и метафизика Г. Джемаля) оказались в некотором недоумении и пытаются разгадать извечный вопрос – кому это выгодно? В свою очередь читающая публика Турции обеспокоена другим вопросом: как на этот флирт отреагируют в ЕС и Вашингтоне?
Вопросы одних, недоумение других и тревога третьих вовсе не являются надуманными и, тем более, праздными. Россия и Турция являются извечными соперниками не только в геополитическом, но и в религиозном и в цивилизационном плане, и их нынешние взаимные заверения в дружбе выглядят, по меньшей мере, странными. Особенно с учетом взаимоисключающих интересов экономических и политических двух государств, а также их пребывания в разных военно-политических структурах.
Противоречия между Россией и Турцией в новейшей истории особенно обострились после принятия в 1999 году сугубо политического на то время решения о прокладке нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а затем и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум. Речь, как легко догадаться, не только в экономических дивидендах и потерях. Два этих трубопровода не только отрицательно повлияли на геополитическую значимость России, но и послужили обоснованием для проектирования новых энергетических коммуникаций, вроде Набукко. Во всех этих проектах Турция играла далеко не последнюю скрипку.
Однако после августовской агрессии Грузии против Южной Осетии и решительного вмешательства в конфликт России, Турция выступила с неожиданной инициативой о создании Платформы стабильности и сотрудничества на Кавказе. Турецкая Платформа была раскритикована практически всеми государствами, имеющими отношение к Кавказу, и, в первую очередь, за игнорирование Ирана и предложение запрячь в одну упряжку «коня и трепетную лань». Звучали в прессе и более «строгие» заявления. Так, российский политолог В. Горюнов считает, что «Без выхода Турции из НАТО и принятия Анкарой решения о закрытии черноморских проливов практическая реализация Платформы абсолютно нереальна».
В самом деле, сегодня трудно представить в рамках одной политической региональной организации «по сотрудничеству» Азербайджан и Армению, или Россию и Грузию, да и ту же Турцию с Россией или Арменией. Критика, однако, не мешала Анкаре активно заниматься продвижением собственных идей. В начале февраля Россию посетил президент Турции Абдулла Гюль. В ходе визита Москва и Анкара подписали совместную декларацию, в которой Россия недвусмыленно поддержала Кавказскую платформу. Несмотря на то, что данная декларация стала серьезной неожиданностью для наблюдателей и аналитиков, практических путей ее претворения в жизнь пока не видно. Декларации явно грозит участь «дежурной» бумажки, выказывающей несуществующее стремление к невозможной интеграции. Больше того, декларативность этого документа подтверждается тем, что уже после ее подписания Турция продолжает активно лоббировать Набукко, проект перекачки циркумкаспийского газа в Европу в обход России.
Между тем, у Турции существуют серьезные исторические и актуальные проблемы не только с некоторыми странами Южного Кавказа, в первую очередь, с Арменией и НКР. Турция, как уже было сказано, исторически является цивилизационным антиподом Россиии. Более того, именно «турецкий вектор» на протяжении веков является главным стержнем русской национальной идеи.
Известный русский поэт Ф. Тютчев в своем стихотворении «Рассвет», написанном в середине XIX века, прямо призывал Россию к наступлению на Османскую империю и освобождению Царьграда.
Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?
Он же считал, что Россия способна стать мировой державой лишь посредством овладения Константинополем и принятия роли единого лидера православного мира. В стихотворении «Пророчество» Тютчев наказывал:
И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ним, о, царь России, –
И встань как всеславянский царь!
Безусловно, Тютчев был далеко не единственным российским сторонником возвращения Константинополю ее былого христианского величия. Каждое поколение рождало свою плеяду российских мыслителей патриотического склада: Ф. Достоевский, А. Хомяков, Н. Данилевский, Вл. Соловьев, С. Булгаков, В. Эрн, Е. Трубецкой, Н. Бердяев… Список этот можно продолжать долго. Естественно, не все из них ратовали за войну, как это делал, например, Ф. Достоевский:
Звучит труба, шумит орел двуглавый,
И на Царьград несется величаво.
Однако практически все выразители русской национальной идеи, вплоть до современных, всегда ясно осознавали не только военно-стратегическое, но и духовное значение Константинополя для русского народа. Царьград – это святой идеал русского православия, возможно, не в меньшей мере, чем для греков. Как считал Вл. Соловьев, Византия пала потому, что приняв на словах идею христианского царства, в действительности отказалась от нее. Поэтому, «в русском национальном сознании явилось после Константинополя твердое убеждение, что значение христианского царства переходит отныне к России». В этих словах Соловьева ясно чувствуется озвученная еще в начале XVI века старцем Филофеем историософская идея: «два убо Рима падоша (католический Рим и Константинополь. – Л. М.-Ш.), а третий (Москва. – Л. М.-Ш.) стоит, а четвертому не быти».
Было бы заблуждением считать, что «турецкий вектор» национальной идеи России родился исключительно из ее духовных и геополитических устремлений, пусть даже именуемых иначе. Скорее, этот «вектор» зародился в качестве ответа на вызов тюркской экспансии против России. Многочисленные русско-турецкие войны по сути своей являлись прямым результатом этих экспансий. И если с середины сороковых прошлого века Россия (СССР) отказалась от планов продвижения в сторону проливов и Константинополя, то в самой Турции охватывающая колоссальные территории России идея пантюркизма все еще живет и развивается. Туран, прародина турок, продолжает будоражить умы и чувства турецких националистов, оставляя следы даже в именах (лидера одной из крупнейших партий Турции родители назвали Дениз Байкал – Байкальское море). Так что Байкал, именуемый русскими «священным», является объектом для вожделений турецких националистов.
«Умиротворение Кавказа» обернулось для России колоссальными трудностями потому, что в тылу у воинственных горцев находилась оказывающая им всяческую поддержку Турция. И в Кремле не могут не осознавать: если Турция войдет в Закавказье, то в самом скором времени это приведет к тому, что южные границы России будут проходить где-то под Ростовом. Или России придется, через большую кровь, выдворять турок обратно, но тогда — идти до Царьграда. Готова ли сегодня Россия к новым потрясениям? Понимают ли в Кремле, что содействие турецкой Платформе способно обернуться серьезными военными конфликтами в регионе, а самой Москве грозит крупными неприятностями как военного, так и геополитического плана?
-
ЭСКИЗ ВОСЬМОЙ
ТОВМАСЯН С. А. (1953–1960)
«Товмасян Сурен Акопович (20.12.1909 (2.1.1910), с. Шинуайр (ныне в области Сюник Республики Армения) – 10.2.1980, Ереван), государственный и партийный деятель. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1933–39 гг. – первый секретарь Капанского райкома партии КП(б)А, затем первый заместитель наркома внутренних дел Арм. ССР. В годы Великой Отечественной войны (1941–45) – начальник политотдела дивизии. В 1953– 60 гг. – первый секретарь ЦК КП Армении, в 1961–64 гг. – Чрезвычайный и Полномочный посол СССР во Вьетнаме, в 1965–70 гг. – в Ливии.
Депутат Верховного Совета СССР (1954– 62) и Арм.ССР (1951–63)».
«Краткая Армянская энциклопедия» в 4-х томах, т. 2, стр. 307, Ереван, 1995 г.
«Кто есть кто: армяне», Биографическая энциклопедия в 2 томах, т. 1, стр. 439, Ереван, 2005 г.

Дополнения к биографии.
Сурен Акопович (Акобович) Товмасян родился в селе Шынгер (Шинуайр) Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии в семье рабочего. В то время село насчитывало 230 дворов в 2850 душ, с которых Татевский монастырь истребовал в тот год земельную подать в размере 791 рубль и 50 копеек. Совершенно случайно в день его рождения в Шынгер пожаловал елизаветпольский губернатор Георгий Ковалев (в Горисе, центре уезда, была улица его имени) в сопровождении непременного члена губернского статского комитета, главного губернского врача Григория Тер-Григорьянца, начальника уезда Татиева, мирового судьи Григория Мурадова, полицейского пристава Николая Позницкого, уездного врача Валериана Боголюбова и ветеринара Дмитрия Кастровского. Хлебом-солью их встречали старшина сельской общины Хота (с. Шынгер входило в её состав) Мкртич Абрамов со своим замом Михаилом Калустовым, сельские судьи Иван Парсиев, Вартазар Тунанов, Мади Маркаров, местные священники Григор Григорьянц и Степанос Балянц.
Отец Сурена в числе многих шинуайрцев трудился чернорабочим на нефтепромыслах Баку и Грозного. В 1919 г. возвращается к труду землепашца и втягивается в борьбу за «светлое будущее» на стороне большевиков против сил Гарегина Нжде. Летом 1920-го, в разгар Гражданской войны, местные активисты-дашнаки поджигают дом Акопа Товмасяна. В памяти 10-летнего Сурена на всю жизнь остаются языки пламени, пожирающие родной очаг.
Избитый до полусмерти хозяин дома, потеряв трудоспособность, не мог кормить семью, и сын его на целых пять лет пошел в сельские пастухи. С той горькой поры у него и осталась лютая неприязнь к партии дашнаков. Начальное образование Сурен получил в родном селе. В 1926 г. он подается в ряды комсомола, подрабатывает на прокладке шоссейных дорог по всему Зангезуру, подсобляя матери в полевых работах и животноводстве. С 1929 по 1931 гг. он трудится на предприятиях ереванского «Банкоопа» простым рабочим. В 1929–1932 гг. без отрыва от производства учится в Ереванском рабфаке. Став в 1929 г. кандидатом в члены ВКП(б), в августе 1930-го получает членский билет коммуниста.
В феврале 1932 г. окончившего рабфак Сурена Товмасяна замечает первый секретарь ЦК КП(б) Армении Агаси Ханджян и выдвигает молодого коммуниста на должность завкультпропотделом Сисианского райкома партии.
В 1934–35 гг. он уже секретарь парткома 1-й Ереванской швейной фабрики. С июня 1935 по май 1936 г., повысив свое образование на курсах марксизма–ленинизма при Заккрайкоме ВКП(б), Товмасян в сентябре 1936 г. приступает к работе в качестве завкультпропотделом Иджеванского райкома партии. Оттуда в августе 1937 г. его направляют в ЦК КП(б)А – инструктором отдела руководящих партийных органов. С мая 1938 г. по апрель 1939 г. Товмасян возглавляет парторганизацию Капанского района. В феврале 1939 г. на XII съезде КП(б)А избирается членом ЦК и в этом качестве остается вплоть до 1962 г. В апреле того же года первый секретарь ЦК КП(б)А Григорий Арутинов направляет энергичного партийца в органы НКВД республики первым заместителем наркома.
Из «Автобиографии» С. А. Товмасяна, подписанной им ноябрем 1946 г.:
«С начала Отечественной войны изъявил желание отправиться на фронт. С августа 1941 г. до конца войны непрерывно был на фронтах Отечественной войны – Южный, Крымский, Закавказский, Северо-Кавказский, Украинский (4,3,1) и Белорусский (1 и 3) – в качестве зам. начальника политотдела дивизии (по февраль 1942 г.), начальником политотдела, военкома и зам. командира по политчасти дивизии (после упразднения института военных комиссаров). После окончания войны продолжал службу в Белорусском военном округе (начальник политотдела 61-го Никольского стрелкового полка)…
Из армии демобилизовался в августе 1946 г. по болезни.
Партвзысканий не имею. В уклонах и антипартийных группировках не состоял, в плену, окружении и на оккупированной врагом территории не находился. Репрессированных органами Советской власти и за границей родственников (и связей) не имею…
Состав семьи: жена, мать, двое детей и сёстры (двое)».
Младшая из сестер подполковника Сурена Товмасяна, Араксия, лишь после войны узнала, что воевала на фронте почти рядом с братом в одной и той же дивизии. А их старший брат, Ашот, за беспримерную храбрость удостоен был ордена солдатской Славы I и II степеней.
Из агитлистка кандидата в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР по Ереванскому избирательному округу №717 к выборам 16 марта 1958 г.:
«На фронте тов. Товмасян дважды был тяжело ранен. Он принимал активное участие в героических боях за освобождение Кубани, Украины и Белоруссии. Тов. Товмасян с боями дошел от предгорий Кавказа до Берлина. Высоко ценя заслуги тов. Товмасяна, правительство наградило его орденом «Красного Знамени», двумя орденами «Отечественной войны» I степени, а ещё орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной звезды», «Знак Почета» и медалями».
Из справки, датированной июнем 1948 г. и подписанной завсектором учета кадров ЦК КП(б)А Дадьяном: «В августе 1947 г. С. Товмасян сдал экзамены в экстернате Ереванского государственного университета и получил диплом о высшем образовании по специальности – историк». Из той же справки узнаем, что Товмасян в 1946 г. назначается заведующим отделом животноводства ЦК КП(б)А.
В июле 1948 г. Товмасяна избирают секретарем Ереванского городского комитета партии. В 1949–50 гг. он уже слушатель Курсов переподготовки при ЦК ВКП(б). По возвращении занимает прежнюю должность. В 1952–53 гг. его выдвигают во 2-е секретари Ереванского окружкома партии. По ликвидации в апреле 1953 г. окружкома Товмасян становится заведующим отделом административных и торговофинансовых органов ЦК КПА. Член ЦК КПСС в 1956–61 гг.
10 ноября 1937 года. В Тбилиси органами НКВД Грузии арестован ректор Ереванского государственного университета Анушаван Арзуманян. Арестован по требованию НКВД Армении и препровожден в Ереван.
В должность ректора Арзуманян вступил в августе 37-го. До того он в ЦК КП(б)А заведовал отделом агитации. В том же августе Товмасяна взяли в ЦК инструктором отдела руководящих парторганов. Товмасян ценил Арзуманяна, уроженца капанского села Каварт, одного из создателей комсомола Зангезура в самом начале 1920-х годов.
Из эссе Гагика Арзуманяна (журнал «Дружба народов», 2004, №12):
«В декабре 1938 г. арестованному Анушавану Арзуманяну было объявлено об окончании следствия и направлении дела в Особое совещание при НКВД СССР. В протоколе по предъявленному обвинению рукой Арзуманяна написано: «С обвинением не согласен»...
Однажды ночью в мае 1939 г. Арзуманяна вызвали из камеры. Думая, что ведут на расстрел, он отдал смену белья сокамерникам и простился с товарищами. Когда же его привели к начальству и объявили об освобождении, он отказался выйти из тюрьмы, пока ему не вернут отобранный при аресте партийный билет…»
Поднимая завесу тайны над феноменом освобождения из-под ареста Арзуманяна, излагаю факты в их жесткой последовательности.
В НКВД Армении первым заместителем наркома А. В. Короткова, сменившего арестованного В. В. Хворостяна 28 февраля 1939 года, Товмасяна назначают в апреле того же 1939-го. Он и вытребовал дело Арзуманяна у следователя. Ознакомившись с «обвинениями», носившими скорее характер навета, Товмасян решительно взялся за оправдание знаемого им коммуниста. Даже напросился на прием к первому секретарю ЦК Г. А. Арутинову. Выслушав его, тот дал согласие на прекращение гонений на Арзуманяна.
Майской ночью Товмасяна поднял с постели звонок из ереванской тюрьмы. Её начальник пожаловался своему шефу, что чудак Арзуманян отказывается покинуть тюрьму, требуя вернуть ему партбилет. Под утро рассмешив до слез Арутинова и получив добро, Товмасян велел вернуть человеку его партбилет.
Арзуманян вернулся в университет, но уже не ректором, а простым преподавателем… В 1956 году став основателем и первым директором Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Анушаван Агафонович Арзуманян в качестве экономического советника сопровождал Никиту Хрущева в его нашумевшей поездке в США.
В числе спасенных Суреном Товмасяном от расстрела и ссылки лиц был и известный лингвист Рачья Ачарян. Товмасяну доложили, что «враг народа» Ачарян категорически отказывается от обвинения в том, что он является агентом турецкой разведки. При очной ставке Ачарян, глядя в глаза первому заму НКВД, сказал: «Готов признать, что работал на любую из разведок мира, но только не на турецкую: турки вырезали всю мою родню. Так что увольте…» Товмасян распорядился освободить его.
В Армении и поныне бытует расхожее мнение, будто в НКВД республики самым изощренным мучителем и карателем, на совести которого немало загубленных душ, был Сурен Товмасян. Да только мало кто знает, что тем извергом был не Сурен Акопович Товмасян, а его тезка и однофамилец – Сурен Григорьевич Товмасян. Ещё в 1935 году палач Г. Г. Ягода отметил того высшим ведомственным нагрудным знаком – «Почетный работник ВЧК – ГПУ (XV)».

Осень 1953 года. Москва предлагает заместителю заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПА Якову Заробяну занять пост первого секретаря ЦК вместо неугодного Хрущеву Арутинова. Тот отказывается, ссылаясь на плохое знание армянского языка. Первый секретарь ЦК КПСС не настаивает и рекомендует в первые секретари ЦК Компартии Армении Сурена Товмасяна, заведующего отделом административных и торгово-финансовых органов ЦК.
На ноябрьском 1953 года пленуме ЦК КПА тон задает гость из Москвы Н. П. Поспелов, секретарь ЦК КПСС. На голову Арутинова сыплются шишки – упреки и нарекания. 30 ноября, в последний день пленума, слово берет Товмасян. Раскритиковав стиль работы второго секретаря ЦК А. Погосова и третьего секретаря К. Бадикяна, он, глядя в глаза Григорию Артемьевичу, бросает: «Посмотрите на качество Ваших воспитанников, которыми Вы гордились».
Далее Товмасян говорит: «Секретарь ЦК и член бюро ЦК Завен Григорян, выступив в Союзе писателей Армении, позволил себе такое сравнение – в былые времена армянские нахарары (владетельные князья. – Г. М.) жаловались на своих царей чужеземным правителям, коммунисты же пишут в Москву…» На этих словах Арутинов громко произнес: «Сплетни это, а вы им верите». Словно не расслышав сказанного, Товмасян завершил свою речь: «На каком основании столица Союза Советских Социалистических Республик сравнивается со столицами Византии и Персии?!» То был последний довод в пользу Товмасяна. И он становится первым лицом в Армении.
Декабрь 1953 года. На пленуме Ереванского горкома партии слово берет Товмасян и предлагает избрать первым секретарем горкома Шмавона Арушаняна, постаравшегося на ниве дискредитации Арутинова. И почему-то никого не смутило, почему отметается кандидатура действующего первого секретаря горкома Людвига Гарибджаняна. Видимо, все уже были наслышаны, что на ноябрьском пленуме ЦК тот против Арутинова и слова не обронил.
Не пройдет и четырех месяцев, как Товмасян выдвинет Арушаняна в председатели президиума Верховного Совета республики. Да вот Шмавон Минаевич окажется человеком неблагодарным…
Смерть Католикоса всех армян Геворга VI Чорекчяна в мае 1954 года подвигла Товмасяна задуматься о выборе кандидата на Патриарший престол Эчмиадзина.
Осведомленный о сильном влиянии дашнаков на армянское духовенство Ближнего Востока, Товмасян не желал видеть их ставленника на столь ответственном месте. Из его памяти ещё не выветрился горький дым сожженного дашнаками отчего дома в Шинуайре… Посему выбор его пал на скромного и европейски образованного предводителя румынской армянской епархии епископа Вазгена Паляна. 30 сентября 1955 года Вазген I станет 130-м Католикосом всех армян и почти 40 лет будет осуществлять духовное кормление нации.
В одном из своих интервью Вазген I рассказал о том, как к нему в Бухарест, за несколько месяцев до избрания католикосом, заявились два сотрудника советской разведки и передали, что руководство Советской Армении желает видеть на Патриаршем престоле именно его…
Надо отдать должное прозорливости партийного лидера Армении, усмотревшего в этой неординарной личности достойного пастыря и духовного наставника народа. Стоит ли удивляться, что именно Вазген I 29 июля 1994 года (за 20 дней до кончины) первым был удостоен высшего звания независимого государства – «Национальный герой Армении».
Посещая Армению, всемирно известный композитор Арам Хачатурян имел обыкновение ездить в поля села Чамрлу Апаранского района, где пшеница вставала в человеческий рост. Летом 1954-го к нему присоединились Сурен Товмасян, предсовмина Антон Кочинян и композитор Эдвард Мирзоян, который записал в своем блокноте: «Нас зазвал к себе в гости первый секретарь Апаранского райкома партии Геворг Петросян… Сурен Акопович поднялся и предложил тост за Арама Ильича».
Доктор исторических наук Владимир Петросян, сын хозяина хлебосольного дома, вспоминал: «Та встреча запомнилась и мне. Эдвард Мирзоян, подняв бокал за Товмасяна, добрым словом помянул и его предшественника – Арутинова. Первый секретарь помрачнел. Положение спас мой отец: «Тов. Товмасян, позвольте и мне пожелать Вам крепкого здоровья, чтобы, прожив жизнь достойно, и Вы остались в памяти людей, как Григорий Артемьевич». Сурен Акопович осушил свой стакан до дна, повеселел и предложил тост за хозяина дома: «Непростой район тебе достался, Геворг. Ты молодец, и тысячу раз прав: человек добрыми делами жив».
Известно, что с первых же дней советизации Армении всякая связь с культурными очагами армян за рубежом была прервана. Не избежала этой участи и конгрегация мхитаристов на острове св. Лазаря в Венеции, посвятившая себя сбору и обработке культурного наследия нации. Советских правителей пугало, что мхитаристы – католики.
Осознав величие и значимость накопленных за два с лишним века духовных богатств на острове св. Лазаря, Товмасян на одном из партийных форумов позволил себе сказать:
«Многие годы наше арменоведение, да и наши учреждения культуры избегали контактов с учеными мужами-мхитаристами. Да, они связаны с Ватиканом. Но те же мхитаристы – собиратели и хранители культурных ценностей армянского народа. Взаимный обмен в области арменоведения мог бы принести большую пользу истории нашей культуры».
Так и были налажены отношения с очагами армянской культуры за рубежом: в Ереване нашли приют архив писателя Аршака Чопаняна, картины Ивана Айвазовского и других армянских художников-классиков. Товмасян приложил немало сил к разысканию архива известного византолога Никогаёса Адонца, скончавшегося в Брюсселе.
Товмасян смело наладил нормальные отношения с зарубежными армянскими партиями – «Гнчак» и «Рамкавар», а через них и с большой диаспорой. В письме от 20 декабря 1956 года Н. С. Хрущеву Товмасян просит позволить направить представителей Советской Армении в Сирию, Ливан, Египет, а также в Нью-Йорк и Париж. К тому же письму была приложена программа обучения армянской молодежи из диаспоры в вузах республики.

16 апреля 1939 года председатель Союза писателей СССР Александр Фадеев на страницах «Правды» возмущается, что некоторые товарищи в Армении поспешили записать Раффи, видного армянского классика XIX века, во «вдохновители шовинистской и дашнакской идеологии». И крайне удивляется, что в Армении некоторые позволяют себе обзывать Раффи фашистом, «будто в XIX веке Армения уже имела представление о таком явлении, как фашизм». Подобные выпады, со слов Фадеева, «наводят на мысль, что и Льва Толстого с Федором Достоевским можно выкинуть из русского классического наследия, первого как ретрограда, второго как мракобеса». Из всего этого любимец Сталина делал вывод: «Стоит ли после этого удивляться, что сочинения Раффи в Армении перестали издавать?!»
Арутинов начинает борьбу за доброе имя и достоинство национальных авторов, но разразившаяся война и послевоенная разруха не позволили довести дело до конца. Эта участь выпала на долю его преемника – Товмасяна. Скорее всего, этим благородным поступком он остался в благодарной памяти своего народа: в 1955–59 гг. в Ереване массовым тиражом увидел свет десятитомник Раффи.
Мало кому известно, что после издания собрания сочинений великого романиста Товмасяну пришлось отбиваться от многочисленных нападок. Он даже нажил себе личного врага в лице Л. Ф. Ильичева, заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам. Тот вызвал Товмасяна на ковер и в грубой форме потребовал отчета по факту издания трудов Раффи, приведших в бешенство партийное руководство Баку.
Не растерявшись, Товмасян в столь же резкой форме бросил Ильичеву: «Неужто коммунисты Азербайджана считают себя прямыми наследниками османских турок, чтобы возражать против антитурецких настроений писателя аж XIX века».
При Товмасяне к читателю пришли и Чаренц с Бакунцем, а также классики западной ветви армянской литературы, ставшие жертвами геноцида в Османской империи. Поэма Паруйра Севака «Несмолкаемая колокольня» (в новом переводе Ашота Сагратяна – «Бессонного набата колокольня»), посвященная событиям тех горьких лет, нашла своего читателя также с ведома и по настоянию первого секретаря ЦК.
Диалог с Ильичевым обострялся от встречи к встрече. У Товмасяна возникли трения и с секретарями, и с членами Политбюро ЦК КПСС в вопросах, касающихся диаспоры и национальной политики в целом.
10–12 февраля 1960 года в Ереване проходил XXI съезд Компартии Армении. Говорилось об успехах в различных отраслях народного хозяйства, в частности, об успешном техническом перевооружении промышленности, росте национального валового продукта. Отмечали удвоение урожаев в виноградарстве и о сдаче 400 тыс. кв. м жилья. На этом радужном фоне диссонансом прозвучала критика члена ЦК, министра коммунального хозяйства республики Нуник Тухикян и завотделом агитации и пропаганды ЦК Геворга Айряна. Они явно подпевали Москве и лично Ильичеву, виня Товмасяна в плохой работе с кадрами, в излишнем администрировании, в нарушении коллегиальных начал и прочих надуманных грехах… Тухикян пронюхала, что кресло министра под ней уже шатается, Айрян же метил повыше. Первый секретарь ЦК нутром чуял, что его готовы загрызть руководители рангом выше… Так оно и получилось. Заговорщиков поддержали первые лица республики – председатель президиума Верховного Совета Шмавон Арушанян, предсовмина Антон Кочинян, второй секретарь ЦК Яков Заробян.
15 ноября 1960 года. Бюро ЦК КПА в полном составе предстало перед Политбюро ЦК КПСС. Товарищей вызвали в столицу якобы для утрясания разногласий внутри руководства республики. Им дали понять, что разрулить создавшуюся обстановку может только Москва. С этой целью в Ереван был командирован секретарь ЦК КПСС Ф. Р. Козлов, правая рука Н. С. Хрущева, который 28 декабря и созвал Пленум ЦК КПА. Высокий гость начал с того, что Товмасян не сделал должных выводов из бесед на самом верху, не внял советам, пустив дела в республике на самотёк. Доведя до участников пленума решение Политбюро об освобождении Товмасяна от занимаемой должности, Козлов сказал, что, ценя его организаторские способности и качество политика, ЦК КПСС намерен использовать его в масштабе страны, но уже на другом поприще.
За решение Политбюро об отстранении Товмасяна, как по команде, проголосовали единогласно. Товмасян попросил слова, горячо поблагодарил товарищей по партии, отметив личный вклад каждого из участников пленума в общее дело, а Политбюро заверил, что готов выполнить любое задание партии.
Участник пленума С. Варданян вспоминал: «Случилось нечто для Козлова непредвиденное: все поднялись с мест и зааплодировали Товмасяну, будто не они только что проголосовали за освобождение его от должности. Я сидел в первом ряду прямо напротив Козлова. На его лице застыла печать замешательства и скрытого недоумения…»
Товмасян убыл во Вьетнам – Чрезвычайным и Полномочным послом СССР. К концу его пребывания там США развязали воздушную войну против ДРВ.
Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко собирался отрядить Товмасяна во Францию. Тот завязал тесные отношения с французским посольством в ДРВ, чтобы получше узнать, какова во Франции политическая и экономическая жизнь, и даже взялся за французский язык, но в октябре 1964 года Н. С. Хрущева сместили, и Л. И. Брежнев в апреле 1965-го заслал его в Королевство Ливии. В сентябре 1969 года там произошел переворот, и Ливия объявила себя республикой. Председателем высшего органа страны стал 27-летний офицер Муаммар Каддафи (ныне глава Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии). Не без участия посла СССР Ливия объявила миру о построении «ливийского арабского социализма». О событиях тех бурных лет Товмасян оставил интереснейшую книгу – «Ливия на пути независимости и социального прогресса» (1980 г.).
14 февраля 1970 года Товмасян покидает Ливию и зачисляется в резерв аппарата МИД СССР. Через пару месяцев дряхлеющий Громыко попрощается с полным сил дипломатом, положив ему персональную пенсию союзного значения.
Все ещё энергичный Сурен Акопович в надежде найти работу ходил к Антону Кочиняну, а позже и к Карену Демирчяну, но те в один голос ему «любезно» отказывали, отделываясь вежливой формулировкой: «Ничего подходящего для Вашего уровня и таланта, увы, предложить не можем…»
-
ЭСКИЗ СЕДЬМОЙ
АРУТЮНЯН (Арутинов) Г. А.
(1937–1953)

«Арутюнян (Арутинов) Григор Артемьевич (7.11.1900, г. Телави, Грузия – 9.11.1957, Тбилиси), партийный и государственный деятель, член РСДРП с 1919 г. Учился в Московском народно-хозяйственном институте (1922–24). В 1921–37 гг. работал в организациях Компартии Грузии (в 1934–37 гг. – секретарь Тбилисского горкома Компартии Грузии). В 1937–53 гг. – первый секретарь ЦК КП(б) Армении (с 1938 г. ещё и первый секретарь Ереванского горкома партии). В годы Великой Отечественной войны (1941– 45) являлся членом Военного совета Закавказского фронта. В 1953 г. освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КП Армении, некоторое время работал председателем совхоза в пригороде Еревана, затем переехал в Тбилиси.
Депутат Верховного Совета СССР (1937–1954) и Арм.ССР (1938–1955)».
«Краткая Армянская энциклопедия» в 4 томах, т. 3, стр. 321–322, Ереван, 1999 г.
«Кто есть кто: армяне», Биографическая энциклопедия в 2 томах, т. 1, стр. 630–631, Ереван, 2005 г.

Дополнения к биографии.
Арутинов (Арутюнян, Арутюнов) Григорий (Григор) Артемьевич родился в семье торговца и виноградаря.
Ещё в 1809 г. после победы русских над персами под Каракилисом 400 армянских семей из Персии поселились на землях Лори-Памбака. Среди них были прямые предки Арутюнянов. В скором времени семья Арутиновых (власти во время переписи всех записали на русский лад) перебралась на постоянное жительство в центр бывшего Кахетинского царства – Телави.
Вопреки воле отца в 1908 г. Григорий поступает в Телавское городское училище, а в 1911-м продолжает учебу в местной русской гимназии. Попав в поле зрения грузинских меньшевиков, подвергается преследованиям и в 1920 г. попадает под арест. С установлением советской власти в Грузии становится завотделом пропаганды Телавского уездного комитета КП(б) Грузии, а позже выходит и в секретари (1921– 22). В 1922 г. работает в политотделе Грузинской дивизии, откуда его направляют на учебу в Москву, в Институт народного хозяйства им. Маркса. Однако окончить институт ему не дали: в сентябре 1924 г. он был отозван в Грузию, где работал в Ленинском райкоме партии Тифлиса, затем в Телавском уездном комитете. В 1927 г. Арутинов переходит на работу в ЦК КП(б) Грузии, курирует отдел по работе на селе. С 1930 г. он работает в Народном комиссариате рабочекрестьянской инспекции заместителем председателя Центральной контрольной комиссии ЦК КП(б) Грузии. С ноября 1931 г. он – заворготделом и член секретариата ЦК. В январе 1934 г. назначается первым секретарем Тифлисского горкома партии. И поскольку с 1936 г. первые секретари ЦК КП республик совмещали ещё и должность первых секретарей столичных горкомов, Арутинова переводят во вторые секретари Тифлисского горкома.
Арутинов избирался кандидатом в члены ЦК ВКП(б) (1939–1952) и членом ЦК КПСС (1952– 1956). Награжден тремя орденами Ленина.
15 сентября 1937 года открылся внеочередной пленум ЦК КП(б) Армении. Пленум с подачи эмиссаров Сталина Маленкова и Микояна санкционировал арест главы НКВД Армении Мугдуси и предсовнаркома Гулояна. 22-го к гостям из Москвы примкнул прибывший из Тбилиси первый секретарь ЦК КП(б) Грузии Берия. 23-го пленум отстранил Аматуни от должности, исключил из партии и передал его в руки НКВД. Маленков с Микояном были озабочены: не знали, кем заменить Аматуни. И тут их выручил Лаврентий Берия.
В утренних газетах народ прочел, что первым секретарем ЦК КП(б) Армении избран Арутинов Григорий Артемьевич (16 с лишним лет под всеми документами стояла подпись – Арутинов, хотя местная пресса упорно переиначивала его фамилию на армянский лад – Арутюнян).
В ночь с 26 на 27 сентября в дверь тбилисской квартиры Арутиновых позвонили. На пороге стоял офицер НКВД:
– Тов. Арутинов, поспешите, Вас ждут в спецвагоне на вокзале. Машина внизу.
Арутинов крепко обнял жену (с Ниной Григорьевной они поженились в 1926 г.) и молча вышел.
В спецвагоне его встречал Берия. На кожаном диване сидели Микоян с Маленковым. Не дав вошедшему опомниться, Микоян сказал:
– Тов. Арутинов, 23 сентября пленум ЦК Компартии Армении избрал Вас первым секретарем. Поезд на Ереван уходит через час.
Ошеломленный услышанным, Арутинов пытался возразить. Предвосхищая его доводы против, Маленков жестко сказал:
– Мы с Вами солдаты партии. К тому же вопрос о Вашем назначении согласован с тов. Сталиным.
– Но я даже языка армянского не знаю.
В разговор вмешался Микоян:
– У меня там друг, известный в республике учитель – Симак, он Вас за пару месяцев по языку натаскает.
Не прошло и получаса, а Арутинов уже покачивался в вагоне поезда на пути в Ереван, так и не успев предупредить жену, свою Нину.
29 сентября Арутинов собрал первое бюро новоизбранного ЦК. В разгар заседания загудел телефон спецсвязи.
Подняв трубку, Арутинов сказал:
– Привет, Лаврентий, слушаю тебя.
Выслушав Берия, Арутинов изменился в лице. Оказалось, в ночь на 29-е, зампредсовнаркома Грузии Артем Геурков, родной брат его жены Нины, застрелился. Берия сказал, что накануне на бюро ЦК его пропесочили за болтливость, а он возьми и застрелись.
То была первая травма, нанесенная Берия Арутинову. Второй удар последует чуть погодя, когда он узнает, что Берия расстрелял его родного брата как врага народа.
Скорый на расправы М. И. Литвин, начальник IV (Секретно-политического) отдела ГУГБ НКВД СССР, оставленный Маленковым и Микояном довершить дело по выявлению врагов народа в Армении, положил Арутинову на стол расстрельную «разнарядку» Москвы на 1500 душ. От этой цифры Арутинова бросило в дрожь, потемнело в глазах…
Красное колесо террора завертелось с новой силой. В. В. Хворостян*, новый назначенец в армянский НКВД, русский с молдавскими корнями, приступил к исполнению задания партии. В конце октября Литвин подготовил докладную записку о результатах работы его бригады. За месяц она арестовала 1183 человека, из коих 936 шли как дашнаки. За тот же месяц пять сотен были пущены в расход.
Статистика репрессий такова :

2 ноября первый секретарь Азизбековского райкома партии Армении Шмавон Арушанян назначается наркомом земледелия республики. Не успев освоиться на месте, он переводится в секретари контрольной комиссии при ЦК ВКП(б) по Армении. В его функции входило рассмотрение вопроса об исключении из партии взятых под арест коммунистов. Ему же поручен был разбор личных дел членов партии, находящихся на подозрении у НКВД.
Выслушав на одном из заседаний бюро бодрый доклад Арушаняна, Арутинов строго спросил:
– Если мы призваны дублировать справки НКВД, встает вопрос – а на что нам ваши новые расследования?
– Наши проверки подтверждают, что заключения НКВД правомочны, – Арушанян это преподнес так пафосно, словно принимал личное участие в разоблачении «врагов народа».
Такое рвение вызвало у Арутинова негативную реакцию: ему вдруг привиделось, что некто вроде Арушаняна точно так же докладывает на бюро ЦК Компартии Грузии о его брате Серго.
В конце декабря, когда за арестом второго секретаря Ереванского горкома партии освободилось место, Арутинов спроводил туда Арушаняна. И тот затаил обиду на первого.
16 ноября Арутинов получает секретное послание от члена Политбюро ЦК ВКП(б) А. И. Микояна. Тот напоминает Арутинову о его обещании подготовить предложения по устранению последствий вредительства в промышленности и сельском хозяйстве Армении. Выражая явное недовольство тем, что дело затягивается, Микоян завершил письмо словами: «Будьте любезны поставить меня в известность, что Вы намерены делать в этом направлении. Как и желательно с этим не тянуть, поскольку любое промедление неприемлемо».
Первый секретарь уловил между строк скрытую угрозу. Итак, он оказался меж двух огней: Ежов и его ставленник Хворостян вместо того, чтобы пресекать беззакония Аматуни и Мугдуси, свирепствовали сами. Арутинов обеспокоен был одним – как потактичнее изложить это Микояну, чтобы не усугублять положение в республике.
Обрисовав плачевное состояние животноводства в Армении в связи с актами вредительства в последние годы, а также ссылаясь на предумышленное заражение скота бруцеллезом, ящуром, сапом, чумой и сибирской язвой, как и сославшись на отсутствие коровников и кошар, Арутинов считает необходимым, чтобы центр дополнительно выделил ветеринаров и зоотехников, увеличил количество амбулаторий и ветлечебниц. Просил поставить стройматериалы – 3 тысячи кубов брёвен и столько же досок, 30 тонн гвоздей и 620 тонн цемента. При этом в докладной не указав кого-либо из «врагов народа».

Большой ценитель музыки Арутинов с женой не пропускали ни одной интересной постановки в Театре оперы и балета им. Спендиарова. После представлений он по обыкновению шёл за сцену, чтобы пожать руку артистам и музыкантам. Как-то раз, очарованный слаженной игрой оркестра, он пригласил главного дирижера Константина Сараджева к себе.
Дирижера он принял дома. Сараджев рассказал о своих поездках в Европу, в Москву и Ленинград, где дирижировал в больших симфонических концертах.
– А мы что, не можем и в Ереване проводить такие же замечательные концерты?
– Можем, будь у нас подходящий оркестр, – ответил дирижер.
И 14 декабря бюро ЦК КП(б)А вынесло решение: «С 1 января 1938 г. создать при Армфилармонии государственный симфонический оркестр в составе 60 исполнителей».
21 декабря Арутинов на бюро ЦК поднимает вопрос об издании сочинений классика армянской литературы Ованеса Туманяна в 6 томах, «Избранного» на армянском и русском языках. Решено было поэту и памятник поставить в Ереване.
Через полгода Арутинов съездил в Лори, на родину народного любимца. Итогом этой поездки стало переименование родного села поэта Дсех в Туманян, а в его доме был открыт мемориальный музей.

Арутинов предложил Институту языка и литературы Армянского филиала АН СССР создать научный кабинет Ов. Туманяна, сосредоточив там его архив и все издания его произведений. Тронутая столь пристальным вниманием к творчеству мужа, вдова поэта Ольга Васильевна передала в дар республике всё его рукописное наследие и личный архив. Совнарком объявил всё это государственным достоянием и премировал Ольгу Васильевну и дочь поэта Нвард 10 тысячами рублей, подняв размер месячного пособия семье до 500 рублей.
В начале 1938 года Хворостян подает Арутинову докладную записку, в которой была обрисована зарубежная деятельность поэта Аветика Исаакяна, его связи с партией Дашнакцутюн и его антисоветские выпады.
– А что, возвращение Исаакяна в Советскую Армению, тов. Хворостян, Вам ни о чем не говорит? – испытующе глядя в глаза чекисту, спросил первый секретарь ЦК.
У того даже веко не дёрнулось.
В одной из бесед с Арутиновым Исаакян обронил: «Мы уже не дашнаки. Так кто же мы теперь? Армянами стали». Спустя годы поэт напишет проникновенное письмо Арутинову: «С чувством глубокой признательности сообщаю Вам, что получил от горсовета Еревана виллу, по ул. Баграмяна 27, которую Вы построили для меня».
С легкой руки Исаакяна за Арутиновым закрепилось прозвище – «Гриша-шинарар», то есть «Григорий-строитель». Возведенные при нем архитектурные шедевры и сегодня украшают столицу Армении.
3 февраля на партактиве г. Еревана с докладом «Об итогах январского пленума ЦК ВКП(б)» выступил Арутинов. Первый секретарь отметил, что в отдельных парторганизациях при обмене партбилетов допущены серьезные ошибки: «Зачастую, совершенно необоснованно, из партии изгонялись коммунисты, их объявляли врагами народа… По всей Армении из партии исключены 1796 человек, то есть 8,7 процента от общего числа коммунистов республики… Так, в Амасийском районе за бортом остались 33,4 процента членов партии…
Большая часть исключенных обратилась с жалобой в вышестоящие партийные органы. На основании этих заявлений Партколлегия пересмотрела по Сисианской парторганизации 23 дела и восстановила в партии 19 человек, по Капанской – 21 из 25, по Горисской –14 из 17, по Мегринской – 13 из 16…»
Из доклада партактив узнал и о других безобразиях: «Парторганизация села Баяндур Горисского района рассмотрела дело члена партии Исраела Акобяна, которому были предъявлены 42 обвинения. Ни одно из них не подтвердилось, однако клеветники наказания не понесли. Остались безнаказанными и председатель колхоза села Хндзореск того же района Багдасарян, выдвинувший 30 обвинений против членов парторганизации, и председатель сельсовета села Шинуайр А. Маилян, автор более 20 наветов, хотя ни один из приведенных ими фактов не подтвердился…»
Надо отдать должное партийной принципиальности Арутинова. Не стоит забывать, что на дворе стоял февраль 38-го.
Я выхватил из доклада ещё один пример, подтверждающий гражданское мужество первого секретаря ЦК. Из 854 снятых в 1937 году с работы учителей 752 были восстановлены на работе по его заступничеству.
В июне состоялся XI съезд КП(б)А, на котором выступил нарком внутренних дел Хворостян. Он сообщил делегатам, что органами НКВД обнаружен схрон священнослужителей Эчмиадзина, умудрившихся запрятать на глубине двух с половиной метров 15 пудов серебра и 3,5 кг золота, и что всё это изъято в пользу государства. А ещё добавил, что часть антисоветски настроенных священников уже наказана, остальные ждут своего часа.
30 июля Хворостян положил на стол Арутинову проект решения ЦК КП(б)А «Об Эчмиадзинском католикосате», настаивая на немедленном обсуждении вопроса на бюро, и как бы между прочим намекнул, что копия документа направлена Ежову. 4 августа под нажимом начальника НКВД первый секретарь ЦК созвалтаки бюро.
Из решения бюро: «Принимая во внимание, что имеющиеся материалы изобличают католикосат Эчмиадзина в активной борьбе против Советской власти и армянского народа, закрыть Эчмиадзинский монастырь и превратить его в музей, не избирать нового католикоса и упразднить центр армянского духовенства – католикосат Эчмиадзина».
По настоянию Арутинова в решение добавили строчку: «Просить ЦК ВКП(б) утвердить». Хворостян хотел было возразить, это, мол, вопрос местного значения, сами управимся. В ответ он услышал: «Эчмиадзин, как духовный центр армянства, имеет международный вес и значение. Вот почему вопрос этот следует согласовать с ЦК ВКП(б)».
Григорий Артемьевич надеялся выиграть время. И он не ошибся в своих надеждах. Не прошло и месяца, как по спецсвязи с ним связался Сталин:
– Тов. Арутинов, Вы всё ещё настаиваете на закрытии католикосата?
Сама постановка вопроса подсказывала Арутинову ответ:
– Нет, Иосиф Виссарионович, не настаиваю.
– Ну и ладно.
Так вопрос об упразднении Эчмиадзина был закрыт. Ежов с Хворостяном рвали и метали…

8 июля Арутинов выносит на бюро ЦК вопрос о присвоении звания народного артиста Армянской ССР Рачья Нерсисяну, исполнителю роли секретаря большевистского подполья, и Авету Аветисяну, исполнителю роли дашнакского спарапета Нжде в фильме «Зангезур». Один из бдительных членов бюро недоуменно вопрошает: «Что подумает народ, если мы дадим звание народного артиста исполнителю роли дашнакского хмбапета?» Мягко улыбнувшись, Арутинов заметил: «Мы не спарапета награждаем, а отмечаем мастерство актерского исполнения».
Арутинов всё чаще отказывался подписывать приговоры «тройки», куда, кроме него и Хворостяна, входил и прокурор республики Арам Арутюнян. Первый секретарь не раз напрямую обращался к Сталину, сетуя на самоуправство Хворостяна.
В декабре 1938 года в кабинете Арутинова состоялся нелицеприятный разговор с начальником НКВД. Выйдя от него, Хворостян отбыл… в Дилижан – на отдых. На целых два с половиной месяца.
…В 5 час. 30 мин. вечера 28 февраля 1939 года, в самый разгар заключительного заседания XII съезда КП(б)А, сменивший к концу 1938 года Ежова Берия позвонил Арутинову и известил его о том, что «мерзавец Хворостян арестован». Съезд, выйдя из оцепенения, лишает Хворостяна мандата делегата. Когда дошла очередь до выдвижения делегатов на XVII съезд ВКП(б), с места поднялся некто Мисак Арменян и бросил в лицо Арутинову: «Хворостян был у Вас членом бюро ЦК, и Вы наравне с ним должны нести ответственность за всё».
Арменяна кинулся поддерживать только что освобожденный от должности 3-й секретарь Спандарянского райкома партии Еревана Мацо Наапетян: «Это Вы и Ваше бюро облекли негодяя Хворостяна безграничными полномочиями…»
При тайном голосовании выяснилось, что против кандидатуры Арутинова из 415 делегатов проголосовали 48.
Ещё в мае-августе 1937 года спецкор газеты «Правда» по Армении Михаил Котляров опубликовал серию материалов, порочащих республику в глазах всесоюзного читателя. Первый секретарь ЦК КП(б)А Аматуни пожаловался на него Сталину. Однако Котлярова не тронули. И он продолжал чернить Армению.
11 февраля 1939 года на заседании бюро ЦК Арутинов в упор спросил у спецкора:
– И где Вы только находите эти грязные измышления? Тот потупил взор.
Спустя несколько дней Арутинов позвонил лично Сталину и передал решение бюро о нежелательности пребывания Котлярова в Армении. 23 февраля ЦК ВКП(б) отозвал того в Москву. 18 июня 1939 года на Красной площади в Москве в рамках торжеств в связи с 1000-летием эпоса «Давид Сасунский» была разыграна сценка из эпического сказа. На глазах у тысячи зрителей Сасунци Давид, национальный герой армян, одолел в жестоком поединке захватчика Мсра Мелика, символа тьмы и насилия.
А 18 сентября на площади Ленина в Ереване состоялся физкультурный парад, который открывал исполнитель роли Давида Сасунского, рекордсмен мира по тяжелой атлетике Серго Амбарцумян – в доспехах героя. Его проход по площади не остался незамеченным стоящим на трибуне Арутиновым. По его распоряжению Серго Амбарцумяну была назначена персональная пенсия.
По итогам арестов и расстрелов 39-й год выглядит куда утешительней. Готов приписать это не только спаду волны репрессий по стране, но и человеколюбию Григория Артемьевича. За год было арестовано 765 человек. 462 из них были либо отпущены на волю, либо дела против них были прекращены. Под высшую меру наказания подпало 5 человек, столько же умерло под следствием. Остальные отделались сроками заключения от года до 20 лет.
19–20 ноября 1941 года Арутинов созывает пленум ЦК. Из его сообщения следует, что колхозники за счет своих трудодней поставили фронту 6875 центнеров зерна, 1536 – картофеля, 1644 – овощей, 46,3 – сливочного масла, 177,5 – сыра, 25 – шерсти, 389 – сена, 2936 – соломы и 1 миллион 398 тысяч рублей наличными. Отчитался первый секретарь и о том, что в фонд обороны страны республика внесла 29 миллионов 400 тысяч рублей.
В связи с этим Арутинов рекомендует за посильный вклад в разгром врага наградить руководителей среднего звена Почетной грамотой Верховного Совета Армении. Привожу фамилии первых пяти по алфавиту из 58 награжденных: Абрамян Макар – председатель колхоза села Караундж Горисского района, Аветян Аваг – председатель колхоза села Мартирос Азизбековского района, Акопян Геворг – инженер-гидротехник Наркомата водного хозяйства, Амирханян Арам – начальник строительства Арзнинского стекольного завода, Андреасян Степан – председатель сельского Совета села Дарбас Сисианского района.
В начале августа 1943 года Арутинов с профессором А. Мелик-Адамяном, побывав в Джермуке, решили организовать там лечение раненых бойцов. И уже 21-го Арутинов выносит на бюро вопрос о приемке солдат и офицеров с фронта. К середине 1944-го число коек в Джермуке довели до 130. В то же время была начата подготовка к розливу минеральной воды. Этим Арутинов определил будущее города-здравницы.
На встрече со Сталиным в октябре 1943 года Арутинов доложил Верховному главнокомандующему о большом вкладе Святого престола Эчмиадзина в борьбе Красной Армии против фашизма и о посильной помощи Советской Армении. И тотчас попросил вождя дать добро на создание Совета по делам Армянской Церкви. В ноябре Совет приступил к работе. Идя навстречу пожеланию викария Католикоса всех армян Геворга Чорекчяна, в состав Совета ввели языковеда Рачия Ачаряна и зодчего Каро Кафадаряна.
* Хворостян Виктор Васильевич (1903–1939). В органах ВЧК с 1921 г. В 1931–37 гг. – начальник Особого отдела полпредства ОГПУ–УГБ НКВД по Казахстану, начальник Транспортного отдела УГБ НКВД Белоруссии. С октября 1937 г. – нарком ВД Арм. ССР. В феврале 1939 г. арестован органами НКВД. Умер в тюрьме во время следствия.
29 октября 1943 года, в разгар войны, по предложению Арутинова ЦК ВКП(б) с одобрения Сталина принимает решение о воссоздании Армянского филиала Академии наук СССР, заложенного ещё в марте 1935 года. И уже 21 ноября ТАСС сообщает об образовании самостоятельной академии наук Армянской ССР. 25-го решением Совнаркома республики был утвержден список из 23 действительных членов академии. А 29 ноября, в День советизации Армении, состоялось первое общее собрание ученых. Президентом академии единодушно был избран Иосиф Орбели, вице-президентом – Виктор Амбарцумян.
В начале 1944 года в Москве с успехом прошли Дни армянской музыки, что подвигло Арутинова взяться и за организацию представительной выставки армянских художников в стенах Третьяковской галереи. На выставке, открывшейся 15 сентября, было представлено более 500 работ – живопись, графика и скульптура.
Иностранные дипломаты, понемногу возвращавшиеся в столицу СССР, были изумлены и очарованы источающими свет и радость полотнами Мартироса Сарьяна и молодой поросли национальных талантов.
29 февраля в торжественной обстановке Армения передала танковую колонну «Давид Сасунский» N-ской воинской части. Инициатором сбора средств выступили архи-епископ Геворг Чорекчян и Арутинов. Внесли свою лепту и зарубежные армяне: в Америке собрали 95 600 долларов, в Тавризе – 120 тысяч реалов, в Исфагане – 30 тысяч туманов, на Кипре – 2 тысячи фунтов стерлингов…
В июне Арутинов с ведома ЦК ВКП(б) пригласил в Ереван именитого историка, академика Евгения Тарле, несомненного авторитета в области русско-турецких отношений. Они обсудили все аспекты вопроса о слиянии Западной Армении с Арменией Советской – ради и во имя исторической справедливости.
Тарле представил в ЦК ВКП(б) подробную справку по поднятому вопросу, направив копию Арутинову. Обсуждение вопроса у Сталина хоть и состоялось, но, как ни больно, решения принято так и не было.
1 июля Армянская ССР получила свой государственный гимн на слова Сармена и музыку Арама Хачатуряна. Арутинов был несказанно рад, что ему удалось привлечь к работе Арама Ильича. Они дружили. Арутинов построил для мировой известности композитора виллу, куда Хачатурян охотно приезжал.
Из воспоминаний Арама Хачатуряна:
«Григорий Артемьевич в моей биографии сыграл огромную роль, так как благодаря ему я начал думать, что армянское – это главное зерно, которое должно быть отражено у меня в творчестве.
… Это был очень красивый человек, высокий, стройный, широкоплечий, с умным, благородным лицом, умными, пронизывающими глазами, внимательный к людям».
7 сентября 1944 года 23 школы республики, воспитавшие Героев Советского Союза, были отмечены Почетной грамотой Верховного Совета Армении. В трёх из них учились по два Героя: в ереванских школах им. Спендиарова – мл. лейтенант Григор Арутюнян и капитан Геворг Акобян, и им. М. Горького – гвардии капитан Нельсон Степанян и ст. лейтенант Арташес Арутюнян, в школе села Брнакот Сисианского района – сержант Липарит Исраелян и капитан Самсон Мкртумян.
Война ещё гремела на западных границах страны, а Арутинов 13 февраля 1945 года собирает бюро ЦК. Решали, как отметить 150-летие со дня смерти поборника дружбы народов Закавказья – Саят-Новы.
Вечер памяти великого песнопевца состоялся 25 сентября в Театре оперы и балета. А ещё в августе Арутинов пригласил в Ереван московских поэтов-переводчиков Веру Звягинцеву, Арсения Тарковского и Константина Липскерова. Они перевели с армянского, грузинского и азербайджанского 87 блистательных стихотворений великого ашуга. В те же дни и стал всеобщим достоянием портрет работы Рачья Рухкяна «Саят-Нова».
Стараниями Арутинова 15 апреля состоялась встреча викария Католикоса всех армян Геворга Чорекчяна со Сталиным. «Отец народов» оказал ему теплый прием, справился о здоровье гостя и горячо поблагодарил его за весомый вклад Армянской Церкви в общее дело – разгром врага.
Г. Чорекчян вручил Сталину письмо, в котором просил позволить возродить духовную семинарию со сроком обучения в шесть лет, вернуть Эчмиадзину его библиотеку, разрешить вновь открыть типографию, строго очертить территорию Эчмиадзинского монастыря, возвернуть Эчмиадзину храмы Рипсимэ, Гегард и Хор-Вирап, а также поспособствовать реконструкции храма Звартноц по проекту архитектора Тороса Тороманяна. 19 апреля Сталин наложил на прошении викария резолюцию – «Согласен. Председатель Совнаркома Союза ССР».

6 июня далеко за полночь Сталин принял Арутинова, и, как обычно, вне очереди. Сталин взял из его рук письмо, в котором был поднят вопрос о восстановлении границ с Турцией по состоянию на 1914 год.
Вникнув в суть документа, Сталин признал, что в 1921 году Турция воспользовалась тяжелым положением России, отхватив часть земель Армении. И тут же поручил министру иностранных дел В. М. Молотову представить ему подробные карты границ Российской империи с Турцией 1914 года и Советской России –1921 года… 27 октября Арутинов вновь в Москве. Он полон надежд на возвращение армянских земель, аннексированных Турцией, и готов обсудить с вождем условия репатриации зарубежных армян на историческую родину.
Не успел Арутинов переступить порог сталинского кабинета, как Хозяин двинулся ему навстречу со словами:
– Тов. Арутинов, знаю, что армяне несколько разочарованы тем, что вопрос объединения армянских земель так и не решился. Но мы уведомили наших союзников и Турцию, что Советский Союз не снимает с повестки дня предъявленные Турции территориальные претензии.
Выслушав Сталина, Арутинов сказал:
– И тем не менее более 300 тысяч зарубежных армян рвутся на родину – в Советскую Армению.
– И как Вы себе это представляете?
– Прежде всего, тов. Сталин, надо устранить вопиющую несправедливость.
– Что Вы имеете в виду, тов. Арутинов?
– Как я Вас понял, Иосиф Виссарионович, вопрос о возвращении земель, отторгнутых Турцией, решаться будет не один год. По этой причине я буду просить вас разобраться в вопросе с Нагорным Карабахом и Нахичеваном.
На этих словах Арутинов протягивает Сталину письмо, текст которого привожу без купюр и сокращений:
«Иосиф Виссарионович!
Нагорно-Карабахская автономная область, примыкающая к территории Армении, с 1923 г. входит в состав Азербайджанской ССР.
Население этой области является в основном армянским.
Из 153 тыс. населения – 137 тыс. является армянским.
Сельское хозяйство Нагорного Карабаха является аналогичным с горной частью Армении. Вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении намного способствовало бы развитию его, улучшилось бы руководство хозяйством.
Массово-культурное и политическое обслуживание населения на родном языке усилилось бы при руководстве со стороны республиканских органов Армении.
Вхождение Нагорно-Карабахской области в Армению дало бы возможность местным кадрам продолжать высшее образование на родном языке в вузах Армении. С другой стороны, Армянская ССР могла бы получать национальные кадры из Нагорно-Карабахской области, которые отличаются своей деловитостью и в настоящее время, естественно, не могут быть полностью использованы в Азербайджане.
Исходя из этого и желания населения Нагорного Карабаха, Центральный Комитет и Совнарком Армении вносят на рассмотрение ЦК ВКП(б) и Союзного Правительства вопрос о включении в состав Армянской ССР НагорноКарабахской автономной области Азербайджанской ССР в качестве Карабахской области.
При положительном решении этого вопроса ЦК и Совнарком Армении войдут в Правительство с предложением о восстановлении бывшего центра Карабаха города Шуши, разрушенного перед установлением Советской власти».

Вчитавшись в документ и между строк, Сталин раздумчиво спросил:
– Вы что, думаете внутри Советского Союза решать пограничные вопросы куда проще?!
– и добавил: – А с Багировым Вы обговаривали это?
– Нет, разговора на эту тему у нас не было.
22 февраля 1946 года председатель Совмина СССР И. В. Сталин подписывает исторический документ о практических мерах по репатриации зарубежных армян в Советскую Армению. Согласно этому постановлению назначаются и ответственные лица в ранге первого или второго секретарей посольств СССР в Болгарии, Греции, Иране, Румынии, Сирии и Ираке.
И 26–27 февраля пленум ЦК КП(б)А ставит на обсуждение вопрос о приеме и размещении армян, пожелавших перебраться в Армению.
Уже 1 марта Совнарком республики делегирует своих представителей во все эти страны, за исключением Ирака, но с включением в список Ливана. И потянулись домой караваны страждущих родины. 27 июня в батумский порт прибыл теплоход «Трансильвания» с 1806 армянами на борту – из Дамаска и Бейрута…
В одном только 1946-м домой, на родину предков, воротилась 10 801 семья – 50 945 человек. А к 1 марта 1948 года репатриантов в Армении насчитывалось уже 86 346 душ.
10 августа 1947 года для зарубежных армян прошла первая радиопередача – «Говорит Ереван». С этого дня все программы на диаспору начинались с этих двух магических слов.
В начале июня 1949 года в Ереван прибывает нарком внутренних дел СССР С. Н. Круглов. Утром 13 июня генерал-полковник заявился в кабинет к первому секретарю ЦК КП(б) Армении. На руках у посланника заместителя предсовмина СССР Л. П. Берия был многостраничный список граждан Армении, подлежащих аресту и высылке: то были частью репатрианты и частью побывавшие в немецком плену.
Арутинов нахмурил брови: «Сергей Никифорович, может, Вы объясните мне, по какой причине должны быть высланы и кавалеры ордена Ленина?» Не дав опомниться Круглову, Арутинов задал второй вопрос: «Как в этом списке оказался репатриант Смбат Бороян?»
– Он один из видных деятелей партии Дашнакцутюн, враг Советской власти, – твердым голосом отчеканил нарком.
– Генерал! Вы глубоко заблуждаетесь, – возразил Арутинов, – Смбат Бороян (один из сподвижников генерала Андраника Озаняна. – Г. М.) ещё в 1942 году проявил мужество, отказавшись сотрудничать с фашистской Германией. Тогда же он и оставил ряды партии дашнаков.
Арутинов настоял на том, чтобы списки были тщательно пересмотрены. На что Круглов ответил было отказом, но Арутинов был тверд и в присутствии генерала дал команду по инстанциям – изъять из списков фамилии всех отмеченных правительственными наградами.
Круглов вмешиваться в это не стал, и многие ни в чем не повинные люди были спасены. Не тронул Круглов и Смбата Борояна, администратора парка им. Комитаса.

Ашот Ованнисян, первый секретарь ЦК КП(б)А в 1922–27 годах, вернувшись из мест заключения, поселился в Кировакане (ныне Ванадзор). В 1951-м он перебрался в Ереван.
14 ноября того же года на пленуме ЦК был поднят вопрос об уровне преподавания общественно-политических дисциплин в вузах республики. На обсуждение приглашен был и Ашот Ованнисян. Один из участников пленума бесцеремонно выкрикнул:
– И кто только позволил этому отщепенцу дышать воздухом нашей столицы?
– Я разрешил, – поднявшись с места, внятно произнес Арутинов, – или вы полагаете, что в прошлом первый секретарь ЦК Компартии Армении не имеет права жить в своем Ереване?!
Из решения бюро ЦК Компартии Армении от 6 июня 1953 г.:
«Ввиду наличия ошибок, допущенных при осуществлении приказа МГБ СССР от 28 мая 1949 г., считать необходимым провести проверку всех дел на лиц, высланных в 1949 г. из пределов Армянской ССР в Алтайский край».
С этой целью Арутинов откомандировал туда министра ВД республики. Вскорости уцелевшие из высланных стали возвращаться домой.
Арестовав Берия, Н.С.Хрущев в начале июля 1953 года созвал пленум и вызвал на ковер всех первых секретарей республик и областей. Втоптав в грязь первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Багирова (будет расстрелян Хрущевым в 1956 году), распоясавшийся Никита накинулся на Арутинова с непотребной бранью.
– Выбирайте выражения, тов. Хрущев, – осадил его Арутинов.
На подмогу Хрущеву вылез Маленков:
– Ты не очень-то тут задавайся, ставленник Берия!
Вспомнив, как Маленков с Микояном горячо увещевали его занять пост первого секретаря в Армении, Арутинов поискал глазами Анастаса Ивановича. И нашел, но Микоян стыдливо отвел взгляд…
Григорий Артемьевич учуял, что ему не сдобровать. Допустил даже мысль, что и арестовать могут.
14 июля на пленуме ЦК КП Армении Арутинов выступил с сообщением «Об антипартийных и антигосударственных преступных действиях Берия». В прениях приняли участие 26 человек. Казалось, обсуждение шло в размеренном русле.
Попросив слова, министр автотранспорта и шоссейных дорог республики Шмавон Арушанян начал с резкостей:
– Ставленником извращенца Берия в Армении является Арутинов-Арутюнов-Арутюнян. Что я могу привести в подтверждение своих слов? Вот уже 17 лет Арутинов работает в Армении, и все эти годы он здесь был проводником политики Берия, гнул его линию.
Зал заволновался. Арушанян вошел в раж:
– В Армении Арутинов кадры расставлял по указке Берия.
Обвинив Арутинова во всех смертных грехах, Арушанян бросил в лицо первому секретарю:
– За что вы подвергли меня гражданской казни?.. Я что, не в состоянии вести политические кампании?! За что вы меня гноили все эти годы? Отчитайтесь перед пленумом.
Дав ему излить всю желчь, Арутинов вставил:
– Тов. Арушанян, не забывайтесь, вы у нас всего лишь министр, а не апостол.
Свою гневную тираду Арушанян заключил словами:
– Тов. Арутинов недостоин занимать пост первого секретаря Компартии, ему не место в ЦК, да и вообще в нашей партии.
Заодно Арушанян призвал разобраться и с предсовмина А. Е. Кочиняном – за развал сельского хозяйства.
Видимо, дала о себе знать заноза 37-го года, когда Арутинов перевел Арушаняна в секретари Ереванского горкома. Здесь нелишне вспомнить о том, что не прошло и месяца, как Арутинов поставил Арушаняна министром. Тот убыл в Москву за утверждением в должности и, плотно пообщавшись с хрущевским окружением, получил добро на откровенную травлю первого лица республики.
Смещение Арутинова с поста первого секретаря готовили в обстановке откровенной враждебности.
Из воспоминаний приемной дочери Арутинова Нами Микоян:
«Наконец был назначен пленум ЦК КП Армении. Приехал из Москвы Поспелов, тогда секретарь ЦК КПСС. На вокзале его встречали Арутинов и всё руководство. Арутинов стоял один, никто к нему не подходил, все знали, зачем едет Поспелов. Поспелов вышел из вагона, даже не поздоровался с Арутиновым…»

28 ноября 1953 года очередной 8-й пленум ЦК КП Армении начал работу. В президиуме сидели П. Н. Поспелов и члены бюро ЦК. Из воспоминаний поэтессы Сильвы Капутикян:
«Атмосфера в зале царила крайне тяжелая и напряженная. В первом ряду сидел Арутюнян. Сидел один, погруженный в собственные мысли. Пусты были не только соседние кресла – целиком пустовали второй, третий и четвертый ряды. Люди, которые ещё вчера сочли бы за великую честь хотя бы несколько секунд побыть рядом с «хозяином» и, быть может, пропеть ему при этом восторженный дифирамб, сегодня предпочитали держаться от него подальше».
Редкие голоса в защиту Арутинова потонули в хоре оскорблений… Не остался в стороне и второй секретарь Ереванского горкома партии Сурен Товмасян: «В 1942–43 гг. Арутинов был частым гостем у Берия и Кобулова (зам. наркома НКВД СССР. – Г. М.)… Они регулярно поздравляли друг друга с Новым годом».
По настоянию Поспелова первым секретарем ЦК компартии Армении был избран Сурен Акопович Товмасян.
Февраль 2009 года. На пороге своей крохотной московской квартиры привечает меня любезная Нами Артемьевна Микоян, любимица Григория Артемьевича и Нины Григорьевны. Стены теплого армянского дома увешаны фамильными фото, картинами армянских художников. Там же ковер, сотканный её бабушкой. На полках диски с записями музыки сына – Стаса Намина, внука А. И. Микояна.
Теперь о том, как Нами оказалась в семье Арутиновых. После трагической гибели отца, Артема Геуркова, павшего жертвой козней Берия, бездетные Арутиновы её удочерили. Отец Нами был ближайшим другом Григория Артемьевича и родным братом его жены Нины. А с семьей Микояна Нами породнилась в 1950-м, выйдя замуж за Алексея, сына Анастаса Ивановича.
Четыре часа непринужденной беседы пролетели незаметно. Тихий голос Нами, недавно отметившей свое 80-летие, ласково журчал:
– Когда Григорий Артемьевич ушел с поста, Товмасян великодушно предложил своему предшественнику место председателя захудалого совхоза близ Еревана. Начисто лишенный амбиций отец, которого я всегда звала дядей, взялся за дело и за два года вытащил хозяйство в передовые.
При этом уклад семьи остался неизменным. Тетя хлопотала по дому, тайком от мужа строчила на машинке свои «фирменные» белоснежные салфетки и скатерти… Они продолжали жить в особняке ЦК, но охрану уже сняли, и родители понимали, что их скоро оттуда попросят. Григорий Артемьевич то и дело повторял за чаем: «Я с 1919 года в партии, неужели мне не дадут крышу над головой?»
Но, как я поняла, никто их жильем обеспечить и не собирался. Сердцем угадав, что надо делать, я рванула в Ереван. Напросилась на прием к первому секретарю ЦК. Меня трясло. Встав из-за стола, навстречу мне шагнул человек с грубыми, крестьянскими чертами лица. От меня не укрылось, что взволнован и Товмасян. Отлегло от сердца, и я в упор задала ему вопрос: «Где будут жить мои родители?» Ответ меня ошарашил: «Пусть уезжают». Я вспыхнула: «Арутинов сюда не в гости ехал, им некуда податься». «А что, у него нет квартиры в Москве и Тбилиси?» – прошипел он лукаво. «Представьте, нет, – ответила я, – ни там, ни там».
Я нутром чуяла, что этот карьерист не может не принять во внимание, что я живу в семье Микояна, члена правительства. «Ладно, будет им квартира. А как там Арутинов? Как его настроение?» Вторая половина фразы прозвучала уже мне вслед. Резко обернувшись в дверях, я дерзко бросила: «Когда вас будут снимать, вы мне скажете о своем настроении».
Не прожив в небольшой квартире и года, родители обменяли её на Тбилиси. Работы там не нашлось… Жить становилось всё труднее. А тут и старые болезни дали о себе знать… В 1955-м Арутинова вызвали в Москву, в комиссию партконтроля. Вернувшись с очередного допроса, мой дорогой дядя сказал мне: «Вот в один из таких дней он и покончил с собой, твой родной отец».
«Летом 1957 года, после перенесенного Арутиновым обширного инфаркта, я привезла его на лечение в Москву… 9 ноября его не стало. В последний путь Арутинова провожал весь Тбилиси. Город помнил о его добрых делах. Запала в память скупая надпись на ленте одного из венков – «Грише от Нины». Она пережила мужа всего на полгода…»
P. S. Уже опубликовав эскиз об Аматуни, я набрел в архивах на след, ведущий к месту, где 28.VII.1938 г. оборвался земной путь А. С. Аматуни. Это расстрельный полигон «Коммунарка» на 24-м километре от Москвы по Калужскому шоссе. По иронии судьбы там же были расстреляны и два других первых секретаря ЦК КП(б) Армении – Г. С. Алиханян (13.II.1938) и А. А. Костанян (21.IV.1938).
-
Филипп Виделье
Турецкая ночь
Отрывки из романа
Мне довелось узнать, о счастливый читатель, наделенный хорошими манерами, что в прошлом у Турции была дурная репутация в Европе. А посему, когда грянула революция, Европа весьма возрадовалась. Турция обрела конституцию, парламент. На улицах люди обнимались от радости. Повсюду собирались шумные и веселые толпы мужчин в канотье и женщин в шляпках или с непокрытой головой. Европа, как и Турция, была удовлетворена. Турок можно понять. Они такие же люди, как мы все. Новые властители выглядели так же, как и любой из их соотечественников. Они носили костюмы, жилеты, галстуки, зачастую на их лицах красовались усы. Иногда они носили фески, которые еще были в моде в период революции. Они свободно говорили на нескольких языках. Слог у них был отточенным. Они не жалели едких, а иногда и жестких слов для характеристики прежнего режима, жестокого и кровавого режима султана Абдул-Гамида, тирана, на которого никто не мог смотреть равнодушно. Один из его современников, человек цивилизованный, революционер, друзья которого придумали для него псевдоним "Философ", потому что он знал Платона, каббалу и даже великие идеи социализма, так вот человек этот говорил о султане: "Внешне он непривлекателен, даже уродлив, но он гораздо уродливее в нравственном отношении".
До великого переворота, который вынудил его покинуть дворец Ильдиз, султан Абдул-Гамид никогда не фотографировался. Но отныне все знали, на кого он похож. Фотография султана, которая сохранилась, была сделана именно в это время немцем Отто Килем. На клише можно увидеть одряхлевшего деспота с некрасивым лицом, оттопыренными ушами, втянутыми плечами. Объектив фотоаппарата оказался жестоким. И все-таки менее жестоким, чем сам султан, который посылал на смерть сотни и тысячи подданных Оттоманской империи. Прежде чем умереть, эти люди подвергались жесточайшим пыткам.
"В противном случае я напущу своих фанатиков", — имел обыкновение изрекать султан, когда сообщество наций делало вид, что не одобряет действий султана. Время от времени он напускал их на меньшинства, которые проживали в городах и провинциях страны. Издалека он следил с наслаждением за тем, как осуществлялась его политика. Это не могло остаться незамеченным. "Город в огне и в крови", — телеграфировал французский консул из Диарбекира своему послу в Блистательной Порте (2 ноября 1895 г., час ночи). "Немедленно сообщите мне, кто виновен в подстрекательстве, кто является зачинщиком последней провокации. Угрожает ли что-либо армянам?" — беспокоился возвратившийся посол (тот же день, полдень). Новое послание: "Великий визирь утверждает, что началом конфликта послужило нападение армян на мечеть. Так ли это?" (2 ноября, 16 часов). Шифрованный ответ: "Нападение армян на мечеть — выдумка чистой воды. Резня продолжается весь день, и конца ей не видно". Массовые убийства шли три дня и три ночи. Когда исступление убийц несколько поутихло, когда трупы были подобраны, а город вновь погрузился в первобытное оцепенение, консул Мерье составил обстоятельный отчет о событиях, имевших место в Диарбекире и в провинции. В меру возможного он подсчитал количество трупов, а затем, как это делают современные статистики, пересчитал их согласно критериям, принятым в Империи тирана Абдул-Гамида. Армяне: 1000 убитых, 1500 разграбленных домов, 2000 сожженных и разграбленных лавок; ассирийцы-якобиты: 36 погибших, о которых было объявлено, 155 убитых в действительности, 200 разграбленных лавок; халдеи: 14 убитых, 78 разграбленных лавок; ассирийцы-католики: 3 погибших, 30 разграбленных лавок; греки: 3 погибших, 15 разграбленных магазинов; протестанты: 11 убитых, 51 дом разграблен. Консул характеризовал агрессоров, исступленных бандитов и убийц, организаторов погромов, то как "мусульман", то как "курдов" — в зависимости от того, каких эпитетов требовал контекст. Консул констатировал то, что видел собственными глазами. Он писал: "Полиция и армия вмешивались только для того, чтобы добивать жертвы". 119 деревень в округе были превращены в пепелища, а число погибших и пропавших без вести, по мнению консула, достигало 30 тысяч. Консул продолжал свой отчет: "Рассказывают об актах, совершенных с неслыханной жестокостью. Эти крики: "Хавар, хавар!" (На помощь!) раздаются еще в моих ушах, и когда я думаю об этом, меня бросает в дрожь. Никто не смог бы объяснить, что было причиной этой дикой ненависти, которая время от времени по воле султана выливалась в массовые убийства. Что же все-таки было причиной этой ненависти? Религия, национальность, социальное положение, язык?"
"Отпусти нас в Стамбул, Хозяин разрешил убивать армян", — требовали слуги, батраки как в городе, так и в провинции, когда до них дошла весть о резне. Wir mukate leyi azime. "Отпусти нас в Стамбул, Хозяин разрешил". Пятница была самым благоприятным днем. Двери домов, расположенных в кривых улочках квартала Хас-Кен, были помечены мелом. Ошибку не прощали, ошибка приравнивалась к кощунству. "Этот гявур, этот неверный. Хозяин позволил убить его". Они приплывали к вечеру на лодках или переходили большой мост. Они были хорошо организованы, дисциплинированы. Они были вооружены железными прутьями, ятаганами, длинными острыми тесаками, топорами, резаками. Они заходили в деревянные дома, тащили людей за руки, за ноги, за волосы и наносили удары, резали, рубили саблями... а потом все затихало. "Свиные ножки на продажу!" — кричали убийцы, заливаясь смехом. Кровь лилась струей, текла по уличным канавкам, огибала каждую неровность почвы". Сопаджи избивали безжалостно взрослых, детей, женщин в ярких платьях, седеющих усатых мужчин, сапожников, бакалейщиков, портных, всех, кто умел писать и читать. Они превращали в кошмарное месиво головы. Затем уходили с добычей. Они забирали все: деньги, украшения, мебель, медные краны, поношенную одежду, кожаные сандалии. Они имели на это право: "Хозяин позволил!" А потом как по мановению волшебной палочки все приводилось в порядок. Военные, служившие в провинции, сообщали своим семьям об исполненном долге. "Брат мой, мы убивали армян... Все они теперь годятся на корм собакам... Если же вы меня спросите, как поживают солдаты и башибузуки, могу вам сообщить, что они не потеряли ни капли крови". Солдаты чувствовали себя хорошо. Задание было легким, им не угрожала опасность.
Случайно оказавшаяся в этих местах француженка, жена агента торгового судна, вела в своем дневнике хронику событий. "На рынке убили всех... Ни один армянин не уцелел... Солдаты разгуливают по улицам, нагруженные добычей. Руки у них в крови. Всех пекарей и булочников зарезали. Надо печь хлеб... Весь город пропитан трупным запахом. Жители города вынуждены закрывать окна... Еще очень долго только один вид мяса будет бросать нас в дрожь..."
Сэр Уильям Митчелл Рамзей — британец, опытнейший этнограф, получил образование в Оксфорде. Этому человеку доводилось много раз сталкиваться с самыми неожиданными проявлениями вандализма. Сэр Рамзей был весьма увлечен вопросами религии, папа Леон XIII наградил его золотой медалью. Для Рамзея эти массовые убийства были непонятными, необъяснимыми и даже шокирующими.
Сэр Уильям Рамзей, изучавший санскрит и османский (турецкий) язык, исследовавший безлесые горы Анатолии, комментировавший послания Св. Павла Тарского, знавший досконально письмена Семи Азиатских Церквей относительно Апокалипсиса, не смог прийти в себя от увиденного в Стамбуле. "Писатель, наделенный живым воображением, присущим Дюма, и знающий зло так же хорошо, как Золя, — писал Рамзей, — не сумел бы описать то ужасающее впечатление, которое производит резня на очевидца". Вопли, стоны, рыдания днем и ночью раздавались в Диарбекире, Трабзоне, Эрзинджане, Эрзеруме, Муше, Харпуте, Малатии, Битлисе, Ване, Кесарии, Адане, Урфе, Александретте. Рассказывали об ужасах, которые творились в этих местах. Тень смерти нависла над страной.
И тогда раздались отдельные, но мощные голоса в Европе: в Скандинавии, Германии, Англии, Италии и даже во Франции, министр иностранных дел которой смотрел на султана влюбленными глазами с молчаливого согласия президента. Социалист Жан Жорес, которым восхищался народ и который был избран депутатом Национального Собрания, поднялся на трибуну, чтобы заклеймить султана указующим перстом: "Все, что там происходит, делается по повелению султана, это он организовал массовые убийства, это он руководил действиями головорезов". Министр иностранных дел хмурил брови, сидя на своей скамье в Национальном Собрании. Он очень не любил, когда произносились подобные слова. Жорес клеймил войну, уничтожившую столько людей и залившую кровью Турцию. Жорес называл султана не иначе как головорезом и великим убийцей. Другие — левые, правые, центристы — думали так же, как Жорес. Клемансо, верный слуга Республики, осуждал в газете "Эко де Пари" этот мир, который позволяет творить подобное: "Когда читаешь рассказы заслуживающих доверия людей о сценах безумной дикости, невольно задаешься вопросом: в каком мире мы живем, чего стоит наша утонченная цивилизация, блага которой мы постоянно восхваляем?"
Султан же, несмотря на свою жестокость, а может быть, благодаря ей, сумел приобрести сторонников.
30 апреля 1915 года барон Ганс фон Вангенгейм, посол Вильгельма II-го в Константинополе, отправил Его Превосходительству канцлеру Теобальду фон Бетману-Холльвегу весьма тревожную телеграмму: "В ночь на субботу 24 апреля и в ночь на воскресенье 25 апреля, а также 26 апреля было арестовано много армян — в общей сложности около 500, — представителей всех слоев общества, это были в частности врачи, журналисты, писатели, другие представители интеллигенции, а также несколько депутатов". И все эти люди в одночасье были лишены жизни. Двум депутатам удалось избежать этой участи благодаря старым дружеским связям с министром внутренних дел. Их звали Зохраб и Вардкес. Этих двух оставили на свободе в память о добрых старых временах. Талаат и Вардкес имели беседу. Однако чувства не мешали предначертаниям судьбы, и великая идея, посеянная эпическими поэтами и педантичными врачами в головах военных, нашла свое воплощение. Turk Yurdu. Turk Osadi. Мы. Они. Раса, предки, Нация. Чувства и здесь не мешали откровенности: "Мы воспользуемся благоприятной ситуацией, в которой мы находимся, и так рассеем ваш народ, чтобы как минимум в течение 50 лет вам не приходила в голову мысль о реформе", — объявил министр внутренних дел Талаат-паша. "Вы что, намерены продолжить дело Абдул-Гамида?" — спросил Вардкес. "Да", — отрезал Талаат, не заботясь об ораторских приемах. Об этой беседе рассказал некий пастор в конфиденциальном меморандуме, который был опубликован несколько месяцев спустя после этих событий в Потсдаме.
Затем Вардкес и Зохраб исчезли. Оба они погибли по дороге в Урфу от рук одного члена Специальной организации. Почему-то всегда находятся наемные убийцы, которые похваляются своими преступлениями. "Я расколол череп Вардкеса своим маузером, затем схватил Зохраба, повалил его на землю и большим камнем размозжил ему голову. Я бил его камнем до тех пор, пока он не умер. Это происходило в местечке, которое носит название Чертова Долина". Талаат, который любил соблюдать приличия, известил вдову Зохраба, что ее муж скончался от сердечного приступа. Немецкий консул в Халебе сообщил вышестоящим чиновникам о тяжелой участи депутатов. "Зохраб и Вардкес эффенди, два известных армянских депутата, находятся в настоящий момент в Халебе (Алеппо). Они находятся в группе, которую направляют в Диарбекир. Согласно новостям, которые оттуда поступают, мы имеем все основания думать, что это означает для них верную смерть". Однако мертвых уже никто не считал...
В газете "Нью-Йорк Таймс" от 28 и 29 апреля 1915 года говорилось об обращении посла Генри Моргентау к правительству османской Турции. Посол был человеком благовоспитанным и утонченным. Он принимал в своем бюро иностранных путешественников, главным образом миссионеров, находившихся в разных провинциях или оказавшихся в том или ином месте по долгу службы; из уст миссионеров, путешественников, иностранцев различного происхождения он услышал ужасающие рассказы о том, что происходило в Турции. Все рассказы были аналогичными, они почти ничем не отличались, за исключением некоторых деталей. То, что собирался предпринять посол, совершенно ему не нравилось. Его непосредственным долгом являлась защита интересов Соединенных Штатов в Турции. Он хорошо понимал, что превышает свои полномочия, и тем не менее посол Моргентау принял решение сообщить о тревожных событиях самому высокопоставленному руководителю комитета "Единение и Прогресс", министру внутренних дел Талаату, надеясь на благоприятный момент. Моргентау отмечал, что Талаат-паша страдал маниакально-депрессивным психозом, а посему часто без видимых причин впадал в страшный гнев, а затем внезапно становился любезным, веселым, жизнерадостным. Шансы застать Талаата в хорошем настроении были минимальными. Талаат не любил, когда кто-либо говорил об армянах. Подобные разговоры вызывали у него приступы ярости. "Почему вас интересуют армяне? — грубо прервал он посла. — Вы еврей, а эти люди христиане". Это примитивное рассуждение поразило посла, хотя он и был знаком со складом ума своего собеседника. "Мне кажется, вы не совсем понимаете, — ответил я ему, — что я нахожусь здесь не в качестве еврея, а в качестве американского посла..."
Однако Талаат-паша, сконцентрировавший всю власть в своих руках и распоряжавшийся жизнью и смертью всех подданных империи, был абсолютно глух ко всем подобным рассуждениям минувшей эпохи. "Армянам нельзя доверять, — отрезал он. — Более того, наши действия по отношению к ним не касаются Соединенных Штатов".
Американский посол пытался наконец урезонить министра внутренних дел, внушал ему мысль о материальных потерях. Посол верил в эффективность своих логических выкладок. "Нам наплевать на экономические потери, — отвечал Талаат. — Мы заранее все подсчитали и знаем, что эти потери не превысят пяти миллионов лир. Это нас отнюдь не беспокоит". Генри Моргентау пытался убедить Энвера-пашу, приводя веские аргументы: "Вы разваливаете собственную страну с экономической точки зрения". Энвер пожимал плечами: "В настоящий момент экономические соображения нас не волнуют". У них был различный подход к проблемам экономики. Часть всего награбленного отходила к чете, а другая конфисковывалась комитетом "Единение и Прогресс". Обладающие неповоротливым умом чете умели находить спрятанные деньги. Они заставляли выплевывать золотые монеты тех, кто прятал их во рту, они обыскивали интимные места женщин, мужчин, молодых девушек.
Если и оставались еще какие-то сердобольные люди (разумеется, их сострадание должно было оставаться в определенных границах и не мешать главному делу), у которых приказы свыше вызывали отвращение, то их очень быстро приводили в чувство убедительной аргументацией. Командующий Третьей армией был предельно краток, когда отдавал следующий приказ: "Мусульмане, оказавшие покровительство армянам, будут повешены возле собственного дома, после чего дом будет сожжен". А если вдруг по недоразумению иностранцы оказывались не в том месте и не в тот момент и становились очевидцами того, что их не касалось, то не возбранялось начисто все отрицать, списывая все преступления на войну, на всеобщий хаос, на защиту интересов нации. Следовало предать забвению все эти досадные свидетельства.
Примерно так поступил посол Германии Вангенгейм, когда получил запрос от своего консула в Эрзеруме фон Шойбнер-Рихтера о том, как последний должен действовать при виде того, что творится вокруг: дома армян сжигают, именитых граждан убивают средь бела дня на улицах. Многоопытный дипломат почти не колебался, давая инструкции своему подчиненному: разумеется, было бы предпочтительнее, если бы можно было помешать черни "заниматься грабежом и убивать людей, но ни в коем случае не следует создавать впечатление, что мы по праву покровительствуем армянам и хотим вмешаться во внутренние дела властей".
Консулы, находившиеся в местах, где происходили события, видели своими глазами, как действуют убийцы. Они испытывали ни с чем не сравнимое сострадание, жалость по отношению к жертвам и омерзение по отношению к головорезам. "Совершенно очевидно, что, действуя столь варварскими методами, правительство наносит ущерб интересам страны" (Бюге, консул в г. Адана, 18 мая 1915 года). "Произошло уж слишком много несчастий, пора положить этому конец" (Реслер, консул в Халебе, 26 мая 1915 года). "Все эти преступления вызывают у меня чувство глубочайшего омерзения, о чем я поставил в известность местные власти" (Гольштейн, консул в Мосуле, 10 июня 1915 года). С одной стороны, барон понимал поверхностную реакцию своих подчиненных, с другой стороны, он отдавал себе отчет в том, что шла война, что Турция была союзной державой, что Джемаль-паша носил на мундире Железный крест, что Энвер-паша был военным атташе в Берлине, что он закручивал кверху усы подобно тому, как это делал император Вильгельм. Барон также не забывал, что во время памятного путешествия кайзер переоделся турком, что он не мог игнорировать стратегические интересы, связанные с Багдадской железной дорогой. Помнил он и о том, какие перспективы открываются в этом регионе для заводов Круппа. Поэтому он призывал нижестоящих консулов и вышестоящее министерство к осторожным действиям. "Совершенно ясно, — объяснял он, — что все меры, направленные против армянского населения, очень жестокие. Тем не менее я полагаю, что если даже мы сможем смягчить эти меры, мы не должны им противиться в принципе".
Однако новость неумолимо распространялась, пересекая проливы, моря и океаны. Самая известная газета самого большого города самой великой страны поместила корреспонденцию под следующим заголовком, набранным крупными буквами: "Трагические последствия войны на Востоке: массовые убийства армян в восточных деревнях Малой Азии, совершенные турками и курдами". Газета "Нью-Йорк Таймс" утверждала, что эта резня превзошла все те преступления, которые были совершены во время ненавистного правления Красного Султана Абдул-Гамида, лицо которого было отвратительным. К сожалению, не было места ни для малейшего сомнения. "Корреспондент "Таймс", недавно вернувшийся из Салоник, утверждал, что все сообщения из Турции говорят об ужасающих зверствах, творимых турками. Полагают, что речь идет об официальном приказе, о проведении кампании по уничтожению армян. Должно быть убито от 800 тысяч до одного миллиона армян". Статья была опубликована в газете от 16 сентября 1915 года. Все это было прискорбно. Об этом вынуждены были говорить в посольствах; в парламентах назревали скандалы, правительства были в затруднительном положении. Если парламенты каким-то образом приноравливаются к скандалам, к лишним разговорам и всякого рода полемике, то, как известно, правительства не любят запутанные ситуации, посольства же предпочитают работать в спокойной обстановке. Барон фон Вангенгейм прекрасно знал, чем следует ограничиться. Он был хорошо информирован, так как был свидетелем многих событий. "Очевидно то, — отмечал он, — что изгнание армян отнюдь не мотивировано только военными соображениями. Недавно министр внутренних дел Талаат-бей прямо сказал доктору Мордтману, нынешнему сотруднику посольства Германии, что Блистательная Порта хотела воспользоваться мировой войной, дабы раз и навсегда покончить со своими внутренними врагами без всякого иностранного вмешательства". Военные атташе, повидавшие на своем веку и кровопролитие, и разбросанные человеческие внутренности, и случайные перестрелки, стойко переносившие все тяготы жизни, слышавшие стоны и вздохи раненых, не видели ничего подобного во время всех военных кампаний, в которых до этого принимали участие. Те из них, кто сохранил крупицу чести, с большим трудом скрывали свое отвращение при виде всего, что творилось у них на глазах. Представитель Немецкой военной миссии подполковник Штанге был свидетелем преступлений, совершенных в Эрзеруме, Трабзоне, Эрзинджане, Мамахатуне. То, что он видел, вызывало у него отвращение, ему делалось страшно. "После всего, что произошло, — резко протестовал Штанге, — совершенно очевидно, что депортация и уничтожение армян были задуманы и организованы младотурками, а точнее их комитетом, находящимся в Стамбуле. Преступления были совершены с помощью военных и банд добровольцев". Действительно, Талаат-паша руководил железной рукой Министерством внутренних дел. Самые опытные дипломаты не осмеливались порицать людей, подобных Талаату. Дипломаты не знали, каким образом можно приступить к разговору с руководителями комитета "Единение и Прогресс", — ведь последние не проходили хорошей школы, не знали, что такое высокий стиль. Они просто-напросто имели репутацию мерзких выскочек. Они говорили громко, употребляли грубые выражения, разговаривали тоном, не терпящим возражений. В голосе их слышались угрозы, они разглагольствовали с мужицкой откровенностью. Несмотря на свое скромное звание, а может быть, потому, что он был подданным дружественной Турции страны, немецкий пастор, проводивший расследование для Немецкой Восточной миссии, сумел добиться аудиенции у верховного главнокомандующего Энвера-паши, которого все превозносили. И генеральный штаб, и все, кто носил военную форму на всем пространстве империи, ужасно боялись его. Однако пастор оказался не из пугливых, вера и человеколюбие поддерживали его дух и подвигали на смелые поступки. "Хотел бы вернуться к нашему разговору и задать вопрос относительно того, что происходит здесь. Одобряете ли вы все происходящее?" Он очень хорошо знал, о чем идет речь, и ответил мне: "Я беру на себя всю ответственность" (этот диалог был опубликован в журнале "Der Orient" при жизни Энвера, когда он находился в Берлине).
* * *
Когда посол Моргентау окончательно покидал Турцию, он в последний раз нанес визит министру внутренних дел. Талаат был весел и приветлив. "Мы надеемся, что вы вскоре вернетесь... Мы полюбили вас, несмотря на разногласия, которые порой носили острый характер". И зачем американский посол перед самым своим отъездом нарушил правила приличия и вновь попытался разобраться в теме, которая вызывала раздражение у Талаата? Зачем он ему докучает праздными вопросами: "А что будет с армянами?" и т. д. Талаат нахмурился, глаза его стали злыми. "3aчем надо снова говорить о них, — сказал он, махнув рукой, — мы их ликвидировали. Все закончено".
Перевод Инны Ерицян
-------------------------------------------------
Филипп Виделье, автор романа "Турецкая ночь", — историк, сотрудник Национального центра научных исследований Франции. Роман в основе своей имеет совершенно достоверные исторические документы и материалы, он был недавно выпущен известным издательством "Галлимар".
-
ЗОЛОТО - КОД КАМНЯ АДАМОВА СЫНА
«Алхимия» состоит из арабского определенного артикля «ал» и слова «химия». Когда химия окончательно сформировалась как наука, Р. Бойль в 1611 г. назвал алхимию ложным ремеслом превращения обычных металлов в благородные. Точная дата «рождения» алхимии неизвестна, предполагают, что возникла она в III-IV веках в Египте. Основателем алхимии принято считать Гермеса. Просуществовала алхимия до XVII столетия. За века она претерпела большие изменения, неизменным осталось только стремление людей к получению золота. Как показали современные теории о строении и преобразовании атома, трансмутация вполне возможна. Алхимики были и врачами тоже, они изготовляли лекарственные средства, получали краску и соль. В поисках философского камня, универсального раствора, эликсира долголетия они сделали ряд научных открытий. Благодаря алхимии появились стеклянные, фарфоровые и керамические изделия и предметы, порох и т. д. Алхимики использовали коды, которые до сих пор не расшифрованы.
В Армению алхимия проникла из Аравии и получила широкое распространение. Ее считали «тайным искусством». Амирдовлат Амасиаци называл алхимиков «аксироделами». В Армении алхимия была одним из древнейших ремесел, благодаря которому широкую известность получили армянский пергамент, чернила, ароматные масла, мыло высочайшего качества. В иноязычной литературе наряду с названием философского камня встречаются такие выражения, как «армянское яйцо», «армянский камень». Большая часть рецептов, оставленных армянскими алхимиками, до сих пор не расшифрована.
Занимавшихся алхимией мудрецов называли «аксироделами» (XV в.) и «кимиаканк» (XVI в.). Рукопись по алхимии называлась «Вкаякан гирк», «Книгой аксира», «Химической книгой». Алхимическая технология держалась в тайне и передавалась от отца сыну или близкому родственнику. В алхимических текстах представлено описание не только способов получения искусственного серебра и золота, но и некоторых полезных веществ. В них предпринята попытка классифицировать их.
В алхимии использовались слова арабского происхождения. В алхимической тайнописи Шемс соответствовал Солнцу и золоту, Гамер - Луне и серебру, Мухтари - Юпитеру и олову, Марех - Марсу и железу, Отарит - Меркурию и ртути, Зохре - Венере и меди, Зохал - Сатурну и свинцу и т. д. В рукописях часто упоминаются имена известных арабских алхимиков - отца Саака Апслая, отца Шех Ахмада Апаши и других. Есть и упоминания о том, что рукописи были переведены с арабского. Первые упоминания о «тайном искусстве» можно встретить в трудах киликийских авторов XII в. Саркиса Шнорали и Нерсеса Ламбронаци. Среди армян тоже были известные алхимики - монах Даниел Армянский, Акоп Тохатийский, тер Арутюн Эрзрумский. В рукописях о них писали как о людях выдающихся. А Амирдовлат Амасиаци был автором ряда крайне важных в алхимии фармакологических открытий. В дальнейшем, когда армяне освободились от арабского влияния, труды по алхимии переводились с персидского. В средние века, когда в Армению проникла европейская алхимия, на армянский был переведен ряд трудов с латинского. В XV-XVII вв. были переведены труды видных европейских алхимиков, в том числе «Томиник».
В XVIII в. борьба между химией и алхимией перекинулась из Европы в Армению. Даже в первой половине XIX в. еще были люди, занимавшиеся алхимией. История сохранила имя ванца Карумисяна. До недавнего времени наследие алхимии сохранялось на селе, проявлялось оно в кустарных ремеслах - покраске шали, дублении, плавке металла в домашних условиях и т. д. Алхимики пытались классифицировать используемые материалы. Наиболее распространенной была семистепенная система. Сравнительно меньше упоминается четырехстепенная система. Армянские алхимики делили вещества на четыре большие группы: животные, растительные, мертвые и живые.
Алхимические рукописи были зашифрованы, чтобы никто другой не мог постичь тайну этого искусства. В одной из таких рукописей мастер рассказывает своему ученику о способах получения золотистого металла и при этом не забывает дать наказ: они проверены, никому не раскрывай их секрет. Чтобы сохранить свое искусство в тайне, алхимики давали используемым ими веществам непонятные названия, придумывали разные азбуки.
В древности алхимики не только пытались получить благородные металлы из неблагородных, но и занимались плавкой, оксидированием, очисткой, растворением металлов, а также изготовлением красок, извести, мыла, стекла, глины, масел, различных солевых растворов, смол и т. д. Алхимики должны были быть всесторонне развитыми людьми, знать разные науки.
Кстати, слово «эликсир» в форме «аксир» употребляется для обозначения «закваски» золота и серебра. На самом деле так назывались те получаемые технологическим способом вещества и материалы, сочетание которых с неблагородными металлами позволяло получать золотистые и серебристые металлы.
Отдельных трудов алхимики не писали, они лишь добавляли материалы о своих опытах, наблюдениях и достижениях. Армянские алхимики были не только «исполнителями», но и авторами ряда открытий. В начале XIX в. алхимия окончательно потерпела поражение, однако нашла свое научное проявление в химии и, можно сказать, стала ее «мачехой».
Гоар Степанян
-
АЛХИМИК АВЕТИС
Никогда и нисколько не сомневался в способностях представителей моего народа. Армяне способны заниматься, и успешно заниматься, любой сферой человеческой деятельности. Как той, так и этой. То есть армянин может быть маршалом, поэтом, ученым, композитором и прочее, и прочее. И может быть «вором в законе», мошенником, проходимцем, коррупционером и прочее, и прочее. А вот алхимиков среди армян не было. Так мне казалось. Но я ошибался.
В XVII веке Османская империя находилась в зените своего величия и могущества - границы простирались от Балкан до Персидского залива.
Турки-османы были крупными специалистами в предварительном психологическом подавлении противника. И в этом плане военные оркестры были важной частью многотысячного Османского войска. Музыканты в ярких одеждах и тяжелых тюрбанах во время походов турок-осман на Балканы и в Центральную Европу шли впереди войсковых колонн, создавая ужасный грохот, шум, устрашая своего противника.
Преподаватель стамбульской консерватории Демет Аякоглу: «Турецкие военачальники никогда не начинали битву без музыкального сопровождения. Предварительное устрашение противника было важнейшим элементом тактики османов. В военных походах ревели большие трубы, резко кричали гобои, грохотали большие барабаны - давул и котловидные литавры».
В XVII веке жил в Стамбуле пытливый, любознательный, склонный к наукам армянин по имени Аветис. Поверь, читатель, Аветис был первым армянином-алхимиком. Были ли среди армян алхимики после Аветиса - не знаю, были ли до Аветиса - обнаружить не удалось.
Месяцы и годы прошли в поисках философского камня, в поисках способа превращать свинец и другие металлы в золото. Это были тяжелые трудовые будни одиночки-исследователя, где тигели, печи, колбы, реактивы и образцы, смесители и гомогенизаторы заменяли все радости жизни.
Золота Аветис не получил. Но получил сплав цинка, меди и серебра с уникальными характеристиками.
Сплав, полученный Аветисом, сохранял прочность при мизерной толщине. Применив же особый процесс смешивания различных добавок, Аветис изготовил музыкальные тарелки, обладающие особо ясным и мощным звуком. При этом использовался опыт производства колоколов для армянских церквей.
Аветис показал свое изобретение родичу, работавшему на султанской кухне - честь, которая по тем временам дорогого стоила, ею удостаивали особо надежных и проверенных. Султан Мустафа, услышав необычайный звук музыкальных тарелок Аветиса, как мудрый и талантливый государственный деятель, решил использовать их в военных оркестрах для поднятия боевого духа своих солдат и устрашения противника. Заплатив мастеру 80 золотых, он заказал сотню таких тарелок для своей янычарской гвардии.
С легкой руки султана мастерская, где они делались, стала именоваться «Зилджияном» - с турецким корнем и армянским окончанием - межнациональный компромисс. «Зил» по-турецки - «музыкальная тарелка», «зилджи» - мастер по производству таких тарелок. Аветис получил мастерскую и новую фамилию - Зилджиян.
…Из журнала «Айле»: «В роду Зилджиян рецепт изготовления тарелок никогда не доверялся бумаге. Его передавали устно от отца к старшему сыну. Фирма ни разу не меняла хозяев, оставаясь в руках одной семьи. Каждую из музыкальных тарелок мастера собственноручно подписывали».
…В 1929 году семейство Зилджиян приступило к покорению Америки - основало в штате Mассачусетс новую фабрику. Это была эпоха бурного развития джаза. Работая в постоянном контакте с ведущими музыкантами, были разработаны такие типы тарелок как Ride, Crash, Ping, Splash, Sizzle и Swish. Позже появились также Mini Cup Ride и Flat Top Ride. Однако тарелки под маркой Zildjian К. продолжали производиться на оригинальной фабрике в Стамбуле до самого 1975 года, пока их производство не было перенесено в Америку, а фабрика закрыта из-за политических трений между Турцией и США.
В 1969 году Роберт Зилджиян основал еще одну фабрику. На этот раз в Канаде, откуда из-за налоговых льгот был намного выгоднее их экспорт в Европу.
Арманд Зилджиян, продолжая развивать традиции в поисках новых звуковых красок и новых технологий, в 1983 году создает Zildjian Sound Lab, где были созданы сначала Zildjian Z, а затем A. Custom, Z. Custom и К. Custom. Но на этом деятельность компании не ограничилась. В 1986 году была открыта большая фабрика по производству барабанных палочек, которые сейчас используют многие ведущие барабанщики мира. Совместно с компанией Barcus-Berry Electronics была разработана специальная система для подзвучивания тарелок ZMC-10. Также совместно с компанией Noble & Cooley были выпущены несколько моделей дорогих «малых» барабанов, корпуса которых сделаны из металла, используемого для Zildjian A.
Сегодня Zildjian Sound - всемирно известный американский концерн. Их тарелками пользуются сотни музыкантов и десятки суперзвезд. В громадной номенклатуре изделий концерна дилетант в области музыкальных тарелок, барабанов и барабанных палочек вроде меня может запутаться и погрязнуть. Поэтому, читатель, мы с тобой подивимся превратностям судьбы. Начиналось все 350 лет тому назад поисками философского камня и способов превращения металлов в золото, а продолжается производством барабанных палочек. Лучших в мире, кстати.
Карен Торосян
-
ДВУХ ИСТИН НЕ БЫВАЕТ

Бесконечны возможности человеческой памяти. Но есть события, случаи, которые, будучи органической частью нашей жизни, волей-неволей постепенно блекнут в нашем представлении или иногда покрываются вуалью секретности.
В эйфории процесса независимости парни «бархатной революции», как говорится, заодно выбросили много ценностей, очернили беспорочные судьбы и несправедливо отстранили от должностей многих людей - лес рубят, щепки летят... В 1988-ом переведенный из Белоруссии в Ереван советский офицер Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) на себе почувствовал силу «бархатной революции». За что - генерал-майор не знает до сих пор...
Известное движение за независимость с требованием выхода из состава Советского Союза уже началось, когда он приехал в Армению. Поскольку он был офицером советских войск, то не должен был заниматься политикой. Следовательно, до 1990-го года преподавал в сельскохозяйственной академии. Серьезный военный, он не мог так долго продолжать, потому что азербайджанские штурмовики, пользуясь «милосердием» вооруженных сил Советского Союза, начали грабить и убивать, заниматься скотокрадством в Карабахе и приграничных районах Армении. Им помогали советские солдаты, потому что Азербайджан и его руководитель Муталибов были сторонниками сохранения Союза, и, в связи с этим, пользовались симпатией и помощью Горбачева. Своей свирепостью они пытались напугать, заставить молчать армян.
- Господин Тер-Тадевосян, как и когда вы оказались на боевых позициях?..
- В 1990-ом году я вступил в отряд «Сасунци Давид» в качестве советника и сразу же занялся повышением боеспособности бойцов отряда. А когда сформировался Комитет обороны Армении, я стал одним из его кадров. После этого (в 1991 году) я уехал в Нагорный Карабах.
- И вас, если я не ошибаюсь, назначили командиром сил самообороны Карабаха.
- Да, когда я переехал в Карабах, там председателем Комитета обороны был избран Серж Саркисян. Я был принят в этот комитет. Но до сих пор для меня непонятно, по чьему и какому приказу я был назначен командиром сил самообороны.
- Господин Тер-Тадевосян, не секрет, что как командир сил самообороны Вы возглавляли также план-операцию по освобождению Шуши. После блестящей победы вместо того, чтобы вручить вам лавры победы, Левон Тер-Петросян освободил вас от должности. За какие грехи?
- Я не могу сказать - был ли это Левон Тер-Петросян или Вазген Саркисян. Война есть война. Ты воюешь с врагом, но не секрет, что политические деятели того времени тоже воевали друг против друга, что во время войны имеет свои отрицательные последствия. После освобождения Шуши произошел один такой случай, который имел свои грустные, отрицательные последствия. Когда в июне было созвано заседание Верховного совета, на котором должен был быть избран новый президент Карабаха, произошло столкновение двух противоположных сил: дашнаков и АОД. Дашнаки хотели избрать президентом Шагена Меграняна, который собрал 33 голоса, а АОД - Роберта Кочаряна. Меня попросили помочь в этом вопросе. Это было неприемлемо, так как для меня было дорого только единство армии. Во время сессии я раскритиковал как дашнаков, так и АОД, не поддержав ни одного, ни другого. С этих июньских трагичных и плачевных дней и до сих пор история еще молчит. Конец был таким же трагичным, поскольку спустя 10 дней после внутреннего боя и борьбы мы потеряли и часть Мартакертского района. Я уже был освобожден от должности...
- Г-н Тер-Тадевосян, есть мнение, что Левон Тер-Петросян не знал о плане-операции по освобождению Шуши, хотя был в Иране и благовест застал его там. Но разве возможно осуществить такую операцию в секрете от президента? Скорее, это было дипломатическим ходом.
- Я думаю, президент знал, что Шуши должен был быть освобожден. Ему было доложено об этом.
- Речь идет об операции 8-го мая?
- Нет, об этом дне он не знал, поскольку считали, что мы еще не готовы к этой операции. Должны были еще провести большую подготовительную работу. Знаю, что вам хотелось бы многое узнать, но есть вещи, которые не предназначены для СМИ, и мы не можем издать, избегая отрицательных отзывов. Есть много факторов, о которых, возможно, Левон Тер-Петросян не знал или его ввели в заблуждение.
- Г-н Тер-Тадевосян, можете назвать хотя бы один фактор неготовности?
- Азербайджан имел в Шуши 2500 солдат. По военному закону, уставу, наши силы должны были в три, четыре раза превосходить силы противника. То есть мы должны были иметь как минимум 10 тысяч солдат для того, чтобы начать Шушинскую операцию. Обстоятельство неготовности объяснялось и этим.
- Чтоб иметь такой результат, наверное надо было бы долго ждать.
- Да, а до этого каждый день из-за Шушинского артобстрела в Степанакерте умирали мирные жители. Народ уже потерял веру. Ждать было бессмысленно. Из 72 командиров не было одного, кто был бы против начала операции и она была проведена без согласия армянской стороны. Да, разрешения на начало проведения операции из Армении получено не было. Многие эту победу связывают с моим именем, но если бы не было преданности и единства 72 командиров, солдат, вряд ли мы достигли успеха. Боевой дух солдат, военный опыт и умение сыграли большую роль в успехе операции.
- Есть народная поговорка: «пока дождь пойдет - у лягушки глаза вылезут». Пока у вас набралось бы 10 тысяч солдат, кто знает, что бы было, сколько жертв еще могло быть среди гражданского населения. Ведь только после освобождения Шуши степанакертцы вышли из подвалов. Наверное это было к добру, ведь смелость города берет. Это была Ваша смелая идея?
- Нет, не моя. Я состоял в Комитете обороны, который возглавлял Серж Саркисян, и думаю, что это было смелое решение местного Комитета обороны.
- Хоть Вы частично и ответили на этот вопрос, все же, г-н Тер-Тадевосян, не будучи готовыми, мы одержали блестящую победу, после чего настолько подались эйфории, что забыли, что враг может наказать нас. И это не заставило себя ждать - 13-го июня пал Шаумян, а 4-го июля Мартакерт...
- Это уже была задача для военно-политического руководства республики. Во время Шаумянского поражения были допущены грубейшие ошибки при проведении как внутренней, так и внешней разведки. Знали, что противник смог за большие деньги быстро мобилизовать находящихся в Кировабаде бывших советских офицеров, которые сидели без денег, голодными, а также купить большое количество наемников. А мы спали. Знаете, во время войны есть очень противоречивые факторы, которые с течением времени пытаются скрыть. Пусть скрывают 10, 20 лет, но все равно правда будет раскрыта и время расставит все на свои места, даже то, кто и что дал этой войне.
- Вы говорите 10, 20 лет... После падения Шаумяна, переселения из Мартакерта уже прошло 17 лет, однако до сих пор народ не услышал ни одного честного слова. Говорят, что есть документы с грифом секретно... До каких пор они должны оставаться под семью замками, ведь, что было то было...
- Многое ясно, но это как истину принимать не хотят. Например, почему 4-го июня 1992 года, в Степанакерте армянский воин пошел против другого воина и в течение одного дня они стали врагами? Почему этот вопрос не был поставлен, не был решен в то время, чтобы не было, скажем, 1996-го года или 1-го марта? Все больше в нас углубляется враждебность, хотя когда приходится, мы говорим, что не этого мы хотели и что все мы над этим работаем. Иногда мы хотим сделать что-то хорошее для Армении, но в результате, как всегда, получается плохо. Мартовские события - это цветочки, которые были посажены в 1992 году в Степанакерте, затем были политы в 1996-ом году... Почему наш народ должен быть разобщен и выходить друг на друга...
- Оказывается, в войне победили, но в дипломатической области она продолжается. Как военный, каким вы видите решение этой проблемы?
- Идут переговоры. Есть понятие международное право, есть соответствующие организации. Надо идти на уступки, которые, конечно же приведут к перемене границ. Я, как военный, считаю, что любое изменение наших границ могут быть против нас. А какое решение найдут политики - не знаю. Оптимальный вариант тот, когда мы в состоянии защитить нашу имеющуюся границу. А если она будет изменена, то будем иметь определенные трудности. История показала, что на полях дипломатии мы всегда проигрывали. Не знаю, сможем ли мы хотя бы с равным результатом закончить эти переговоры.
- Господин генерал, сегодня много говорится о военном строительстве. Многие видят себя у истоков, гордятся этим. Между тем истинные посвященные скромно молчат. Расскажите немного, скажите правду об этом...
- В деле военного строительства многие сыграли полновесную роль. Это очень серьезная тема и, называя фамилии, боюсь обидеть многих, поскольку трудно всех перечислить. Тем не менее, назову Далибалтаяна, Артуша Арутюняна (военком), Микаела Арутюняна (бывший начальник штаба), генерал-лейтенантов Тер-Григорянца и Андреасяна. Подполковника Исагулова и нынешнего начальника штаба Хачатурова, работающих в МО многих генералов, таковые Пайтян, Багманян, Гзоглян, которые в свое время были командирами отрядов. Конечно, были и не военные. Мы не должны забывать и тех, кто ушел из жизни рано, погибнув на поле боя. В частности, Леонид Азгалдяна, Юрия Оганесяна, Ашота Гулиняна. Основы армии стали крепкими и здоровыми благодаря также духовно и морально крепким добровольцам и парням-фидаинам, какими были Татул Крпеян, Петрос Гевондян и многие другие. Они своим делом, жизнью доказали, что любой ценой надо беречь-оберегать Родину. Знаете, что подсказывала человеческая и военная логика, что многочисленные силы противника, к которым безпрекословно присоединилась военная сила Советского Союза, заставит нас пойти на уступки. Но такие люди как Татул, Пето, Леонид убедили надо Родину защищать, а не нападать...
И именно в этом сила этих парней, их величие. И сегодня этих парней вспоминают от случая к случаю, между тем о них надо вспоминать по случаю и без, чтобы ими воспитывалось поколение.
Р. S. Да, после всего этого нетрудно догадаться, почему Аркадий Тер-Тадевосян был освобожден от должности. Остается выяснить, по чьему приказу: Левона Тер-Петросяна или Вазгена Саркисяна. Если первого, то кто-кто, а Вазген Саркисян, кто так любил гордиться Шушинской победой, мог вмешаться в это дело, а если это его приказ, то остается сделать простой вывод - неужели эта гордость всего лишь поза...
Амалия Едигарян
-
Парламент Южной Австралии принял резолюцию по Геноциду армян
Законодательный совет парламента Южной Австралии принял резолюцию, согласно которой Геноцид армян является преступлением, совершенным против человечества. Резолюция призывает коалиционное правительство Австралии официально признать события 1915 года в Османской империи Геноцидом.
Резолюцию направил в парламент руководитель либеральной оппозиции Дэйвид Риджуэй. Резолюцию поддержал Бернар Финиг от Рабочей партии. Как передает "Мармара", турецкая пресса пишет в связи с этим, что достаточно долгое время правительство Южной Австралии проводит "антитурецкую" политику и что этот регион Австралии стал центром "антитурецких" мероприятий.
-
17 июня 1988 года на своей 7-ой сессии Верховный Совет Азербайджана принимает решение о том, что Нагорный Карабах должен остаться в составе республики:
«В ответ на обращение Верховного Совета Армянской ССР Верховный Совет Азербайджанской ССР, исходя из интересов сохранения сложившегося национально-территориального устройства страны, закреплённого Конституцией СССР, руководствуясь принципами интернационализма, интересами азербайджанского и армянского народов, других наций и народностей республики, счёл передачу НКАО из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР невозможной, так как это не отвечало бы целям укрепления дружбы народов нашей страны, задачам перестройки».
Данное решение, по большому счету, было вынесено несколько ранее – 13 июня на заседании Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, где было рассмотрено ходатайство сессии Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской Автономной Области о передаче области из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.
Выступая на сессии председатель Президиума ВС Азербайджанской ССР С. Б. Татлиев, в частности, сказал:
«Правовой статус НКАО в соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Аз. ССР ныне определяется Законом НКАО, принятым 16 июня 1981 г. по представлению областного Совета народных депутатов Верховным Советом Аз. ССР и позволяет на практике в полном объёме удовлетворить экономические, социальные и духовные потребности представителей всех наций и народностей НКАО ... Вопрос о передаче НКАО из состава Аз. ССР в Арм. ССР имеет не местное значение, а глубоко затрагивает интересы и суверенные права Аз. ССР, непосредственно связан с интересами Союза ССР - единого союзного многонационального государства, его национально-государственного устройства».
Этим же вечером в районе 21:00 произошли инциденты в поселке Масис и селе Саят-Нова Масисского района. По этому поводу 19 июня по Армянскому телевидению выступил председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР Г. Восканян. Поскольку в инете текста этого обращения я не нашел, выставляю его здесь полностью:
«Дорогие товарищи!
Сложившаяся в Масисском районе ситуация диктует необходимость вновь обратиться к вам.
Как уже сообщалось, 17 июня в поселке Масис и селе Саят-Нова произошли беспорядки, случаи хулиганства, разбиты стекла ряда домов, принадлежащих азербайджанцам, в некоторых из них нанесен ущерб хозяйственному имуществу. Казалось, благодаря принятым мерам ситуация нормализовалась, однако вчера вечером обстановка в районе вновь обострилась, когда группе безответственных молодых людей, приехавших в Масисский район из Еревана, удалось спровоцировать на хулиганские действия некоторых местных жителей-армян. В результате столкновений 8 жителей армянской и 8 — азербайджанской национальностей получили телесные повреждения. Жертв нет. Соответствующими организациями принимаются действенные, решительные меры для восстановления порядка с тем, чтобы жизнь в районе вошла в нормальное русло. Ведется следствие, виновные будут строго наказаны. Партийные, советские органы района осуществляют все меры для окончательной нормализации обстановки, пресечения провокаций и беспорядков.
Вот почему в этих условиях от каждого из нас требуются самообладание, безграничная сдержанность. Мы должны быть осмотрительны, ни в коем случае не допускать, чтобы кто-то, кто бы он ни был, посеял неуместными разговорами, бессмысленными действиями недоверие в отношении дружбы народов. Два наших народа живут и будут продолжать жить бок о бок. В связи с этим особо хотелось бы подчеркнуть слова из обращения товарища Горбачева М. С. к трудящимся, к народам Азербайджана и Армении о том, что в этот час испытания мы должны защищать наш советский интернационализм, непоколебимую веру в то, что только в дружной семье наших народов мы можем обеспечить прогресс нашего общества, благо всех его граждан. Армянский народ всегда доказывал свою преданность интернационализму, и наш долг — постоянно поддерживать и умножать интернационалистские традиции нашего народа — гарант нашего национального существования и прогресса.
Я обращаюсь к армянскому и азербайджанскому населению республики с призывом проявить сдержанность и здравомыслие, не поддаваться излишним эмоциям и чувствам, не слушать тех, кто сеет межнациональное недоверие и рознь. Коренные интересы всех нас требуют находиться на уровне задач, выдвинутых временем, революционным процессом демократизации и перестройки, повсеместно утверждать стабильную, спокойную обстановку. Ведь у нас так много дел, на осуществление которых должны быть нацелены усилия и энергия всех и каждого из нас.
Еще раз вспомним о том, что нашему народу присущи политическая зрелость, реальное чувство обстановки. Мы все несем ответственность за судьбу нашего народа, за честь и достоинство нашей республики».
-
Вот так звучало сообщение ТАСС о событиях в Сумгаите:
В Прокуратуре Союза ССР
Как уже сообщалось, 28 февраля с. г. в Сумгаите (Азербайджанская ССР) группой хулиганствующих элементов были учинены бесчинства, сопровождавшиеся насилиями, и другие правонарушения.
Специальной следственной группой Прокуратуры Союза ССР проводится тщательное расследование по каждому случаю этих преступлений и нарушений.
Установлено, что в результате преступных действий погибло 32 человека, принадлежащих к различным национальностям. Пострадало 197 граждан, в том числе около ста работников милиции. Совершено 12 изнасилований, разграблено более ста квартир, повреждены 26 объектов бытового обслуживания и свыше двадцати автомобилей.
В настоящее время лица, принимавшие участие в убийствах, изнасилованиях, бесчинствах и грабежах, в основном установлены. Арестовано 42 человека, некоторые из них были ранее судимы за уголовные преступления. К административной ответственности за нарушение общественного порядка привлечено около четырехсот человек.
Ведется также следствие по фактам правонарушений, имевших место в конце февраля в Нагорно-Карабахской автономной области, где в результате столкновений погибло двое граждан и около 50 человек получили телесные повреждения.
Продолжается работа по выявлению подстрекателей и организаторов актов насилия и бесчинств. В ближайшее время виновные предстанут перед судом.
------------------------------------------------------------
Попробуйте из него понять, кто кого убивал и насиловал.
-
Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН
Кровавые последствия комплекса этнической неполноценности
Депутат парламента Турции от Республиканской партии Джанан Арытман приговорена к штрафу. По иску президента Турции Абдуллаха Гюля, оскорбленного завлением Арытман о том, что мать Гюля является этнической армянкой. Суд в Анкаре констатировал, что Арытман «оскорбила» этнически чистокровного турка, а потому и должна понести наказание. Адвокат Арытман – Резан Айдыноглу – не нашел серьезных аргументов против доводов адвоката Гюля, заявившего, что Арытман сознательно пыталась дискредитировать президента. Сознательная «дискредитация» выразилась в «распространении не соответствующих действительности сведений в связи с этническими корнями матери А.Гюля». Напомним, что данное «распространение» имело место на заседании турецкого парламента, а затем выплеснулось на страницы прессы.
Суд, безусловно, правильно понял намерения депутата Д. Арытман: в турецком, как, кстати, и азербайджанском обществе слово «армянин» давно уже является оскорбительным. Психологи называют это явление синдромом убийцы-неудачника. Наемный убийца, по тем или иным причинам не справившийся с заданием, начинает люто ненавидеть свою жертву и психологически готов убить ее даже бесплатно. Точно так же некоторые турецкие деятели, хорошо осведомленные о Геноциде армян в Османской Турции, сегодня ненавидят армян только потому, что они погибли не все. Об отношении турок к армянам и о реакции на это некоторых западных политиков мы еще поговорим, а пока давайте вспомним одну не очень давнюю историю.
Лет 10 тому назад брат Гейдара Алиева, тогда еще здравствующего президента Азербайджана, подал в суд на лидера азербайджанской партии «Гейрят» Ашрафа Мехтиева за то, что тот посмел назвать Алиевых курдами. История эта наделала много шума, и даже многомудрый Алиев не смог ее полностью замять. Однако пытался, и, в конце концов, дело спустили на тормозах. Алиев понимал, что вслед за травлей расиста Мехтиева неизбежно последуют обвинения в расизме и в адрес самих Алиевых. Понимал он и то, что чем больше шума наделает эта история, тем больше людей лишний раз убедятся в курдском происхождении рода Алиевых. Потому и старался Алиев замять скандал, что стремился скрыть истину.
А вот история с Арытман и Гюлем демонстрирует отсутствие присущей Алиеву дальновидности у президента Турции. Его реакция на «обвинения» Арытман в отсутствии «чистопородности» как раз подтверждает отсутствие в Турции каких-либо признаков хотя бы зачаточной толерантности. Это подтверждают и многочисленные высказывания по этому вопросу европейских депутатов. И даже сопредседатель парламентской комиссии ЕС-Турция Юст Лагендийк, раскритиковавший расистские выступления Арытман, не удержался от упрека в расизме и самого президента Турции: «На месте Гюля, я бы не стал реагировать на это подачей в суд на Арытман. Боюсь, что возбуждение уголовного дела против Арытман означает, что Гюль был оскорблен этими обвинениями». И добавил нечто, и вовсе непонятное для турка: «Иметь армянскую мать не стыдно». Конечно, Лагендийку легко говорить, психологически он чувствует себя комфортно: его предки не строили государство на чужой земле и не устраивали геноцид коренного народа, по причине чего он и не испытывает комплекса неполноценности. А попробовал бы он побывать в шкуре турка.
В «секуляризированной» Турции, равно, как и в «толерантном» Азербайджане, давно уже целенаправленно фальсифицируется практически все, что может напомнить об их недавнем и далеком прошлом. Было бы неправильным считать, что прошлое является для них укором, нет, конечно, просто собственная история для этих народов (если считать их разными народами) является помехой для решения новых экспансионистских задач.
Еще в тридцатых годах прошлого века выдающийся армянский писатель и философ Костан Зарян писал о турках в рассказе «Тоса де Мар»: «Уникальное явление в истории! Они говорят: мы – это не мы. Они говорят: мы не пришельцы, не чужеземцы, а коренные жители, с самого же начала зародившиеся здесь, здесь выросшие и создавшие свою культуру. Вчерашний день? Прошлое? – Нет, это были не мы. Мы – это не мы… И потребность в этом отречении так сильна, так болезненна и неодолима, что они обращаются к научному, официальному, вынужденному шарлатанству. Кричат, призывают, приказывают, подвергают расстрелу, подкупают! Принудительный закон – мы больше не мы».
Однако говорить, писать и даже приказывать можно что угодно. Только подобными мерами невозможно изменить цивилизационную основу и мировоззрение населения. Этнический курд Г. Алиев смог осознать грозящую Азербайджану опасность от обращения в суд своего родного брата (Г. Алиев предпочитал применять к недругам более радикальные меры), этнический турок – нет. Комплексы турка Гюля оказались сильнее необходимого для президента страны благоразумия.
Наверное, это страшно, когда в народе живет комплекс неполноценности. Фрейд считал, что существующий в человеке комплекс определяет его дальнейшую жизнь. Перекочевавшим в наш регион тюркским племенам впору посочувствовать: над ними веками довлеет комплекс потомка примака, немытого и пропитавшегося конским потом и овечьим духом кочевника, оказавшегося в регионе развитой и недоступной для их восприятия цивилизации.
Армянам, грекам, лезгинам, талышам этого не понять, но, наверное, это действительно невыносимо, когда земля под твоими ногами пропитана потом не твоих предков, когда раскапываемые могилы хранят прах не твоих предков, когда развалины многочисленных прекрасных храмов построены руками не твоих предков. Когда туристов в твоей стране привлекают единственно памятники старины, некогда возведенные не твоими предками. Когда из-под толстого слоя штукатурки на стенах Святой Софии неизменно проступает прекрасная греческая мозаика, а армянские надписи со стен армянских храмов не удается соскоблить полностью.
Именно этот комплекс существа низшего порядка и становился причиной принятия решений, действительно присущих таковым: перманентных геноцидов, устраиваемых турками над коренными народами.
-
От Киликийского города Ачин до Нор Ачина
Город был основан армянами Ани после падения багратунийского царства. В городе, расположенном на 1140 м выше уровня моря, дома были расположены в стиле амфитеатра и окружены скверами и садами. Согласно народной этимологии, именно живописным горным пейзажам город обязан своим названием - «ачуйки вайр» (место удовольствий). Ачин был расположен на неприступном ландшафте. В начале века это был цветущий город со всеми постройками, характерными европейским городам: шесть церквей, пять районов, семь мостов, американский кол-ледж, подготовительные школьные учреждения для обоих полов, два рынка, 120 пекарен.
Здесь имелись серебряные, медные и железные рудники, центр по производству ковров.
Недоступным Ачин был до 1915 года. 19 сентября 1915 г. - бряцание оружия, сонм турецких захватчиков и пламя: «город сжигали». В течение двух дней охваченный огнем город превратился в груду пепла.
В 1918 г., когда Ачин был сдан Франции, 8 тысяч ачинцев, избежавших смерти, вернулись из изгнания в свои родные края. Однако жить им там судьбой не было предрешено. С марта 1920 г. возобновилось нападение турков и жители заняли позиции самообороны.
Центром самообороны была церковь Святой Богородицы, где защитники, без помощи извне, героически противостояли врагу в течение 8 месяцев. После героического контрудара, возглавляемого Арам-Кайцаком, турецкий Гозал-оглун послал Кемал-паше депешу, упомянув в ней о храбрости армян и добавив в заключение: «Но ничего, рано или поздно они останутся под нашими клинками».
И этот день наступил, «под клинками осталось» 6 тысяч ачинских героев, 387 из которых, спасаясь бегством, рассеялись по всему миру. 15 октября 1920 г. был роковым днем.
Исторический Ачин был стерт с лица земли, и на руинах цветущего когда-то города сейчас расположился неприметный городок с населением в 5 тысяч человек - турецкий Саимбейли.
От исторического Ачина остались воспоминания, тоска по древней земле в сердцах переживающих все заново наследников, мемуары и книги о героическом сражении. Такие, например, как книга Сократа Терзяна «Восьмимесячная битва ачинских богатырей».
Новый город - Нор Ачин
Жизнь продолжается, и в 1953 г. шесть ачинских семей поселились на краю неприметного запыленного Разданского ущелья, в не имеющем пока еще названия поселке. Спустя несколько лет ачинцы, рассеянные по всему миру, обратились с просьбой в пямять о киликийском городе Ачин назвать населенный пункт Нор Ачином.
Это был далекий 1958 г., и сегодня город уже имеет пятидесятилетнюю историю. С 1970-х годов в городе вступил в эксплуатацию самый крупный завод по обработке алмазов - «Шохакн».
Жизнь продолжается. Из тех, кто прошел через бедствие, сегодня уже никого не осталось в живых, но город стал местом встречи и паломничества для разбросанных по всему миру ачинцев.
Новый город потихоньку создал свою историю и памятники. Население города составляет 12 тысяч человек, здесь расположены четыре средние школы, школа искусства, стадион, центр армяно-французской дружбы и культурных связей, действует танцевальный ансамль «Алмаст».
Город поддерживает дружеские связи с французским городом Шас-Сух-Хон и итальянским Кампобелло - ди Луката.
Молодой город отмечает и свою памятную дату, посвященную памяти жертв, павших в героическом сражении Ачина в 1920 г. Ежегодно во второе воскресенье октября в город съезжаются ачинцы из Армении и из-за рубежа, а также друзья нового города.
В 1973 г. героическое сражение 1920 г. было увековечено в монументе, автор проекта - Рафаел Исраелян.
Во внутреннем помещении монумента расположен музей - музей истории армян Киликии. Это - важный культурный центр не только общины, но и всей Котайкской области, единственный научно-культурный исследовательский центр истории Киликийской Армении. Музейные экспонаты 1907 г. - старинные уникальные книги, киликийские монеты, ценные документы, снимки, бытовые предметы.
Трогательный кусочек славной истории исторической Киликии.
В арцахской войне новый город имеет двадцать погибших и «у этой истории также есть свой памятник».
Церкви пока что нет (есть мемориальная доска на месте, где она должна быть построена), но есть духовный пастырь.
Преподобный Арсен посчитал крайне важным в жизни общины присутствие духовного пастыря, который ежедневно входит в дома армянских христиан. Он поделился с нами своей мечтой: «В один прекрасный день старыми и новыми ачинцами совершить паломничество к церкви Св. Акоба».
Церковь Св.Акоба - единственная, оставшаяся стоять на страже исторической земли.
Гаяне Мкртчян
-
Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН
О правовых форматах карабахско-азербайджанского противостояния
Прямую вооруженную агрессию Азербайджана против НКР с некоторых пор в Баку принято называть достаточно длинно и витиевато: «нагорно-карабахский, армяно-азербайджанский конфликт». Политический «неологизм» сразу же нашел «понимание» в государственных структурах и СМИ Азербайджана. Данное выражение, в интерпретации Баку, означает военное противостояние между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Вынужден признать, что подобное ложное представление нагорно-карабахского конфликта если и не находит понимания, то и не получает должного отпора. А постоянное использование Азербайджаном этого выражения внедряет в подкорковое сознание потребителей информации ложное понимание сути прошедшей войны и нынешней миротворческой миссии Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В этой ситуации усилия армянской стороны вернуть НКР за стол переговоров наталкиваются на неприятие или обуславливаются совершенно неприемлемыми условиями. Наличие данной формулы также до некоторой степени девальвируют апелляции армянской стороны к международному праву как основного механизма решения конфликтных проблем.
Самое, однако, неприемлемое, это игнорирование посредниками и, что там скрывать, всеми вовлеченными в конфликт сторонами, международно-правовых обоснований зарождения Нагорно-Карабахской Республики. И если Азербайджан подобное положение дел безусловно устраивает, то пассивность армянской стороны в этом вопросе трудно объяснить. Фактически получается, что НКР отказывается от правового аспекта проблемы в угоду политическим, вернее, создавшимся в ходе войны этнотерриториальным реалиям. Между тем, параллельное использование этих факторов способно существенно усилить позиции армянских сторон и девальвировать политические инсинуации Азербайджана.
Для начала представляется необходимым отказаться от рассмотрения любого документа (кем бы он ни был представлен), в котором упоминается «нагорно-карабахский, армяно-азербайджанский конфликт». Для этого у нас есть как фактические, так и правовые основания.
К фактическим основаниям относится, в первую очередь, полная наземная и воздушная блокада Нагорного Карабаха в 1989-92 годах. В те годы единственный в Нагорном Карабахе аэропорт, расположенный на территории поселка Ходжалу, находился под полным контролем внутренних войск МВД СССР и ОМОН Азербайджана. Политики «со стажем» помнят, как через это «двойное сито» жесточайшей проверки не могли пройти не только молодые люди из Республики Армения, но и депутаты Европарламента и Российской государственной Думы. В этих условиях речи о какой-либо масштабной помощи Армении сородичам в Карабахе и речи быть не могло. Правда, впоследствии, уже в период открытых военных действий, ставших возможными в результате вооруженной агрессии Азербайджана против НКР, армянские гражданские вертолеты нередко пробивались в Карабах, но эти полеты не успевали справляться даже с элементарной поставкой медикаментов и вывозом раненых.
Именно это обстоятельство имел в виду Совет Безопасности ООН в своих четырех резолюциях, когда четко указывал в качестве воюющих сторон Азербайджанскую республику и «местные армянские силы» (Резолюция 822 (1993) от 30 апреля 1993 года). В резолюции 884 (1993) от 12 ноября 1993 года Совбез ООН в статье 2 «Призывает правительство Армении использовать свое влияние» с целью достичь соблюдения армянами Нагорного Карабаха предыдущих резолюций. В той же резолюции Совбез ООН осуждает Азербайджан за «недавние нарушения установленного сторонами прекращения огня, которые повлекли за собой возобновление военных действий».
Армению просят «использовать свое влияние» на «местные армянские силы», которые в ответ на «нарушения установленного сторонами прекращения огня» переходили в наступление и освобождали от азербайджанской военщины все новые территории Карабаха. Какое еще нужно подтверждение того, что Армения, как государство, не воевало с Азербайджаном.
Безусловно, тысячи и тысячи армянских добровольцев из Армении (и не только Армении) приехали в Арцах, сочтя за честь и национальный долг защиту древнего армянского края от агрессии соседнего государства. Но это был их выбор, выбор, продиктованный чувством здорового патриотизма и справедливости. В данном случае само сравнение молодых армянских патриотов с хлынувшими в Азербайджан тысячами наемников и представителей радикальных исламистских движений представляется кощунственным.
В этих особенностях нагорно-карабахского конфликта прекрасно разбирались профессионалы из входящих в Совбез ООН государств. Именно поэтому они в своих резолюциях четко указали на воюющие стороны в качестве участников конфликта.
Эту же точку зрения поддерживал и Европарламент, принявший 21 января 1993 года Резолюцию по Армении. Обратим внимание на два пункта этой Резолюции:
в) Европейский Парламент, считая, что СБСЕ (ныне ОБСЕ – Л. М.-Ш.) предпринимает попытки установить мир, создавая условия для переговоров между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха;
г) Европейский Парламент, считая, что полная блокада со стороны Азербайджана и возникший вследствие этого экономический кризис имеют целью втянуть Армению в вооруженный конфликт».
Итак, Совбез ООН и Европарламент в условиях реальной войны однозначно указывали на две воюющие стороны – Нагорно-Карабахскую Республику и Азербайджанскую республику – и все поствоенные усилия (приведшие к временному успеху) следует считать противозаконными, если не сказать иначе и точнее. Трудно представить, что страны и организации, прекрасно осведомленные о конфликте и его участниках, затем, годы спустя, неожиданно «прозрели». Результатом этого политического «прозрения» стало поствоенное «привлечение» Армении в число принимающих участие в войне сторон. Следующий шаг – «исключение» НКР из числа воюющих сторон и отстранение от переговорного процесса стало логическим продолжением отмеченного политического «прозрения».
Этнотерриториальные последствия карабахско-азербайджанского противостояния
Одна из генеральных задач азербайджанской внешней политики заключается в стремлении игнорировать сложившиеся в ходе национально-освободительной борьбы НКР и обороны от военной агрессии Азербайджана реалии. Однако без учета этих реалий мирное урегулирование конфликта невозможно ни практически, ни даже в теории.
Проигнорировать реалии и существующие форматы стороны конфликта не могут, а посредники не вправе. Игнорирование этих важных и уже устоявшихся составляющих последствий войны способно лишь привести к ее возобновлению с легко предсказуемыми последствиями.
Каковы же они, существующие реалии?
1. В результате конфликта произошел недобровольный обмен населением между Арменией и НКР с одной стороны, и Азербайджаном с другой. Армению покинули примерно 150 тысяч азербайджанцев. Еще 38 тысяч азербайджанцев покинули территорию бывшей НКАО. К ним прибавились также около 350 тысяч азербайджанцев, покинувших зону боевых действий в Карабахе. Итого, за годы конфликта – 1988-1994 – примерно 550 тысяч азербайджанцев превратились в беженцев.
В свою очередь Азербайджан депортировал из республики примерно 370 тысяч жителей армянской национальности. Добавим к ним и около 30 тысяч армян, покинувших зону боевых действий в Карабахе. Итого, количество армянских беженцев составляет примерно 400 тысяч. Как видим, количество напрямую пострадавших от конфликта армян и азербайджанцев вполне сопоставимо.
2. В результате конфликта изменилась география ареала проживания армян и азербайджанцев. Армяне вынуждены были покинуть не только, например, Баку и Сумгаит, но и исконно армянские территории, на которых они являлись автохтонами. Речь идет об исторической армянской провинции Утик и значительной части Арцаха (кстати, Карабах – это совокупное название двух этих провинций). В свою очередь, азербайджанцы покинули населенные ими преимущественно в 1918 году несколько районов в Карабахе.
Учтем также, что определение «азербайджанцы» в данном случае достаточно условно, ибо в Карвачарском, Кашатагском, Зангеланском и Кубатлинском районах до конфликта проживали в основном курды, обитавшие в этом армянском уголке с конца XVII века. Как армяне, так и азербайджанцы (которых они идентифицируют с турками) являются для курдов в одинаковой мере чужими, и перспектива оказаться в эпицентре военного противостояния этих народов им вовсе не улыбалась.
3. В результате развязанной Баку агрессии против НКР, Азербайджан лишился контроля над примерно 8,3 тысяч квадратных километров территории Карабаха, лишенной армянского населения еще до начала конфликта. Кроме того, Азербайджан лишился контроля еще над четырьмя тысячами кв. км. территории, населенной армянами до начала боевых действий. Однако Азербайджан получил контроль над примерно 500 тысяч квадратных км. территории собственно НКР. Кроме того, населенные в основном армянами Ханларский, Дашкесанский и Шамхорский районы также остались под контролем Азербайджана.
Общие территориальные потери Азербайджана (если за основу брать волюнтаристски очерченные границы Азербайджанской ССР и без учета о территории НКР ), составили примерно 8 тысяч кв. км., что составляет около 7.8% территории советского Азербайджана. В свою очередь, НКР потеряла примерно 14% от провозглашенной 2 сентября 1991 года территории.
Таковы сложившиеся в результате конфликта этнические и географические реалии.
Первое, на что невозможно не обратить внимание, это отсутствие «чересполосного» проживания армян и азербайджанцев. Осталась в прошлом конфликтогенная ситуация, когда представители двух этих народов практически были обречены на бытовые, локальные и глобальные конфликты. Нелишне будет напомнить, что в советские годы этот фактор активно использовался Азербайджаном. В то время, например, все дороги, ведущие из одного армянского райцентра в другой были проведены таким образом, чтобы люди были вынуждены выезжать за пределы армянского района, пересекать азербайджанонаселенные районы и вновь въехать в армянский район. Правило это не имело исключения во всем Карабахе, что указывает на его преднамеренность, стратегическую и политическую подоплеку.
Граница между армянским и азербайджанским ареалами проживания сложилась по наиболее возможной прямой, то есть сокращена до минимума, что, в свою очередь, минимизирует возможности новых столкновений. Последнее обстоятельство способствует сохранению того самого пресловутого баланса сил, который, согласно общему мнению, способствует сохранению режима прекращения огня.
Нет никаких сомнений: любые изменения сложившегося статус-кво неминуемо приведут к требованиям армянской стороны о возвращении, по крайней мере, Шаумянского района, являющегося составной частью НКР и оккупированного в 1992 году, в ходе летнего наступления совместных сил Азербайджана и 23-й мотострелковой дивизии СНГ.
Нагорно-Карабахская Республика суверенна уже 17 лет. Свыше трети населения Республики выросло в независимом государстве, и не представляет себе иной жизни. Никакая пропаганда не в силах будет внушить им, что НКР «вдруг» может оказаться в составе инонационального государства.
Вышеприведенные реалии карабахско-азербайджанского противостояния существуют ровно 15 лет, что является доказательством как их необходимости, так и жизнеспособности. Любое нарушение сложившегося этнотерриториального баланса и формата неминуемо станет пусковым механизмом для новой войны. Гораздо более разрушительной и кровопролитной, безусловно способной вовлечь в свою орбиту другие государства, имеющие исторические, экономические или геополитические интересы в регионе. Лишь человек, страдающий отъявленным оптимизмом или, что ближе к истине, политическим инфантилизмом, может попытаться не учесть этот фактор.
Чтобы жить мирно, надо жить раздельно
ХХ век стал свидетелем трех войн между армянами и закавказским тюрками: в 1904-05, 1918-20 и 1991-94 годах. Даже поверхностное сравнение течения и последствий первых двух войн выявляет интересную, но и горькую для армян закономерность: армяне неизменно побеждали на поле боя и… столь же неизменно теряли населенные армянами территории. Так, после военных успехов в 1904-05 годах полностью обезлюдели десятки армянонаселенных деревень Ширвана, Нахиджевана, Казахского, Вардашенского, Куткашенского районов. После войны 1918-20 годов геноциду и опустошению подверглись армянские поселения Нухи-Арешского региона, были частично вырезаны и депортированы многие деревни южных районов Карабаха, отдельные деревни Шамхорского, Дашкесанского, Гедабекского, Касум-Исмайловского районов, левобережные армянские поселения Гандзака. Только в Баку и Шуши в общей сложности было вырезано свыше шестидесяти тысяч мирного армянского населения. Добавим также, что большая часть указанных территорий так и осталась лишенной исконного армянского населения.
Как же получалось, что победы на фронтах войны оборачивались для армянской стороны потерей огромного количества собственного населения и исторических территорий? На итоги этих войн, безусловно, повлияла цивилизационная особенность мышления представителей тюркских племен Закавказья, больше привычных грабить и убивать беззащитное мирное население, чем воевать на поле боя. Вместе с тем, было бы ошибкой недооценивать значение дипломатии закавказских турок, сумевшей выжать из ситуации максимум возможного. С другой стороны, армянские политические деятели, убаюканные победами на фронте, демонстрировали на послевоенных переговорах преступную, иначе не скажешь, халатность к судьбе армянских территорий. Известны даже случаи (Назаретян), когда представители армянской стороны голосовали за передачу Азербайджану исторических армянских территорий, или (Атарбекян) оказывали содействие Турции и Азербайджану в совершении агрессии против Армении.
Сегодня, спустя 15 лет после установления режима прекращения огня на фронтах Карабахской войны, Азербайджан вновь стремится к повторению прошлых успехов, достигнутых за столом переговоров. При этом Баку особо и не изощряется, и пользуется уже апробированными в начале века аргументами: выгодное географическое расположение, нефть, Турция и печально знаменитый фактор азербайджанской толпы. Единственным новшеством в дипломатии Баку являются попытки привлечения и использования исторических данных, однако эти пробы пока не приносят Баку дивидендов в виду грубого искажения общеизвестных фактов.
Тем не менее, в Азербайджане довольно быстро сориентировались и «разделили историю» на два этапа: а) советский период и б) остальной период. Баку «разделил» также и сферу практического применения накопленных «исторических знаний», вернее, наработанного опыта по распространению дезинформации среди потребителя.
В пределах Азербайджанской республики, как правило, пропагандируется «остальной» этап истории, включающий в себя «автохтонность» тюрок на Кавказе, «тюркоязычность» кавказских албанцев, «христианские» храмы «предков» нынешних азербайджанцев, оболганные «башдаш»-ами армянские хачкары и другая, рассчитанная на полуграмотного кочевника дребедень. За пределами Азербайджанской республики Баку пропагандирует советский период истории, в особенности, границами советского Азербайджана. При этом Азербайджан широко пользуется уже привычными приписками и банальной ложью.
С помощью подобной нечистоплотной, однако, и это следует признать, достаточно эффективной политики, Баку получил возможность бесконечного разжигания антиармянских настроений в республике, а также требований о возвращении под контроль Азербайджана «20% территории» и возвращении в места доконфликтного проживания «свыше одного миллиона беженцев». Что касается «двадцати процентов» и «одного миллиона», то эти тезисы были развенчаны в предыдущих главах (надеюсь, убедительно). При этом следует иметь в виду, что Азербайджан продолжит оперировать этими цифрами до тех пор, пока их искусственность и натянутость не станет понятна всякого рода посредникам.
Гораздо интереснее выглядят требования о восстановлении территориальной целостности… советского Азербайджана.
Проблема даже не в том, что, провозглашая свою независимость, Азербайджан сам отказался от советского наследства. И закрепил это решение в конституционном акте о независимости, хотя одного этого факта было бы достаточно, чтобы пренебречь требованиями Азербайджана о «восстановлении территориальной целостности». Проблема в другом: Карабах был передан неконституционным партийным органом третьей страны именно советскому Азербайджану. Именно по этой причине конституционный акт о независимости «спрятал» территорию провозглашаемого государства под обтекаемой и ничего не объясняющей фразой. Статья 14 данного акта гласит: Территория Азербайджанской Республики в исторически сложившихся границах едина, неделима, неотчуждаема (выделено мной – Л. М.-Ш.).
Можно, конечно, долго иронизировать над «исторически сложившимися границами» государства, имевшего менее двух лет истории и не признанного мировым сообществом, однако суть проблемы в том, что подобным «термином» Баку обозначает территорию Аз. ССР, той самой республики, от наследия которой столь торжественно отрекся.
Между тем, пункт 7 статьи 14 советского Закона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» четко указано:
«Во взаимоотношениях между выходящей республикой, с одной стороны», и союзом СССР, а также иными союзными республиками, автономными республиками, автономными образованиями и национальными группами, упомянутыми в части второй статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны, в течение переходного периода должны быть решены следующие вопросы:
… 7) согласован статус территорий, не принадлежащих выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР.
Иными словами, все, что не принадлежит тебе, должно остаться вне твоих пределов.
Еще один серьезный фактор: Азербайджан провозгласил свою независимость без проведения референдума и учета мнения населения, волевым путем, после чего попытался узурпировать власть на территории, население которой отказалось подчиниться воле пары сотен человек. Примечательно также, что на незаконно провозглашенной независимость сессии Верховного совета Азербайджанской ССР не присутствовал ни один (!) армянин.
Констатирую: по сей день не нашлось ни одной международной организации, ни одного межгосударственного института, которые смогли бы доказать законность провозглашения Азербайджанской республики и оспорить правомерность зарождения и существования Нагорно-Карабахской Республики. Вся деятельность посредников сводится к поискам мирного сосуществования армянского и азербайджанского народов.
Но почему для того, чтобы жить мирно, нужно жить вместе?
-
Светлана Маркарян
История одной трагедии
Арташатский отряд (в дальнейшем названный «Армией независимости») был сформирован в сентябре 1989 г. В самом начале в отряде было 18 бойцов, все они были верны идее независимости. В сентябре же, сразу после своего создания, отряд отправился в приграничную зону Горисского района: в села Тех, Корнидзор и Аравус. Именно эти села были мишенью бомбежек со стороны Азербайджана. Командиром отряда был мой старший брат - Самвел Маркарян, а одним из рядовых бойцов - младший брат Вардан.
Одновременно в тот же район отправились и ребята из аштаракского отряда, которым командовал Гехазник-Чауш (в течение первых 10-11 дней после прихода АОД к власти он погиб при «таинственных» обстоятельствах в самом сердце Еревана, во время осады и нападения на АНА. Чауш и Самвел быстро подружились и сотрудничали друг с другом. Но в отряде Гехазника были проаодовские элементы, «раскольники» (как например, Мушег Сагателян), которые делали все, чтобы повести объединенную армию к АОД.
Мы, члены ОНС, в то время собирались каждую пятницу в зале Дома слепых и проводили собрания, на которых председательствовал Мовсес Горгисян. Именно в эти дни Мовсес объявил о создании Армии независимости. На призыв Мовсеса немедленно откликнулись находящиеся в Аравусе бойцы арташатского отряда. После личной беседы с Мовсесом, Ашотом Навасардяном и Самвелом они первыми вошли в Армию независимости, образовав ее костяк. 7 декабря 1989 г. произошло первое сражение армян и азеров - Корнидзорское. В этом бою армянская сторона понесла первую жертву - Норика из Уджана. Главнокомандующим в корнидзорских боях был Самвел, и сражались ребята против азеров и солдат российской армии. Но то сражение, о котором писали газеты, принесло отряду известность.
Следующее сражение произошло 18-19 января 1990 г. под Ерасхаваном, во время которого опять же первыми бросились в бой ребята из арташатского отряда. Во время этого боя был ранен в ногу один боец - Гор Варданян. В то время пока еще никому не известный член араратского отделения АОД Вазген Саркисян написал статью «Умереть мне за вас, арташатцы!», посвященную бойцам арташатской Армии независимости. После этого отряд стал легендой. И началось... Правление АОД постоянно требовало, чтобы отряд перешел в их подчинение. Особенно не жалели сил Вазген Саркисян и члены арташатского отделения АОД, но все уговоры и усилия были тщетны.
Эти непрекращающиеся претензии, о которых я потом, после гибели Мовсеса, постоянно ставила в известность Ашота Навасардяна, закончились тем, что Центр направил в Арташат опытного политзаключенного, члена ОНП, известного политического деятеля Акопджана Тадевосяна, чтобы он на месте координировал действия. Прибытие Акопджана в Арташат оказало на АОД нервно-паралитическое действие и заставило их наконец перестать «домогаться» нас. И «непристойные» предложения прекратились. Из Америки от Паруйра Айрикяна поступил приказ - или разоружить ОНС и оставить его на сугубо политических позициях, или уйти. 2 апреля 1990 г. Ашот Навасардян ушел, после чего он основал РПА, куда первыми вошли бойцы «Армии независимости» Арташата всем составом - 32 человека.
Такой расклад, понятно, совершенно не пришелся по вкусу ни АОД, ни его тогдашним хозяевам и указчикам - коммунистам из Москвы и их ереванским марионеткам. ...Последовали известные кровавые арташатские события. Против бойцов отряда организовывались многочисленные грязные провокации, которые осуществлялись объявившими себя бойцами вооруженного формирования АОД и местными уголовниками. Отряд продолжал охранять границы республики в Вайке, участвовал в боях в Ноемберяне, Ерасхаване, Барцруни и одновременно боролся с преступными типами, которые, непонятно каким образом в кратчайшее время успели вооружиться и восстать против отряда. Произошедшая кровавая резня вконец скомпрометировала бойцов отряда. За этим последовали всякие высосанные из пальца небылицы, придуманные неизвестными лицами с одной целью - представить беззаветно преданных родине ребят кровожадными монстрами.
Все закончилось тем, что после прихода АОД к власти, когда бойцы АНА, «Легиона независимости» уже были за решеткой, мы также оказались там. Аресты ребят начались 16 сентября 1990 г., после того как мы с братом Самвелом пошли на встречу с Вазгеном Саркисяном. Ответив отказом на его приглашение пройти в кабинет (мы знали, что пару дней назад туда был приглашен ни о чем не подозревавший командир отряда «Легион независимости», служитель церкви св. Саркиса отец Григор, где его и арестовали), мы продолжили беседу в кафе - неподалеку от зала заседаний. Вазген тогда сообщил нам, что намерен сформировать отряды еркрапа и предложил нам войти в состав этих формирований.
Самвел же предложил сдать оружие и начать мирную жизнь. Но Вазген остался непреклонен. Мы с самого начала видели, что за типы окопались в АОД, что у них на уме, что их представления и цели диаметрально отличаются от наших. Мы прекрасно знали, кто организовал кровопролитие 27 мая: это они предложили нам для начала переправить на вокзал оружие, чтобы нашими руками осуществить свою провокацию, но, получив отказ, обратились к тем бойцам, кто и стал потом жертвой их подлости. У нас живут те, кто тогда обратился к нам с таким предложением, мы их знаем поименно.
Мы знали, кто разграбил село Халиса Араратского района и присвоил деньги и драгоценности азербайджанцев; знали, кто крадет скот, мешки муки, а потом продает все по эту и по ту сторону границы; знали, почему и по чьему приказу произошло Ерасхаванское сражение, с какой целью все это делалось. Мы уже знали о том насилии, коим подверглись ребята из АНА, из «Легиона независимости», и естественно, не могли примкнуть к опозорившей себя своре АОД, даже во имя нашей свободы.
В это время Леонид Азгалдян со своей группой находился в Варденисе. Он позвал к себе Самвела. Отряд готовился отправиться в Варденис, к Леониду, но не успел... За решеткой оказался один из первых отрядов Армении, отличавшийся своей дисциплиной и боеспособностью, отряд, который мог стать, как сказал Навасардян, Полком Славы независимой Армении. Но никто не осмелился пойти против «всемогущих» и рассказать о том, что случилось с нами, о тех позорных и кровавых событиях, в которые нас втянул замминистра ВД Карлен Торосян.
За решеткой оказался отряд бойцов, из которых 5 были избраны депутатами, причем избраны именно в то время, когда они сидели под арестом - в условиях жестокой борьбы с АОД, даже при альтернативе выбора - и так каждый раз. В зал суда входили эти бойцы-депутаты, чьи избиратели, районный комитет, принявший единогласное решение, лидеры многих партий, депутаты, писатели, все население приграничных районов письменными заявлениями требовали отпустить их на свободу. Вспомним, что Сталин, этот жестокий человеконенавистник, во время войны выпустил из тюрем даже уголовников, чтобы было кому сражаться на фронтах войны. Меткую оценку всему этому дал замполит АНА Вардан Варданян (человек, который прекрасно знал нас всех и был в курсе всех событий во всех деталях) в своей книжке, которая называлась «За железным занавесом».
Да, большая часть бойцов отряда провела за решеткой много лет своей жизни: мой младший брат Вардан - 8 лет, старший, командир отряда Самвел - 12 лет, я - 2 года в тюрьме КГБ. Не выдержала всего этого психика Акопджана Тадевосяна, он умер в психушке, там же долгие годы лечился уже душевнобольной заместитель командира Ваграм Арамян. Самвел, отсидев 12 лет, в августе 2003 г. попал в «автокатастрофу» и умер в больнице Эребуни. В свидетельстве о смерти написано, что он отравился...
Мой рассказ - лишь малая часть того, что случилось с нами, но, думаю, и этого достаточно, чтобы понять всю степень трагизма происшедшего с нами, понять важность того, что это необходимо (или нет) сделать достоянием общественности даже 18 лет спустя.
-
Фанарджян Виктор Варфоломеевич
ЖИЗНЬ В НАУКЕ
30 марта исполнилось бы 80 лет выдающемуся ученому-физиологу академику НАН Армении, члену-корреспонденту Российской академии наук, члену ряда зарубежных академий, заслуженному деятелю наук Грузии, директору и бессменному руководителю лаборатории физиологии центральной нервной системы Института физиологии им. Л. А. Орбели НАН Армении, председателю Армянской ассоциации Международной организации по исследованию мозга, председателю Армянского физиологического общества, а также члену ряда редколлегий и редакционных советов нескольких профильных ведущих международных физиологических журналов, доктору медицинских наук, профессору Виктору Варфоломеевичу Фанарджяну.
Виктор Варфоломеевич Фанарджян родился в Тбилиси в семье основоположника и создателя рентгенологии и рентгенологической школы в Армении академика АН Арм.ССР, члена-корреспондента АМН СССР Варфоломея Артемьевича Фанарджяна. Любовь к науке проявилась уже в годы учебы в Ереванском государственном медицинском институте (1946-1951 гг.). В дальнейшем он проходит курс аспирантской учебы в Ленинграде в отделе сравнительной физиологии Института экпериментальной медицины АМН СССР под руководством академика, профессора Д.А.Бирюкова и при непосредственном научном общении с членом-корреспондентом АН СССР А. И. Карамяном. И кандидатская (1954), и докторская (1964) диссертации были защищены в Ленинграде. В 1955 году он как уже состоявшийся ученый возвращается в Ереван и с тех пор до последнего дня жизни работал в Институте физиологии им. Л. А.Орбели НАН Армении, где с 1962 года возглавлял лабораторию физиологии центральной нервной системы.
Велико научное наследие Виктора Варфоломеевича: он автор свыше 400 научных работ, 5 монографий, 4 учебников, 3 разделов в многотомном «Руководстве по физиологии» (издательство «Наука»). Им выполнены совместные исследования с видными учеными-физиологами Японии, Германии, Франции, Венгрии. Под его руководством защищены 38 докторских и кандидатских диссертаций.
Научная деятельность В. В. Фанарджяна характеризуется удивительной последовательностью и целеустремленностью. Широкая эрудиция, блестящие способности экспериментатора позволили выполнить работы, имеющие фундаментальное значение. Для ответов на вопросы сформулированных им задач требуются новые экспериментальные методики. С этой целью он проводит громадную работу по внедрению внутриклеточной техники исследования - изучения механизмов передачи информации между нервными клетками. Основным предметом интереса ученого явились «механизмы интеграции ствола мозга и мозжечка». На основании проведенных оригинальных фундаментальных исследований в этом направлении Институт был признан головным в Союзе, а В. В. Фанарджян - руководителем этого раздела Всесоюзной программы «Мозг» Российской НАН.
Важную и сложную проблему поведения и одну из форм ее проявления - становление двигательного акта - он изучал в аспектах условнорефлекторной деятельности, нейронной и синаптической организации моторных центров на различных уровнях мозга. Большой раздел представляют работы В. В. Фанарджяна по исследованию организации афферентных систем мозжечка, что позволило рассматривать центральные ядра мозжечка как образования, обладающие собственными интегративными механизмами и сложной функциональной организацией. Обширный раздел работ посвящен изучению сложнейшей проблемы физиологических механизмов пластических свойств нервной системы. Ученым получены важные факты фундаментальной значимости о возможностях переключения в определенных условиях деятельности руброспинальной системы на кортикоспинальную и предложены пути осуществления этого переключения.
Огромная творческая активность В. В. Фанарджяна проявилась не только в его фундаментальных исследованиях, но и в многообразной научно-организационной деятельности. С 1974 по 1978 гг. и с 1983 до последних дней он был директором Института физиологии Л. А. Орбели, в 1978-1990 гг. - вице-президентом НАН Армении.
За выдающийся вклад в мировую физиологическую науку в 2002 году он был удостоен международной премии Исламской Республики Иран по науке и технологии им. Хорезми. На эту премию претендовали ученые из 92 стран, однако высшее руководство Ирана признало работы В. В. Фанарджяна лучшими из представленных в области естественных наук.
В нашей памяти В. В. Фанарджян останется ученым незаурядного таланта, блестящим экспериментатором, крупным организатором, преданным высоким идеалам науки, чутким, обаятельным человеком неутомимой энергии. Научные идеи академика В. В. Фанарджяна долгие годы будут неиссякаемым источником дальнейших разработок в области нейрофизиологии.
Президиум НАН Армении, отделение естественных наук НАН Армении, Институт физиологии им. Л. А. Орбели НА
-
Уильям Сароян
ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ НАС
Генерал Андраник собственной персоной сидит здесь, в адвокатской конторе Арама, и разговаривает со мной, шестнадцатилетним подростком, хотя я и не обращался к нему: «Как поживаете, сэр?»
Ему – одному из самых знаменитых армян на свете, а может, даже самому знаменитому - под пятьдесят или пятьдесят с небольшим, но сейчас он живет во Фресно, одет в заурядный костюм, вдалеке от белого коня, на котором он изображен на фотографии, висящей на стене в каждом доме. Сейчас он ходит пешком, у него даже нет собственного автомобиля. Битва не на жизнь, а на смерть во имя нации окончилась ни жизнью и ни смертью, а сама по себе, и он не понимает, что произошло.
Армения теперь далеко, дальше, чем можно измерить расстоянием или географией; она теперь часть России, очень небольшая, осколок от того, чем была. Он больше никогда ее не увидит. Мир изменился. Люди изменились. Они скорее всего живы, слава богу. Тут и там, по всему миру армяне заняты выживанием и забвением. Две главные политические партии во Фресно ведут горячие дебаты о нем в своих газетах, на собраниях, в кофейнях и гостиных, потому что где-то в конце войны он отказался подчиняться приказам первого правительства Армении, независимой, наконец, Армении, а потом – в это даже не верится – воевал против правительственных войск. Неужели такое бывает? Неужели такое возможно? Разве твой собственный народ, ты сам могут быть настоящим врагом? В его голосе мне слышится гнев, но теперь этот гнев смягчился настолько, что стал печалью по всем погибшим, по единой великой нации мертвых, не важно чьих.
Есть две вещи, заставляющие меня ощущать себя армянином, – это камни в земле и лицо этого человека, Андраника, особенно его глаза. Я этого не понимаю, но каждый раз, когда я вижу огромные камни в земле, я ощущаю свое армянство. Я испытал печаль и гнев, хотя я не знаю, почему или на кого или на что я был разгневан. Голос у Андраника низкий, но он говорит мягко, медленно и внятно. Его слова говорят то, что говорят, но они говорят и кое-что еще, к чему я должен внимательно прислушиваться, чтобы расслышать. Его слова гласят:
- Брат твоей матери - Арам – человек редкий, как тебе известно. Очень подвижный, стремительный, деловой и преуспевающий в любом своем начинании. Очень толковый. Всегда приятно бывать в его конторе, встречаться с ним, слышать его голос, замечать настороженный юмор в его глазах, знать, что он преуспел в Америке ради всех нас. Но я рад, что застал здесь не его, а тебя.
Я слушаю, слежу за его глазами и думаю: «Что это такое говорит Андраник?»
- Я смотрю, ты любишь читать, - сказал он, глядя на стопку книг из публичной библиотеки у меня на столе.
Но я чувствую, что ему хочется поговорить совсем о другом.
- Да, сэр.
- А хорошего ли качества эти книги?
- Я читаю все подряд, но очень мало беллетристики.
По-армянски «беллетристика» – «веп», что означает «притча», «выдумка» или даже «ложь».
- Историю? Поэзию? Драму?
- Научную. Художественную. Философскую. Этнографическую. Медицинскую. Что попало.
- Почему ты читаешь такие книги?
- Мне здесь не нравится. За чтением я не так остро ощущаю свое пребывание здесь.
- А где бы ты хотел находиться?
- Там, где я мог бы по-настоящему стать самим собой.
- А здесь разве невозможно быть по-настоящему самим собой?
- Я очень люблю свою работу на телеграфе, потому что она позволяет мне встречаться с людьми разного сорта. И я со всеми в ладу, но это, может, потому, что я научился этому, и потому, что я смог бы ладить с кем угодно и где угодно. Но я терпеть не могу жестокости, а ее здесь повсюду полно.
- Ты имеешь в виду физическую жестокость? Скажем, отец лупит сына? Или рассерженный человек стегает лошадь?
- Иногда. Но самая плохая жестокость не физическая. Невинным всегда приходится хуже всех, и я не могу понять почему.
Он смотрит на меня своими мягкими глазами, как будто видит в первый раз. И я думаю, скажет ли он когда-нибудь то, что у него на уме.
- Есть труднопостижимые вещи, - говорит он, затем задумывается и ждет, быть может, не будучи уверенным, хочет ли он продолжить.
Он достает из кармана коробочку египетских сигарет, открывает, берет сигарету, прикуривает, делает глубокую затяжку и очень медленно выдыхает.
- Разумеется, у нас были очень веские причины. То, что они делали с нами, мы в свою очередь делали с ними, с их невинными. Невинные – это целая нация, существующая сама по себе, вопреки и назло всем остальным нациям. У этой нации нет правительства, политической философии, расы, религии – только люди. Сначала я пытался запрещать своим солдатам. Я пытался наставлять их, что мы не можем создать свое государство на крови и костях невинных людей, будь то своих или чужих. За такое убийство карали судом и казнью. И мне выпала страшная ноша - быть и судьей, и палачом. Маленькая армия, которая может выжить только благодаря стремительным атакам и отступлениям, должна иметь снабжение и пополнять припасы там, где их найдет. Но когда убиваешь мальчика одиннадцати-двенадцати лет за то, что он вцепился в мешок с зерном, которое равносильно жизни и смерти для его братьев и сестер, то кого ты убиваешь, если не своего собственного сына? А когда ты убиваешь того, кто убил мальчонку, кого ты убиваешь, если не своего брата? Мало-помалу суды и казни сошли на нет, и убиение невинных возобновилось, причем с новой силой. Вскоре в расход пошли и старики со старухами. И все жители поголовно. Одно село истреблялось за другим. Мы забирали все, что нам нужно, и столько, сколько могли унести. Вот как мы поступали. Вот как я поступал. Нас вынудили так поступать. Я был вынужден так поступать. В противном случае нам грозила неминуемая гибель. Но после того, как мы стали так поступать, учти: после того как мы стали это делать, мы потерпели полный провал.
«Только не останавливайся, - думал я. - Ради бога, давай скажем о себе всю правду, будь она неладна, а все остальные пускай врут, изворачиваются, выживают, или подыхают, или покоряют этот чертов мир».
Он продолжал рассказывать о происшедшем, когда пришел Арам, завел его в свой кабинет и захлопнул дверь.
Минут через десять-пятнадцать генерал Андраник вышел, больше не глядя в мою сторону. Арам говорит:
- Ты видишь, Вилли, Господь послал меня на Землю творить добро.
Я-то знаю, он выписал чек и вручил Андранику, чему я очень рад и горжусь тем, что он брат моей мамы и что он на это способен.
- Он величайший из нас, - говорит Арам, - но как, должно быть, ужасно для такого человека, как он, стать теперь ничем. Сколько времени он провел здесь до моего прихода?
- Около часа, наверное.
- Он говорил что-нибудь? Или сидел просто так?
- Нет, он разговаривал.
- Почти час?
- Да.
- Ну и о чем же он говорил?
- Он говорил о тебе. Он восхищается тобой и очень тебя ценит.
- Вот! Теперь хоть до тебя дошло то, что я столько лет пытаюсь вбить в твою ослиную голову! Он величайший изо всех нас человек, вдалеке от того места, где он добился своего величия. И кем он восхищается? Мною. Кого ценит? Меня. Арам Сароян – вот имя, которое никогда не будет предано забвению, покуда жив на свете хоть один армянин! Когда я прибыл в эту страну, у меня ничего не было. Теперь есть все. Слава. Состояние. И великое имя.
Тут он переходит на шепот. Он всегда так делает, когда речь заходит о величии.
- Постарайся быть таким, как я, Вилли. В твои годы я не протирал штаны, сидя в библиотеках за чтением книжек и сочинением стишков. Я бегал. Бегай же и ты, Вилли, беги!
Я выбежал из конторы, а он пустился вдогонку с криком:
- Да не сейчас, олух ты царя небесного! И не туда!
Год или два спустя генерал Андраник умер во Фресно, но к тому времени все немного изменилось, и его кончина, казалось, не имела большого значения, хотя в глазах Арама стояли слезы, когда он произнес:
- Он правильно сделал, что ушел. Этот мир не для таких, как он...
1966
Перевел с английского Арам ОГАНЯН
---------------------------------------------------------
От переводчика
В рассказе зрелой поры «Величайший из нас» (1966) Уильям Сароян возвращается к своим встречам с Андраником. Здесь идет трудный разговор об ужасах войны вообще и войны, которую вел Андраник против турок. В первом рассказе, «Андраник Армянский» (1936), Сароян вскользь говорил о том, что «турки убивали армян, а генерал Андраник со своими солдатами убивал турок. Он убивал простых, добродушных, обыкновенных турок, но не уничтожил ни одного настоящего преступника, потому что все истинные преступники держались от поля боя подальше».
Турки любят спекулировать на тему убиения Андраником мирного турецкого населения, разумеется, не афишируя того обстоятельства, что Андраник расстреливал своих солдат за расправу над гражданским населением. А тем временем эти самые «простые, добродушные, обыкновенные турки» принимали массовое участие в резне депортируемых армян. И когда терпеть такое стало невозможно, Андраник отвечал им на том языке, который они лучше всего понимали.
Своих самых гнусных убийц, Энвера, Талаата и проч., изничтоженных армянскими мстителями, турки с почестями перезахоронили в Турции и возвели в ранг национальных героев. Тем самым современная Турция подтвердила, что традиции геноцида не чужды ей и поныне, когда она ломится в двери Европейского Союза. Аналогичная ситуация сложилась у азербайджанцев: сначала они объявили национальными героями сумгаитских погромщиков, сжигавших людей заживо, потом у них выбился в герои выродок, убивший топором спящего человека (Жалок народ, у которого такие «герои». Интересно, кого они тогда считают подонками?).
Генерал Андраник и командиры армянских добровольческих дружин по большей части воевали против многократно превосходящих сил противника на протяжении многих лет. На заре добровольческого движения в отрядах армянских гайдуков было запрещено стрелять в женщин, детей и скот противника. Какие благородные и вместе с тем наивные и романтические были времена! Андраник и его соратники испытывали угрызения совести за невинно пролитую кровь в отличие от «героев» противника. Именно об этом рассказывал Андраник юному Сарояну во Фресно. Поэтому рассказ и называется «Величайший из нас».
-
МЫ И НАШЕ ГОРЕ
Кто виноват? Географическое ли положение, христианская ли Европа, мусульманская ли Азия, судьба ли? Все, кроме нас?!
Гарегин Нжде
О подписанном в марте 1921 года русско-турецком "Договоре о Братстве…" многие наши соотечественники вспоминают практически ежегодно. Оно и понятно: именно этот документ и стал тем пресловутым "правовым основанием", которое допустило отторжение от Армении ее исконных территорий - Арцаха и Нахиджевана. Документ очертил контуры заблокированной ныне армяно-турецкой границы, оставив за колючей проволокой исторический очаг становления нации и ее святыни. В течение последнего десятилетия появилось немало важных публикаций на эту тему, некоторые специалисты обнаружили и уязвимые с точки зрения международного права пункты в самом документе. Однако сегодня хочется рассмотреть этот роковой договор в другом ракурсе.
Конечно, очень легко и заманчиво обвинять в урезывании армянских земель большевистскую Россию, тем более что в принципе так оно и было. Но ведь куда важнее самим разобраться в том, при каких обстоятельствах и почему такое стало возможным. При рассмотрении подобных вопросов мы, как правило, обходим стороной некоторые деликатные моменты собственной истории, хотя именно они способны пролить свет на причину национальных катастроф.
Например, говоря об антиармянской политике Азербайджана в 20-30-е годы прошлого века, мы почему-то "не замечаем", что тогда этой республикой руководили и армяне. Среди первых девяти председателей азербайджанской большевистской партии (1920-1933 гг.) собственно татар вообще было только двое - Мирза Гусейнов и Рухулла Ахундов, и правили они вместе чуть более года. Но что нам известно о деятельности "армянских руководителей" Азербайджана?
Например, чем конкретно отметился Левон Мирзоян, период правления которого (1926-1929 гг.) совпал с массовой депортацией армянского населения Нахиджевана? Насколько он - руководитель республики, был причастен к решению азербайджанского ЦИК об отказе армянским беженцам в праве вернуться "в Нахичеваньскую АССР ввиду того, что местное население не обеспечено достаточным количеством земли для ведения сельского хозяйства". Что нам известно о его позиции по поводу передачи в 1927 году десяти армянских сел Шамхорскому району с целью изменения демографической ситуации в Арцахе?
Вообще ситуация парадоксальная: мы больше знаем о том же Левоне Мирзояне как о руководителе Казахстана, чем о его деятельности в Азербайджане, причем в наиболее судьбоносное для армянского населения время. Вполне возможно, что он - уроженец Шушинского уезда - противился всем антиармянским постановлениям, но ведь вопрос остается открытым. Или чем отметился другой руководитель советского Азербайджана - уроженец Тифлиса Рубен Рубенов? Или тот же Анастас Микоян, который был председателем азербайджанской большевистской партии в 1920 году? Хроника и документация того периода обильна и противоречива, однако важно знать, как именно проявляли себя "наши".
И если уж говорить о политике Азербайджана в первое советское десятилетие (когда, собственно, все и произошло), то необходимо учитывать и подобные детали. Ведь без восстановления более полной картины, особенно если там фигурируют (отнюдь не на вторых ролях) и наши соотечественники, невозможно понять причины потерь прошлого и, что особенно важно, предотвратить потери в будущем. Аналогичное можно сказать и в отношении пресловутого Московского договора. Известно, что прежде чем обратиться к Турции, российские большевики обратились именно к армянам.
В последний декабрьский день 1917 года нарком Иосиф Сталин опубликовал в газете "Правда" поразительно откровенную статью, посредством которой и предложил армянской политической элите покровительство большевиков. Иногда кажется, что если бы будущие основатели Первой Республики отнеслись к этому посланию более серьезно и приняли сторону революции, многие сегодняшние вопросы просто не состоялись бы. По крайней мере, чем глубже пытаешься вникнуть в атмосферу того неоднозначного времени, тем менее банальным представляется утверждение о том, что история не терпит сослагательного наклонения.
"Так называемая "Турецкая Армения" - единственная, кажется, страна, занятая Россией "по праву войны". Это тот самый "райский уголок", который долгие годы служил (и продолжает служить) предметом алчных дипломатических вожделений Запада и кровавых административных упражнений Востока. Погромы и резня армян, с одной стороны, фарисейское "заступничество" дипломатов всех стран как прикрытие новой резни, с другой стороны, в результате же окровавленная, обманутая и закабаленная Армения, - кому не известны эти "обычные" картины дипломатического "художества" "цивилизованных" держав?"
Конечно, Сталин (пусть даже молодой) - это та персона, "идеализация" которой уже в прошлом. Но разве можно усомниться в меткости его определений? "Сыны Армении, героические защитники своей родины, но далеко не дальновидные политики, не раз поддававшиеся обману со стороны хищников империалистической дипломатии, не могут теперь не видеть, что старый путь дипломатических комбинаций не представляет путь освобождения Армении… Теперь ясно для всех, что судьбы народов России, особенно же судьбы армянского народа, тесно связаны с судьбами Октябрьской революции…"
Кстати, именно тогда Совет Народных Комиссаров и издал специальный декрет о свободном самоопределении "Турецкой Армении" и о всесторонней поддержке армянского национального движения за независимость от "германо-турецких властей, верных своей империалистической природе, не скрывающих своего желания насильственно удержать под своей властью оккупированные области". Армянская политическая элита нашла целесообразным поддерживать отношения с Антантой, и упрекать ее в этом так же заманчиво, как и обвинять во всем большевистскую Россию, тем более что и Антанта воевала против "германо-турецких властей" и обещала армянам примерно то же, что и большевики.
Время, действительно, было чудовищно противоречивым, и никто не мог знать, чего ожидать завтра. Но разве это не объясняет причину подписания в марте 1921 года русско-турецкого "Договора о Братстве…"? Не стоит полагать, что виднейшие представители русской (позже - большевистской) дипломатической школы были вне себя от радости при подписании этого соглашения, особенно с турками. И тем более нельзя думать, что здесь имел место "антиармянский заговор". Вопрос в том, что даже виднейшие и наиболее патриотично настроенные армянские деятели далеко не всегда могли точно просчитать все свои ходы и не запутаться на перекрестках большой политики.
Следовательно, для того чтобы свести к минимуму вероятность новых роковых ошибок, необходимо исследовать некоторые вопросы отечественной истории и в первую очередь искать собственные ошибки. Или, как писал великий Нжде: "Спасемся, если освободимся от предубеждений, если попытаемся встать на ноги, однако не под внешним воздействием, а нашим внутренним, естественным, неудержимым порывом. В созданных для нас на Востоке условиях может жить только храброе и исповедующее храбрость армянство".
-
Но и ненавидеть дедов вероятно тоже неправильно, они люди, которые могут заблуждаться. Не суди - несудим будешь.
Умение жить в противоречиях (как в данном случае) - искусство жизни, признак духовного развития и интеллекта человека.
Гнел, в вашем мировоззрении произошли серьезные подвижки!..
-
-
-





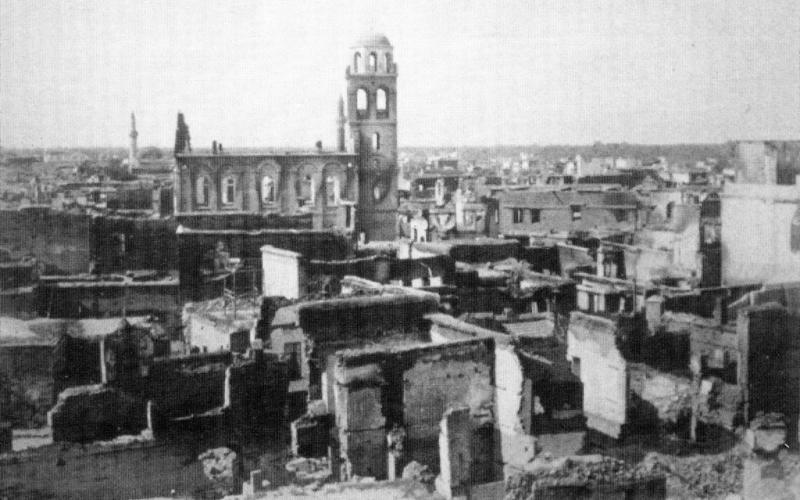
Шахматы
in Sport
Posted · Edited by Pandukht
В Ницце завершился 18-й по счету шахматный "Амбер-турнир". Напомним, что с 14 по 26 марта 12 ведущих гроссмейстеров мира соревновались между собой в игре не глядя на доску, а также в рапид (25 минут на партию). Призовой фонд турнира составил 216 тысяч евро. Второй год подряд состязание в блестящем стиле выиграл Левон Аронян.
Армянскому гроссмейстеру вершина "Амбера" покорилась уже второй раз.
Практически на протяжении всего турнира наш шахматист входил в лидирующую группу. Лишь однажды, после поражения в микроматче с Крамником, Левон ненадолго позволил захватить единоличное лидерство Ананду. Решающим в плане борьбы за первое место можно считать предпоследний тур соревнований. Аронян в стратегических битвах с Ван Юэ набрал необходимые пол-очка, в то время как делившие с ним лидерство Ананд и Карлсен свои матчи проиграли. Перед заключительным туром Левон опережал Ананда и Карлсена на очко, Крамника - на полтора. Соперник у Ароняна в последний день был весьма опасный - Топалов. И все же шансы Левона на чистое первое место оценивались очень высоко. Армянский шахматист решил оправдать прогнозы, заняв чистое первое место. Отметим стабильную игру Ароняна в обоих видах программы состязаний.
Результаты 10-го тура. Вслепую: Аронян - Ван Юэ 1:0, Ананд - Морозевич 0:1, Карлсен - Крамник 0:1, Леко - Карякин 0:1, Камский - Топалов 0:1, Иванчук - Раджабов 1:0.
Рапид: Топалов - Камский 0:1, Ван Юэ - Аронян, Морозевич - Ананд, Крамник - Карлсен, Карякин - Леко, Раджабов - Иванчук - ничьи.
Результаты 11-го тура. Вслепую: Раджабов - Карлсен 1:0, Крамник - Леко 1:0, Морозевич - Камский 1:0, Карякин - Иванчук 1:0, Топалов - Аронян, Ван Юэ - Ананд - ничьи.
Рапид: Ананд - Ван Юэ 1:0, Леко - Крамник 0:1, Карлсен - Раджабов 1:0, Иванчук - Карякин 0:1, Аронян - Топалов, Камский - Морозевич - ничьи.
Итоги турнира. Вслепую: 1-3. Крамник, Карлсен, Аронян - по 7 очков; 4-5. Ананд, Морозевич - по 6,5; 6-7. Леко, Топалов - по 5,5; 8-9. Иванчук, Раджабов - по 5; 10. Карякин - 4,5; 11. Ван Юэ - 3,5; 12. Камский - 3.
Рапид: 1-3. Ананд, Камский, Аронян - по 7 очков; 4. Крамник - 6,5; 5-6. Карякин, Карлсен - по 6; 7. Топалов - 5; 8-10. Морозевич, Леко, Иванчук - по 4,5; 11-12. Раджабов, Ван Юэ - по 4.
Общий зачет. 1. Аронян - 14 очков; 2-3. Крамник, Ананд - по 13,5; 4. Карлсен - 13; 5. Морозевич - 11; 6-7. Топалов, Карякин - по 10,5; 8-9. Камский, Леко - по 10; 10. Иванчук - 9,5; 11. Раджабов - 9; 12. Ван Юэ - 7,5.