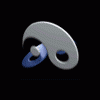О просветлении
Кен Уилбер «Высшее состояние сознания»
Кен Уилбер является наиболее выдающейся фигурой среди исследователей трансперсонального направления теоретической психологии. Его работы представляют главный концептуальный прорыв в исследовании сознания.
Подход Уилбера основан на глубоком понимании природы просветления, что дополняет, как видно из приводимой ниже статьи, его широкая эрудиция и изящный литературный стиль.
Размеры его достижений трудно преувеличить, поскольку он является автором «общей теории поля», совершенно великолепной и неотразимой. Это позволяет назвать Уилбера, Эйнштейном в исследованиях сознания.
«Поля», которые он объединяет, — это области знания. Они закладываются в основы новой парадигмы науки и социума. Первая книга Уилбера, «Спектр сознания» (The Spectrum of Consciousness) , искусно интегрировала в себе различные системы психологии и психотерапии Востока и Запада в одно целое, освещающее, с одной стороны, все их, но и выходящее за их пределы — с другой.
Другая его книга, «Никаких границ» (No Boundary), является более популярным изложением модели спектра сознания, чем в чисто научном «Спектре», но, тем не менее, содержит в себе новые инсайты.
«Проекция Атмана» (The Atman Project) — описание ступеней сознания, разворачивающихся в индивиде от рождения до просветления.
Еще одна книга Уилбера, «Вверх из Рая» (Up from Eden), описывает тот же процесс, но рассматриваемый уже в контексте истории человечества в целом.
Уилбер выдвигает перспективу, которую он называет вечной психологией[202] — универсальный и единый взгляд на человеческое сознание, в котором выражены те же инсайты, что и в «Вечной Философии», — что человеческая природа тождественна Единому-во-Всём, но у Уилбера они высказываются более определенным психологическим языком.
Статья «Высшее состояние сознани» (The Ultimate State of Consciousness) выбрана для завершения этой книги, поскольку она совмещает в себе простоту и элегантность.
Она настолько хорошо передает суть вопроса, насколько слова вообще способны выразить невыразимое — то Великое Бытие, пребывающее во всех нас и являющееся альфой и омегой всего космического Становления.
Это Великое Бытие, как говорит Уилбер, и есть то высшее состояние сознания, которое парадоксальным образом существует уже сейчас, даже если это «сейчас» и занимает на универсальной шкале миллионы лет.
Как он пишет об этом в книге «Проекция Атмана», нельзя сказать, что «индивидуальность — это сначала Эго, которое затем, может быть, превратится в Будду. Наоборот, с самого начала индивидуальность — это Будда, который затем становится Эго».
Говоря иначе, сама суть человека — это выражение Великого Бытия, которое проявляет себя в бесчисленной веренице созданий, в бесконечном разнообразии форм и явлений. Но еще до того, как вся эта вереница возникла, ваше «изначальное лицо» было не чем иным, как той Великой Тайной, которой оно было, будет и продолжает оставаться в настоящий момент.
И нет такого состояния, в котором это было бы не так. Вы уже являетесь просветленным. Осознайте это.
* * *
В Чхандогья Упанишаде Брахман — абсолютная реальность, высшее состояние сознания — описан в предельно простых и прямых выражениях: Абсолют — это «одно без другого».
Вдохновенный текст этой Упанишады описывает Высшее не как создателя или господина, правящего и контролирующего по отношению к чему-то «другому», находящегося вне этого «другого», выше или ниже, но именно, как «одно без другого».
Иными словами, нет ничего, что было бы вне Абсолюта, отдельно от него, что отличалось бы от него. Это было выражено словами ветхозаветного Исайи так: «Я — Господь, и больше никого не существует». Это означает, что действительно нет ничего вне Брахмана, вне Абсолюта. Как говорил старый мастер Дзен:
«...все Будды и все чувствующие существа являются не чем иным, как Единым Разумом, кроме которого не существует ничего. Выше, ниже, вокруг вас; среди всего, что существует спонтанно, вы не сможете найти такого укромного места, которое было бы вне этого всеобщего Разума-Будды».
Конечно, если бы что-нибудь было бы вне Абсолюта, это сразу же наложило бы на Него ограничение, так как Абсолют тогда был бы одним вне другого, вместо «одного без другого», каким он есть. В этом смысле, Брахман, Разум-Будды, Божественная природа — названия для того, что включает в себя всё, всё в себе содержит, на всё распространяется.
Когда Упанишады говорят, что «весь мир есть Брахман», и «это — тоже Брахман», когда Ланкаватара-Супгра провозглашает, что «мир не является ни чем иным, кроме Разума» или что «Всё есть Разум», когда в «Пробуждении веры» (The Awakening of Faith) утверждается, что «Всё существующее — это один лишь Разум», когда даосские тексты настаивают на том, что «не существует ничего вне дао, и вы не можете уйти от него», то имеется в виду именно это.
Еще можно процитировать апокрифический текст «Деяния апостола Петра»: «Тебя можно постичь лишь, как дух, ты есть отец для меня и моя мать, ты — брат, ты — мой друг, ты — мой поручитель, ты — правитель; ты есть Всё и Всё — в тебе; ты Есть, и не существует ничего, что Есть, кроме тебя».
Это существование истинно, ибо, как говорил Христос в Евангелии от Фомы:[203] «Я — свет, что над всеми. Я — всё, всё появилось из Меня и Всё достигло Меня. Расколите кусок дерева, и вы найдете там Меня; поднимите камень, и там тоже есть Я».
Утверждение, что весь мир, на самом деле, — единый Брахман, часто распаляет воображение некоторых умов до таких образов, как некое однородное, повсюду проникающее, бесцветное божественное начало; мгновенное и тотальное исчезновение всего разнообразия и множественности, оставляющее чистый и аморфный, Божественный Вакуум, Всезнающий и Всемилостивый.
Мы барахтаемся в такой ментальной горячке только потому, что воспринимаем утверждение «всё есть Брахман», как логическое предположение, содержащее определенный тип информации, данные об Универсуме. Таким образом, мы можем представить себе значение этого выражения лишь в виде сведения всего многообразия к единой, однородной и неизменной смеси.
Но утверждение «всё есть Брахман» не следует воспринимать ни как философское заключение, ни как логическую теорию или словесное описание реальности. Мудрецы во всех частях света и во все времена в один голос утверждали, что Абсолют — это нечто абсолютно невыразимое, пребывающее вне слов, символов и логики.
И не потому, что Он — это нечто слишком таинственное или слишком неуловимое, или же слишком сложное, чтобы выразить его словами, а скорее, потому, что это нечто слишком простое, слишком очевидное, находящееся прямо здесь; слишком близкое, чтобы быть пойманным в сети символов и знаков.
Поскольку нет ничего вне Этого, то нет способа определить или классифицировать Это. Как говорил Иоанн Скотт Эуригена: «Бог не знает самого Себя, не знает, что Он есть, так как Он не есть что-то; в некотором смысле Он непостижим для самого Себя, непостижим для любого интеллекта».
Как поясняет Шанкара, учитель веданты: «Не существует такого класса или рода, к которому принадлежал бы Брахман. Поэтому, он не может быть выражен словами, которые означают категории вещей.
Он не может быть обозначен и через качества, так как он лишен качеств; и через деятельность он тоже не может быть обозначен, так как деятельность не присуща ему — он пребывает «в покое, без какого-либо намека на деятельность», как говорят Священные Писания.
Не может он быть обозначен и через отношения, поскольку он — «Одно без другого» и не является объектом чего бы то ни было, а только лишь самого себя. Поэтому, он не может быть определен ни словом, ни идеей; как сказано в Священных Писаниях, Он тот, перед которым «слова в ужасе расступаются».
И в философии Виттенштейна мы найдем мысли о том, что мы не можем придумать ни одного обоснованного утверждения о реальности, как о целом, так как, нет такого места вне нее, где мы могли бы находится, чтобы пытаться описать ее.
Иными словами, «мы можем сказать что-либо о мире, как о целом, лишь в том случае, если мы сможем выйти за пределы этого мира, если он перестанет быть для нас этим целым, всем миром...
Но для нас он не может иметь границ, так как не существует ничего вне его. И, не имея ни границ, ни пределов, будучи одним без второго, он не может быть ни определен, ни классифицирован».
Вы можете определить и классифицировать нечто, например, рыбу, поскольку есть то, что рыбой не является, — скалы, деревья, крокодилы; проводя воображаемую линию между тем, что является рыбой, и тем, что рыбой не является, вы можете определить и классифицировать рыбу.
Но невозможно определить таким образом Брахмана и сказать, чем он является, так как нет ничего, что им не было бы — будучи «одним без другого», Он не имеет ничего такого, что было бы вне Его, и поэтому, такое разделение провести невозможно.
Поэтому, Абсолют — действительный мир, как он есть, — называется пустотой, так как все определения и утверждения о самой действительности пусты и бессмысленны. Даже такое утверждение, как «действительность — это Беспредельность», тоже не годится, так как беспредельное исключает то, что имеет предел.
Скорее, Абсолют можно назвать тотальной пустотой, свободной от всех концептуальных построений, и поэтому, даже слово «пустота», если его рассматривать, как логическое понятие, отрицается здравым смыслом.
Говоря словами Нагарджуны: «Он не может быть назван ни пустотой, ни не-пустотой, или тем и другим вместе, или ни тем и ни другим. Но для того, чтобы как-то указать на Него, Он назван «пустота».
Так как, все предположения относительно действительности пусты и необоснованны, то это справедливо и для утверждения «всё есть Брахман», если оно рассматривается, как основанное на фактах логическое утверждение.
Если Брахман рассматривается, как конкретный категориальный факт в ряду других фактов, тогда утверждение «всё есть Брахман» оказывается полнейшей чепухой, потому что объявить, что нечто есть всё, — это всё равно, что объявить что оно — ничто.
Но Брахман не является фактом в ряду других фактов; он, как сказал бы какой-нибудь логик, «факт всех фактов». И «всё есть Брахман» — это не просто логическое предположение, а скорее пережитое откровение, и в то время как логика этого утверждения дает трещину, в переживании этого нет.
Переживание того, что всё есть Брахман, делает совершенно ясным то, что действительно не существует ничего вне Абсолюта, несмотря на то, что, переводя это переживание в слова, мы получаем бессмыслицу. Но, как сказал бы Виттенштейн, «хотя о Нем нельзя сказать, его можно показать».
Откровение, что не существует ничего вне Брахмана, означает также и то, что не существует ничего, что можно было бы противопоставить Ему; говоря иначе, Абсолют есть то, у чего нет противоположности.
Поэтому, его называют недвойственным, «одним без другого», «без противоположного». Как говорил Сен-цан, третий Патриарх дзен:
Все формы двойственности
Невежественно придуманы самим, умом,
Они подобны видениям и цветам в воздухе.
Зачем беспокоиться об их сохранении?
Когда двойственности больше нет,
Даже Единое изменяет свое качество.
Истинный Ум не разделен,
И когда спрашивают о тождественности,
Мы можем только сказать: «Не-Два!»
Но, как говорит Сен-цан, «Не-Два» — это просто Одно. А чистая Единственность наиболее дуалистична, так как она имеет свою противоположность — Множественность. Единственному Одному можно противопоставить множественное Многое, в то время, как Недуальное охватывает их обоих.
«Один без другого» означает «Один без противоположного», а не Один в противовес Множественности. Поэтому, как мы уже намекали, нам не следует описывать Абсолют, как нечто исключающее разнообразие, как нечто неизменное и однообразное, потому что, на самом деле, Брахман включает в себя и единство, и многообразие.
Итак, смысл того, что до сих пор было сказано, состоит в том, что поскольку действительно не существует ничего Недуального, то нет и такой точки в пространстве или во времени, где не было бы Абсолюта.
Это не означает, что часть Абсолюта присутствует в каждой вещи (как это утверждается в случае пантеизма), поскольку это привносит границы в бесконечное, определяя каждой вещи отдельный кусок бесконечного пирога.
Скорее, целостный Абсолют присутствует весь и полностью в каждой точке пространства и времени, потому что невозможно иметь две разные бесконечности. Как говорил Бонавентура об Абсолюте, Он — это «сфера, чей центр находится везде, а периферия — нигде». А, по словам Плотина, «когда нечто — везде и нигде, то нигде нет и его отсутствия».
Всё же, заметим, что Абсолют может присутствовать в каждой точке пространства, только если он сам внепространственен. Используя пример Экхарта, можно сказать, что ваши глаза способны видеть вещи, окрашенные в красный цвет, только потому, что сами глаза не имеют в себе «красного» или «не-красного».
Так и Абсолют может охватывать всё пространство потому, что Он сам не имеет пространства, «внепространственный». Не потому ли так много ангелов может разместиться на острие иглы — они не занимают никакого пространства.
В любом случае, бесконечность — это не точка и не объем, каким бы большим объем ни был, и не величина среди других точек, объемов и величин; скорее, она вне точки, вне объема, вне измерения — не одна среди многих, но одна без второго.
И в этом смысле, действительно вся бесконечность может присутствовать во всех точках пространства, будучи, сама по себе, внепространственной. Она не утверждает себя в пространстве и поэтому, может свободно занимать его, так же, как вода, не имея сама своей формы, может заполнять собой сосуды любого вида и любой формы.
И, так как бесконечность присутствует во всей своей полноте во всех точках пространства, то вся бесконечность полностью присутствует прямо Здесь.
Для бесконечного нет такого места, как там, потому что, грубо говоря, если вы пойдете в какое-нибудь другое место, туда, то вы найдете там точно такую же бесконечность, как и здесь, так как она совершенно одинакова в разных местах.
Такие же выводы можно сделать и относительно времени: Абсолют может присутствовать во всей своей полноте в любой точке времени только в том случае, если Он сам — вне времени. А то, что вне времени, — вечно.
Как справедливо отмечал Витгенштейн, вечность — это не «бесконечная продолжительность во времени, а безвременность». Иначе говоря, вечность — это не бесконечно длящийся отрезок времени, а мгновение, в котором времени нет.
Следовательно, будучи без времени, вся вечность целиком и полностью присутствует в каждой точке времени, в каждом мгновении, и таким образом, вся вечность уже присутствует всегда, прямо сейчас. Для вечности не существует тогда, ни в прошлом, ни в будущем.
Точка, не имеющая величины и протяженности; момент, не принадлежащий ни к прошлому, ни к будущему и не имеющий продолжительности, — таков Абсолют. И хотя его нет ни в чем, нигде нет и его отсутствия.
Это вездесущность: Абсолют одновременно присутствует везде и всегда во всей своей полноте. «Кто не видит Бога везде, тот не видит его нигде».
После всего вышесказанного несложно будет понять, почему все метафизические традиции одинаково утверждали, что Абсолют, в сущности, недостижим.
Поскольку если бы была возможность для человека достичь Абсолюта, это предполагало бы движение из точки, в которой Абсолюта нет, в ту точку, где он есть; но такой точки, в которой его бы не было, не существует.
Иными словами, Его невозможно достичь, потому что невозможно быть вне Него. Важно осознать то, что, поскольку Абсолют уже есть во всём и везде, то у нас нет способа достичь соединения с Ним. Не имеет значения, что мы делаем или не делаем, пытаемся делать или не пытаемся делать, — мы никогда не сможем достичь его.
Говоря словами Шанкары: «Поскольку Брахман и есть Я человека, то Он не является тем, что может быть достигаемо. И даже если бы Брахман был полностью отличен от человеческого «Я», он всё равно не был бы тем, что можно достичь, потому что Он вездесущ, и это — свойство его природы: в любой момент времени присутствовать в каждом человеке».
Прочтите внимательно следующие слова великого дзенского мастера Хуан По (Huang Po): «То, что нет ничего, чего можно было бы достичь, — это не праздная болтовня, а правда. Вы всегда были едины с Буддой, поэтому не притворяйтесь, что вы можете достичь этого единства с помощью различных практик.
Если бы прямо сейчас, в данный момент, вы смогли бы осознать эту недостижимость, став совершенно уверенным в том, что вообще ничего не может быть когда-либо достигнуто, то ваш ум уже был бы умом Будды.
Смысл этого высказывания достаточно жесткий. Он состоит в том, чтобы удержать вас от поисков состояния Будды, так как любые такие поиски обречены, на неудачу».
Чтобы завершить эту мысль, приведем еще слова Шри Рамана Махарши: «Нет способа достичь себя. Если бы «Я» было бы достижимо, это бы означало, что «Я» — не здесь и не сейчас, а то, что его еще нужно достичь или получить. А то, что может появиться, то может быть и утеряно. А за то, что не постоянно, не стоит и бороться. Поэтому я и говорю, что «Я» недостижимо. Вы уже есть это “Я”«.
Таким образом, Абсолют, ум Будды и истинное Я не могут быть достигнуты, потому что для того, чтобы «достичь» соединения с Абсолютом, нужно было бы соединить две отдельные вещи.
Но мы знаем, что в действительности Абсолют — это лишь «Одно без другого», и попытки достичь соединения души и Бога лишь увековечивают иллюзию, что они разъединены. Как становится ясно из вышеприведенных цитат, «Я» уже присутствует в нас и мы уже являемся Им.
Иногда говорят, что, хотя мы уже едины с Абсолютом, большинство из нас просто не осознаёт этого, и что, хотя соединение с Богом и не может быть «достигнуто», знание об этом соединении вполне достижимо; и что, хотя мы не можем создать Высшее Тождество, мы можем осознать его.
И это осознание, это достижение знания о нашем Высшем Тождестве и является, как сказано повсюду, самым высшим состоянием сознания, просветлением, сатори, мокшей, ву, освобождением.
Несомненно, существует некая доля истины в утверждении, что все мы уже являемся Буддами, но просто не знаем этого и что поэтому, для полного освобождения мы должны достичь знания об этом.
Но это утверждение, при более тщательном рассмотрении, оказывается не вполне удовлетворительным. Потому что истина недуальности гласит, что знать Бога — это и есть быть единым с Богом: одно неотделимо от другого.
Как ясно сказано в Мундака Упанишаде, поистине, тот кто знает высшего Брахмана, тот сам становится Брахманом. Поэтому, неверно говорить, что существует нечто одно, называемое Богом, и нечто другое, называемое знанием о Боге.
Скорее, это знание является просто одним из имен Бога. И если мы не можем достичь Бога, то мы не можем достичь и знания о Нем, так как это фактически одно и то же.
Иными словами, так как высшее состояние сознания и есть Брахман и так как Брахман не может быть достигнут, то не может быть достигну- то и высшее состояние сознания.
Если это заключение кажется вам несколько странным, то давайте предположим, что, напротив, высшее состояние сознания может быть достигнуто, обретено или получено. Что это означает?
Только лишь то, что это состояние сознания, которого вы достигаете, обязательно имело бы свое начало во времени и что это состояние сознания, поэтому, не является вневременным и вечным, а также, что, в конце концов, это состояние сознания определенно не является высшим состоянием сознания.
Высшее состояние сознания не может быть достигнуто потому, что оно вне времени, без начала и конца, и, наоборот, какого бы состояния сознания вы ни достигли, это не будет высшее состояние сознания.
Хуан-цзы много слышал о мастере медитации по имени Чи-хуан, и, когда он пришел навестить его, Чи-хуан был погружен в медитацию:
— Что ты там делаешь? — спросил Хуан-цзы.
— Я вхожу в самадхи, высшее состояние сознания.
— Ты говоришь о вхождении, но как ты входишь в самадхи — с умом, полным мыслей или же с умом молчаливым? Если ты скажешь, что с молчаливым, то тогда и все нечувствующие существа, такие, как растения или камни, тоже могут достичь самадхи. А если ты скажешь, что с умом, полным мыслей, то тогда получается, что все чувствующие существа могут достичь его.
— Хорошо, — сказал Чи-хуан, — я не чувствую ни молчаливого ума, ни ума, полного мыслей.
Суждение Хуан-цзы не заставило себя ожидать.
— Если ты не чувствуешь никакого ума, то ты действительно всё время находишься в самадхи; тогда почему же ты говоришь о вхождении в него или выходе из него? И если существует какое-либо вхождение или выход, это не Великое Самадхи.
Итак, что же это значит, что вы не можете войти в высшее состояние сознания? Что значит то, что вы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какое время и никакими усилиями не сможете достичь высшего состояния сознания?
Только лишь то, что высшее состояние сознания уже целиком и полностью присутствует в вас. И это означает, что, в сущности, высшее состояние сознания ничем не отличается от вашего обычного состояния сознания[204] или от любого другого состояния сознания, которые вы можете иметь или имеете.
«Именно ваш обычный ум и есть дао», — говорит Нансен. Какое бы состояние у вас ни было сейчас, вне зависимости от того, что вы думаете о нём, и независимо от его природы, — это и есть Оно. Поэтому, вы и не можете достичь его, так как вы уже изначально находитесь в нем.
Разумеется, это должно было быть очевидным всё время. Поскольку высшее состояние сознания и есть Брахман, и так как Брахман включает в себя абсолютно всё, то и высшее состояние сознания тоже включает в себя всё.
Таким образом, высшее состояние не является еще одним состоянием среди других состояний, а состоянием, включающим в себя все состояния. Это означает, что высшее состояние сознания не является неким измененным состоянием, так как, будучи одним без другого, Оно не имеет себе альтернативы.
Высшее состояние сознания абсолютно совместимо с любыми и каждым состоянием сознания и с измененными состояниями сознания, и не существует каких-либо состояний сознания отдельно от Него или вне Его.
Как пояснял Рене Генон, «Состояние Йоги не является аналогом какого-либо частного состояния, но охватывает все возможные состояния так же, как правило охватывает все выводы, сделанные из него».
Всё это неизбежно подводит к факту, что вы не только уже едины с Абсолютом, но и знаете это. Как сказал Хуан По, «Природа Будды и ваше восприятие ее — это одно и то же». И, наконец, как мы уже видели, природа Будды присутствует всегда; всегда присутствует и ваше восприятием Ее. Если вы утверждаете, что уже являетесь Буддой, но просто не знаете этого, то этим вы порождаете очень тонкий дуализм между природой Будды и вашим восприятие Ее, полагая, что одно уже есть, в то время как другого еще нет, что невозможно. Действительно, как мы не можем достичь Абсолюта, так мы не можем достичь и знания об Абсолюте. И то и другое уже в нас присутствует:
«Один монах спросил Рекисона Роши: «Что это такое — воспринимать звук, и быть освобожденным?» Рекисон взял щипцы для дров, ударил ими по дровам и спросил: «Ты слышал?» — «Да, я слышал», — ответил монах. «Так кто же не свободен?» — спросил Рекисон».
То, что высшее состояние сознания не некое отдельное состояние и что оно никоим образом не отличается от существующего состояния сознания, — это положение, которое, кажется, было упущено многими людьми.
Поэтому, они, введенные в заблуждение, ищут для себя такое «высшее» состояние сознания, в котором, как они представляют, высшее тождество будет осознано, и которое отличалось бы радикальным образом от существующего в них актуального состояния сознания.
Некоторые полагают, что это совершенно особенное и исключительное «высшее» состояние сознания связано с волновыми паттернами мозга, такими, например, как преобладание альфа-волн с высокой амплитудой.
Другие утверждают, что нервная система индивида должна претерпеть ряд изменений, включая те, которые, в конце концов, вызовут возникновение высшего состояния сознания. Некоторые даже верят, что, избавляясь от физиологического стресса с помощью медитативных техник, мы можем прийти к «высшему» состоянию сознания.
Но во всей этой пустой болтовне упускается тот неопровержимый факт, что любое состояние сознания, в которое можно войти и которого можно достичь после многочисленных практик, должно иметь свое начало во времени, и поэтому оно не является — и не может являться — вневременным и вечным высшим состоянием сознания.
Более того, представить себе, что могут быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы осознать это высшее состояние сознания и достичь освобождения, — это всё равно, что провозгласить высшее состояние результатом.
Поэтому, полагать, что определенные шаги или частные формы практики могут вести к освобождению, — значит делать освобождение результатом этих шагов, следствием этих шагов, следствием этих причин. Еще Шанкара много лет назад видел полнейшую абсурдность таких представлений:
«Если представить себе, что Брахман проявляет себя в определенных действиях, и если представить себе, что освобождение — это результат подобных действий, то Он, Брахман, был бы преходящим и должен был бы рассматриваться, как нечто, просто занимающее выдающееся положение среди множества описанных результатов различных действий.
Но, поскольку освобождение должно быть самой природой вечного и свободного Я, то оно не может быть обременено несовершенством временного. С другой стороны, те, кто рассматривает освобождение, как результат чего-либо, утверждают, что оно зависит от активности ума, тела или речи. Подобным же образом говорят и те, кто рассматривает освобождение просто, как изменение.
Непостоянство освобождения оказывается закономерным следствием этих двух мнений; так как в обычной жизни мы наблюдаем либо те вещи, которые претерпевают изменения, подобно скисшему молоку и т.п., либо те, которые являются результатом каких-либо действий, например, кувшин. В обоих случаях эти вещи не вечные».
Ну и что из того, что все мы имеем Природу Будды, но всё еще просто не знаем этого? И что через определенного рода действия, такие, как медитация, мы можем достичь этого знания? Шанкара решителен:
«Можно было бы сказать, что освобождение — это качество «Я», которое скрыто и которое становится очевидным после того, как «Я» очищается посредством определенных действий, так же, как чистота зеркала становится очевидным после того, как зеркало очищают с помощью действия вытирания.
На это ответим, что это возражение необоснованно, потому что «Я» не может быть местопребыванием какого-либо действия. Так же, как действие не может существовать без изменения того, к чему оно приложено. Но если бы «Я» изменялось действиями, результатами было бы его непостоянство; этот результат недопустим».
Итак, поскольку высшее состояние сознания — это ваше настоящее состояние сознания, то совершенно очевидно, что не существует способа сделать, вывести, продуцировать или создать то, что уже является нынешним положением вещей. И даже если бы вы смогли сделать это, то результат был бы непостоянным.
Но если мы представляем, что высшее состояние отличается от того, что мы имеем сейчас, тогда мы начинаем безрассудно искать пути, ведущие к этому, предположительно, отличающемуся и чудесному состоянию более высокого сознания, полностью игнорируя тот факт, что даже если бы мы и получили это «более высокое» состояние сознания, то оно не было бы высшим состоянием, поскольку это результат определенных шагов, имеющий начало во времени.
И всё же, мы полагаем, что некое знание об Абсолюте ожидает нас в этом специфическом более высоком состоянии сознания. Но, как убедительно говорил Экхарт, если мы вообразим, что Бог может быть найден в неком особенном состоянии сознания, то, как только это состояние ускользнет от нас, ускользнет и Бог.
«В противовес широко распространенному мнению, — пишет Алан Уотс, — знание и созерцание бесконечного — это вовсе не состояние транса, поскольку исходя из той истины, что не существует противостояния между бесконечным и конечным, знание бесконечного может быть совместимо с любым возможным состоянием ума, чувств и восприятия. (Это) знание не является исключительным, а, наоборот, всё включающим в себя состоянием сознания».
И лишь только потому, что мы продолжаем упорно настаивать на том, что высшее состояние сознания отлично он нашего настоящего состояния сознания, нам так тяжело признаться самим себе, что мы уже знаем нашу Природу Будды.
Мы воображаем, что нирвана отличается от сансары, что просветление отличается от неведения, что Брахман отличается от майи (иллюзии). Тем не менее, Нагарджуна ясно говорил: «...не существует какой бы то ни было разницы между нирваной и сансарой; нет никакой разницы между сансарой и нирваной. Нет ни малейшего различия между ними». И Хуан-чу начинал свою Песнь Осознания Дао такими словами:
«Видишь ли ты беспечного Человека Дао,
который отказался от учения и от борьбы?
Он не бежит от неправильных мыслей и не
ищет правду, поскольку неведение есть в
действительности природа Будды,
И это иллюзорное, изменчивое тело есть
тело Истины».
И всё же, мы ищем, как избежать сансары, так, как если бы она не была нирваной; мы пытаемся побороть в себе неведение, как будто оно не есть просветление; мы стараемся разрушить майю, как будто она не является самим Брахманом.
Фенелон, архиепископ Кембрийский, весьма подходяще прокомментировал такое положение дел: «Нет более опасных иллюзий, чем те фантазии, с помощью которых люди пытаются избежать иллюзий».
Следовательно, все поиски, духовные или любые другие, оказываются глубоко неуместными; и рассмотрение высшего состояния сознания, как особого состояния сознания, абсолютно недопустимо.
Я вовсе не отрицаю, что могут быть достигнуты некоторые очень необычные состояния сознания — они могут быть достигнуты по той простой причине, что они частные и исключительные и, следовательно, могут быть развиты и усовершенствованы. Но какое это имеет отношение к включающему в себя всё высшему состоянию сознания?!
Безусловно, вы можете тренировать себя, чтобы войти в альфа-состояние; вы можете развить ваши способности при помощи мантр; вы можете обучиться останавливать ваши мысли при их возникновении, но всё это возможно только потому, что эти состояния — частные и исключительные, отдельные от всех других состояний, и по этой простой причине им можно уделять больше внимания, чем другим.
Но вы не можете тренировать себя, чтобы войти в то состояние сознания, которое вы никогда не познали и которое включает в себя все возможные состояния сознания. Вы просто не найдете места за пределами высшего состояния сознания, которое вы сможете занять чем-то, чтобы начать тренировать себя в этом. Обратимся еще раз к Хуан По:
«Бодхи (знание Природы Будды) — это не состояние. Будда не достигал его. Чувствующие существа не испытывают недостатка в нем. Оно не может быть достигнуто ни с помощью тела, ни с помощью ума. Все чувствующие существа уже имеют одну с Буддой природу.
Если вы определенно знаете, что все чувствующие существа уже едины с Бодхи, вы перестанете думать об этом, как о чём-то, что должно быть достигнуто. Вы могли недавно слышать, как другие говорили об этом «достижении ума Бодхи», но это можно назвать интеллектуальным способом изгнания Будды.
Следуя этому методу, вам только кажется, что вы достигли состояния Будды; и если бы вы провели эоны и эоны, следуя этому пути, то вы бы достигли только Самбхогакайя (блаженного состояния) и Нирманакайя (действенного состояния). Какую связь это имело бы с вашей изначальной и действительной Природой Будды?»
Продолжая слушать всё это, многие из нас, тем не менее, чувствуют, что «да, я понимаю, что каким-то образом я уже един с Абсолютом, но я, всё еще, не осознаю этого!» Но, очевидно, что это неправда. Уже сам тот факт, что вы сейчас находитесь в поисках Будды показывает, что вы уже знаете, что вы — Будда.
«Утешь себя, — пишет Паскаль, — ты бы не искал меня, если бы ты уже не нашел меня». И св. Бернар выражает то же самое чувство: «Никто не может искать тебя, потому что сначала он должен найти». Или, как говорил Блайт (Biyth), «для того чтобы быть просветленными, мы сначала должны стать просветленными».
Конечно, человек может чувствовать, что он действительно не знает этого, несмотря на самые изощренные уверения учителей. И причина этого не очевидна для человека, благодаря своеобразной природе этого всегда присутствующего Бодхи-знания, а именно благодаря недуальности.
Человек не знает этого только потому, что он привык воспринимать вещи в свете дуализма, где он в качестве субъекта наблюдает объект, умственный или физический, и ощущает, что он очень ясно видит и чувствует этот объект.
Здесь наблюдающий и сам этот объект являются двумя различными вещами. И человек, как субъект допускает, что он может видеть Брахмана таким же образом — как объект, находящийся где-то там, далеко, на который можно смотреть и понимать.
Кажется, что он, тот, который видит и понимает, должен быть способен уловить Брахмана, понимаемое. Но Брахман не разделим на добывающего и добычу.
Во всей действительности существует один только Он, «один без другого», и всё же, в силу своей привычки человек пытается сделать из него две вещи, разделить его, так чтобы, в конце концов, можно было схватить его и воскликнуть «Ага! Я достиг этого!»
Человек пытается сделать Его опытом, наряду с другими переживаниями. Но Брахман — это не какой-то частный опыт, но именно Один без другого. И поэтому, человеку остается гоняться за привидениями и пытаться схватить клубы дыма.
Так все мы с неизбежностью приходим к чувству, что мы просто не можем видеть Его, как бы ни пытались. Но сам тот факт, что мы никогда не можем видеть Его, является превосходным доказательством того, что мы всегда знаем Его. По словам Кена Упанишады:
«Если вы думаете, что вы хорошо знаете Брахмана, то это не так. То, что вы знаете о его природе, это реальная, но лишь малая часть. По этой причине, вы должны обратить к Брахману еще более пристальное внимание...
Кто из нас понимает слова: «Я не знаю Его, но, всё же, я знаю Его», тот поистине знает Его. Тот, кто думает, что Брахман непостижим, тот постиг Брахмана, а тот, кто думает, что Брахмана можно постичь, — тот не знает Его. Брахман неизвестен тем, кто знает его, и известен тем, кто не знает его вовсе».
То есть, именно состояние незнания Брахмана и есть высшее состояние сознания, и это как раз то самое, что мы чувствуем прямо сейчас. В дзенском стихотворении говорится:
«Когда вы жаждете узнать Его,
вы не можете видеть Его.
Вы не можете удержать Его,
Но вы также не можете и потерять Его.
Будучи неспособными получить Его,
вы получаете Его.
Когда вы молчите. Оно говорит,
Когда вы говорите. Его не слышно.
Великие ворота широко раскрыты
для раздачи милостыни,
И нет толпы, преграждающей дорогу».
Так как вы и есть Брахман, то, очевидно, что вы не можете видеть Брахмана, так же, как глаз не может видеть самого себя и ухо не может слышать самого себя.
В Брихадараньяка Упанишаде говорится: «Ты не можешь увидеть того, кто видит зримое, ты не можешь услышать того, кто слышит слышимое, как не можешь воспринимать того, кто воспринимает воспринимаемое, так же, как и познавать того, кто познает познаваемое».
А Зенрин говорит об этом просто: «Как меч может рубить, но не может порезать самого себя, так и глаз может видеть, но не может увидеть самого себя». Действительно, если ваш глаз пытается увидеть самого себя, то он не видит абсолютно ничего.
Подобным образом вы встречаете пустоту, не видя ничего, когда вы пытаетесь взглянуть на Брахмана. Эта пустота является именно тем, что вы всегда искали, но не могли ни найти, ни увидеть.
Это невидение и есть Он!
И так же, как вы никогда не видели Его, так же вы всегда знали Его. Потому что каждый индивид, как говорит св. Дионисий, «...благодаря самому этому факту невидения и незнания Бога, действительно постигает Его — того, кто за пределами видения и познавания; зная также и то, что Он есть во всём том, что можно узнать или почувствовать».
Вы всё еще не видите Это?
Как вы уже совершенны!