-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Calendar
Profiles
Forums
Gallery
Posts posted by Pandukht
-
-
В боях за Коростышев
Штрихи к портрету Героя Советского Союза Левона Дарбиняна
О Левоне Дарбиняне мне часто рассказывала бабушка - он приходился ей двоюродным братом. И я с юношеских лет бережно и с гордостью нес в своем сознании эту информацию: прославленный воин, полковник, Герой Советского Союза Левон Хнканосович Дарбинян - мой близкий родственник, двоюродный брат моей бабушки.
Они были не только двоюродными братом и сестрой, они были одногодками - родились в одном и том же 1905 году, в одном и том же селе Аластан Ахалкалакского района, в Джавахке. Из рассказов бабушки о Левоне Дарбиняне запомнилось только то, что ему неведомо было чувство страха, что он был сорвиголова, что в мальчишеских драках ему не было равных.
Их жизненные пути-дороги разошлись довольно рано, так что о боевых подвигах своего кузена бабушка узнавала урывками, по чьим-то рассказам. Многое она узнавала от меня - пришел мой черед рассказывать ей о ее двоюродном брате. Благо речь шла об известном человеке, славном воине и полководце, Герое Советского Союза.
Левон Дарбинян учился в школе всего три года - время было не просто смутное, а кошмарное, поганое. Шутка ли сказать - третий класс он закончил в 1916 году. Было не до учебы. В воздухе пахло войной, катастрофой. И она не заставила себя ждать. Но больнее всего она ударила по армянскому народу...
Бабушка много и часто рассказывала об этих годах, о Геноциде. Я был невнимательным слушателем, о чем сейчас горько сожалею. Ее рассказы, а рассказчиком она была отменным, следовало бы записать на магнитофон и беречь как зеницу ока, как реликвию, как свидетельство очевидца тех жестоких лет. Приблизительно в те же самые годы за океаном другая бабушка рассказывала своему внуку Питеру Балакяну, моему хорошему знакомому и всемирно известному писателю, об ужасах Геноцида, и рассказы ее выплеснулись на бумаге в виде поэтических образов, ассоциаций и реминисценций... Но все мы, как известно, задним умом крепки...
Дальнейшая судьба Левона Дарбиняна складывалась следующим образом. В апреле 1921 года 16-летним юношей он принимал участие в освобождении от турецких захватчиков родного Джавахка, который в те годы уже был в составе большевистской Грузии. Несколько лет работал в органах внутренних дел. С 19 лет служил в Красной Армии, стал кадровым военным. В 1927 году окончил Армянскую объединенную военную школу, еще через год - Закавказскую пехотную школу в Тбилиси. В Великой Отечественной войне Левон Дарбинян участвовал с первых же дней. Воевал в составе войск Центрального и Северо-Западного фронтов в качестве командира полка и заместителя командира дивизии. Сражался храбро, о чем свидетельствуют пять полученных ранений.
...Шла последняя неделя переломного 1943 года. 69-я механизированная бригада Левона Дарбиняна вела ожесточенные бои на подступах к городу Коростышеву Житомирской области. Из Житомира надвигались две танковые дивизии гитлеровцев. Необходимо было опередить их - иначе фронт неизбежно будет прорван. Генерал П. Рыбалко поручил провести эту дерзкую операцию полковнику Левону Дарбиняну. Медлить было нельзя. Отчаянное положение усугублялось тем, что противник занимал удобную позицию в лесу, замаскировался и бил прямой наводкой по атакующим «тридцатьчетверкам».
Но выбора не было. Под шквальным огнем танковая бригада полковника Дарбиняна неудержимо продвигалась вперед. Необходимо было добить вражеские «Тигры» до того, как подоспеет помощь. Если не успеть, контроль над ситуацией будет потерян, а сама бригада окажется в кольце окружения. Это был отчаянный рывок на опережение.
Запаниковавшие немцы запросили незамедлительной помощи. В небе со стороны Житомира появились «Юнкерсы». Истребители кружили над территорией, пытаясь определить мишень для бомбардировки. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, полковник Дарбинян выхватил у адъютанта ракетницу и бросился к опушке леса, туда, где прятались немцы. В небо взметнулись две зеленые ракеты, высветив позиции гитлеровцев. Через небольшую паузу еще две ракеты указали на лесной массив. Авиация добросовестно перепахала бомбами свои же позиции. Когда «горячая обработка» закончилась и самолеты повернули обратно, бригаде Левона Дарбиняна оставалось только добить изрядно потрепанные и вконец растерявшиеся силы неприятеля.
Ничего не предвещало беды. Связисты уже передавали доклад командира бригады командующему армией, как вдруг прогремел взрыв. Полковник Левон Дарбинян получил тяжелое ранение в ногу. Его спешно отвезли в госпиталь, сделали ампутацию... Но операция не помогла. Спасти жизнь мужественного военачальника не удалось. Его похоронили в парке украинского города Коростышев - города, который во многом обязан своим освобождением армянину Левону Дарбиняну.
Звание Героя Советского Союза Левону Хнканосовичу Дарбиняну было присвоено посмертно 10 января 1944 года. Годы спустя в городе Коростышеве был установлен памятник герою.
Каждый раз - а бывает это, к сожалению, все реже и реже, когда где-то упоминается имя Левона Дарбиняна, я мысленно говорю себе: «Я знаю и помню тебя, Левон Дарбинян. Ты - Герой. И еще - брат моей бабушки».
Гурген Карапетян
-
Татул Крпеян из когорты победителей
21 апреля нынешнего года ему исполнилось бы 45 лет - всего 45… И вот уже 19 лет, как его нет в живых, – Национальный герой Армении Татул Крпеян погиб 30 апреля 1991 года, в те трагические дни, когда против армянства Арцаха разворачивалась зловещая операция «Кольцо». Он стал одной из легенд национально-освободительной борьбы армянского народа, одним из тех, кто, не раздумывая и не колеблясь, осознанно оставил пока еще безопасную и комфортную жизнь в Ереване, оставил молодую жену и крохотную дочь, родителей, учебу в университете и поехал в Геташен, на передний край самообороны, где был нужнее всего, где – без преувеличения - решалась судьба Арцаха.
19 лет назад
Мы решили рассказать о Татуле Крпеяне именно сегодня, 9 мая, в день 65-летия Великой Победы и не менее великой для нашего народа победы – освобождения армянского Шуши. В день, когда была проложена дорога к окончательному освобождению Арцаха. И если Шуши – первая исторически победная точка, то корни этой победы уходят глубже, в том числе и в те апрельские и майские дни 1991 года, когда в знаменитом армянском селе Геташен горстка храбрецов пыталась противостоять танкам и бронетранспортерам, вооруженным до зубов частям советской армии и трусливо прячущемуся за их спинами азербайджанскому ОМОНу.
Татул Крпеян – один из этих храбрецов был из когорты борцов против «коричневой чумы» фашизма и человеконенавистничества, и не имеет значения, когда и где эта борьба происходила: в первой половине 40-х в России и Европе или в начале 90-х в Арцахе и Армении.
Начинавшаяся 19 лет назад операция «Кольцо» - одна из самых темных и трагических страниц карабахского десятилетия. Это был акт государственного терроризма, совершенный агонизирующим руководством СССР в последние месяцы его существования в тесном взаимодействии с властями и Народным фронтом Азербайджана. Гибель ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе стариков, женщин, детей, угон в заложники, беспощадная насильственная депортация населения десятков армянских сел, трагедия многих тысяч людей, чей очаг был разорен, у кого была отнята родная земля, а сами они обобраны до нитки – все это - операция «Кольцо», многие подробности которой до сих пор покрыты мраком неизвестности. Однако рядом с трагедией, рядом со смертью и страданиями, в условиях потери земли предков и родных очагов рождался героизм самообороны армян – и образ Татула Крпеяна стал одним из наиболее целостных и ярких проявлений этого героизма.
«Патриотизм Татула был безграничным…»
Жена Крпеяна Ирина Барсегян, с которой они успели прожить всего год, вспоминает:
«Предки Татула родом из Карса, из деревни Нахиджеван. В 1918 году, спасаясь от резни, они бежали в Армению, потом были сосланы и снова вернулись, поселившись в приграничной деревне Арег. Деревня была выбрана не случайно: с вершины горы здесь видны армянские церкви Карса, и они надеялись, что при первом удобном случае вернутся в свои дома. Каждый год 24 апреля молодые поднималась и зажигали костер на вершине горы, чтобы турки знали, что ничто не забыто.
В 1990-м Татул закончил 4-й курс исторического факультета университета и перешел на индивидуальный график учебы, чтобы уехать в Геташен. Он очень серьезно и основательно готовился: добывал оружие, формировал отряд, занимался спортом, даже изучал турецкий. Меня с маленькой Аспрам отправил в деревню к родителям, чтобы быть спокойным за нас. Уехал он в сентябре и оставался в Геташене до самой гибели, за этот период домой приехал всего два раза. Он был командиром дашнакцаканского отряда самообороны и координировал все вопросы, связанные с защитой Геташена. Татул был очень мужественным и сильным, его патриотизм был безграничным, а сила духа – неистребимой. Но все это поразительно сочеталось в нем с огромной добротой и даже лиричностью. Он писал стихи, прекрасно знал историю Армении, все время, пока был в Геташене, преподавал в местной школе - учил тамошних детей армянской истории.
Геташенцы его обожали, беспрекословно слушались во всем –это подтверждают многочисленные свидетельства самих жителей села. Его почитали как бога, он пользовался в селе непререкаемым авторитетом. Сельчане потом говорили, что, если бы не Татул, они покинули бы родную землю раньше. Татул запрещал даже думать о том, чтобы сдать Геташен, - он был уверен, что им удастся защитить село. У него было совершенно четкое осознание того, что они защищают Арцах. Просто он не ожидал, что советские войска будут принимать участие в наступлении в таких масштабах и не поспеет обещанная помощь».
«Его смерть стала выкупом за спасение геташенцев…»
К концу месяца Геташен был полностью окружен и беспрерывно обстреливался. Против трех тысяч безоружных сельчан и нескольких десятков ополченцев было брошено 207 танков и бронетранспортеров, 6 вертолетов.
Сообщение местной любительской радиостанции от 29 апреля дает некоторое впечатление о том аде, в который было превращено цветущее армянское село: «Ворвавшиеся в Геташен войска начали погромы мирных жителей. На 2100 убито более 10 человек, имеется много тяжелораненых, захвачены заложники...» Было ясно, что надо спасать людей и не допустить бойни, которую всячески провоцировали азербайджанцы. Ирина Барсегян:
«Жители собрались в центре села. Именно этого и добивались турки - собрать всех в одном месте и расправиться с ними. Один из танков прорвался к центру села, и Татул на ходу прыгнул на него. Снял с гранаты предохранитель и сунул ее в люк. Из танка они вывели 14 военных, разоружили и велели им передать по рации своему командованию, чтобы операция была прекращена и войска отошли от села. Это был отчаянный шаг – единственный путь остановить гибель геташенцев. На переговоры пришел полковник Машков. В обмен на освобождение солдат-заложников Татул потребовал отхода из села войск и техники. Полковника тоже разоружили, и из его кармана Татул вытащил план операции «Кольцо». Видя, что наступление не прекращается, Крпеян схватил Машкова за ворот и двинулся вместе с ним вперед, следом, чтобы прикрыть командира, пошли Грач Даниелян и Артур Карапетян. В какой-то момент Машков, видимо, заметил впереди снайпера и слегка откинул голову. Татул оказался беззащитен – выстрел смертельно ранил его... С ним вместе погибли Грач и Артур».
Бывший в те дни в Геташене врач из Еревана Геворк Григорян вспоминал: «Татул Крпеян первым понял, что имеет место тщательно спланированная и организованная Москвой операция. Его героическая смерть стала своеобразным выкупом за спасение геташенцев. Татул, по-моему, в любом случае остался бы в Геташене - живой или мертвый...» По словам другого защитника села, Вардана Оганесяна, «Татул интуитивно сделал единственно правильный в те минуты шаг, ценой своей жизни предотвратив бойню в Геташене. В результате его героического поступка переговоры были продолжены и жителей удалось эвакуировать без больших жертв».
«Когда тела погибших ребят привезли в Армению, в день их похорон был объявлен общенациональный траур,- говорит Ирина. – Вся дорога из Еревана до самого Аштарака была усыпана цветами, которые бросали тесными рядами стоявшие люди. В 1996 году Татулу было присвоено звание Национального героя Армении. После его смерти тысячи последовали примеру Татула и пошли воевать за Арцах…»
… Пошли воевать и победили. Дорога к Шуши, к победному 9 Мая пролегала, в том числе, и через Геташен – изумительной красоты армянское село, которое до сих пор находится под оккупацией. В те тяжелейшие дни Татул Крпеян и его товарищи ковали эту будущую победу – и выковали ее вместе с тысячами таких же патриотов - своим подвигом, своей героической борьбой и героической гибелью…
Марина Григорян
-
Шуши, геральдика Победы
Конечно, нельзя не уважать чувства и эмоции наших соотечественников, посещающих исторические земли, что за горой. Нельзя не уважать ступни, сильные настолько, что способны поднимать хозяина своего к вратам Сим-Сим, и, разумеется, нельзя не любить те руки, которые прикасались к Ванской скале. Нельзя не уважать каждого, кто в поисках Истока...
Посему нельзя не уважать паломничество. Редчайший в отеческом мире случай, когда все равны: когда министр и завсегдатай биржи труда заняты общим делом, когда баловень судьбы и безнадежный неудачник делят общее прошлое и вместе в ночи рассуждают об общем будущем.
Иными словами, нельзя не любить среду, затмевающую меркантильный интерес...
И, тем не менее, я не могу - уважая всевозможные чувства и эмоции - посещать наши исторические земли, что за горой. При всем доверии к собственным ступням я не могу заставить их подниматься к вратам Сим-Сим и, разумеется, не могу - при всем доверии к отпечаткам своих пальцев - коснуться ими Ванской скалы даже отдельно взятой верхней фалангой указательного.
Себя я ощущаю на армянском востоке, там, где Достоинство, там, где Карабах, там, где Шуши, там, где 9 мая 1992 года.
Сегодня город отмечает праздник совершеннолетия - его свободе 18 лет. Никогда еще Шуши не был свободным настолько, чтобы можно было спокойно и без всякой оглядки винить в безобразиях себя самих, как, например, осуждать за неудовлетворительные темпы развития города или за крайне низкий уровень благосостояния горожан...
Право осуждать не чужих, а своих завоевано кровью, это совершенно особое право, которым нельзя не пользоваться. Сегодня же, в день совершеннолетия свободного Шуши, правильнее возликовать по поводу праздника. И это тоже завоеванное право...
Стократно не прав тот, кто утверждает, что Шуши ознаменовал перелом в ходе войны. Конечно - военно-стратегическая высота, конечно, господствующая позиция, конечно, пальба по Степанакерту, конечно, снаряды по Карин Таку... Но ведь после мая были июнь, а потом июль и август... Увы, не только календарные: потеря северных земель, сдача Арцвашена...
Нет, Шуши не стал Сталинградом и он не стал Курском. И тем более не стал он переправой через Днепр и не стал триумфальным контрнаступлением; все это будет позже - летом 1993 года. Но Шуши облагородил армянское сознание недостающим достоинством. Тем самым, которое было утеряно когда-то очень давно. Шуши ознаменовал завершение первой стадии войны, после которой у армян наконец-таки разыгрался аппетит. До того нация недоедала...
Конечно, были какие-то военные достижения и до Шуши. Но недоставало символики успеха, недоставало геральдики победы, недоставало прививки достоинства, типографии, издавшей «Хент».
Достоинство - понятие растяжимое. Есть монета «достоинством в пять рублей», есть углеводородный баррель «достоинством в восемьдесят долларов». Это - достоинство Азербайджана.
Есть достоинство национальное: оно не экономический термин и не отражается в денежном эквиваленте, оно не знает номинала и тарифа и не перепродает свои акции на нью-йоркской бирже. Это - достоинство борющейся за свою независимость нации, достоинство разыгравшегося аппетита.
Когда в 1920 году турецкие паши Нури и Халил предали огню Шуши и для большей потехи подвергли мучительной казни 400 юношей-ополченцев, они, вероятно, и предположить не могли, что по прошествии нескольких десятилетий город вновь станет армянским.
Когда в 1921 году Иосиф Сталин, «исходя из необходимости мира между мусульманами и армянами», определил для ставшего уже преимущественно тюркским поселения статус административного центра Нагорного Карабаха (в составе Советского Азербайджана), он тоже, конечно, не думал о возможности подобного сценария.
И наконец, когда в 1988 году азербайджанские власти торжествовали по поводу успешного завершения почти 70-летнего процесса полной зачистки города - Шуши покинул тогда последний армянин, - то и они не предполагали, что по прошествии каких-нибудь четырех лет он, этот последний армянин Шуши, вернется на Родину. И вернется не один, а со знаменосцами, вернется не по визе туриста-паломника, а вернется как воин-паломник, как хозяин Казанчецоц...
Я не могу не уважать чувства и эмоции моих соотечественников, посещающих наши исторические земли, что за горой. Но я уверен, что путь к такому паломничеству пролегает через Карабах. Нужно иметь ступни, сильные настолько, чтобы поднимать хозяина к Тигранакерту крайнему, и ладони, ласкающие Гандзасар. И особенно нужно, чтобы там, на победном армянском востоке, все соотечественники - и министр, и безработный, и баловень судьбы, и безнадежный неудачник... - были бы равны.
Лишь в этом случае наступит Ночь обсуждения национального будущего и лишь в этом случае можно уже не покупать визу в Турцию, а возвращаться в Армению хозяином...
-
Батальон Сурена Адамяна
От деда моего, дедушки Маркоса, я впервые узнал истину, что месть – это блюдо, которое нужно есть в холодном виде. И всю жизнь я думал о том, что формулу эту вывел, скорее всего, армянин. Кстати, не раз в своей жизни я ловил себя на том, что всегда придерживаюсь формулы дедушки Маркоса. Обидел кто-нибудь, оскорбил, донес (да мало ли что еще), не торопитесь с ответом, а прежде разберитесь в происшедшем. Как тут не вспомнить высказывание выдающегося полководца и государственного деятеля Отто фон Бисмарка: «Жизнь научила меня много прощать, но еще больше – искать прощения». Вспомнил обо всем этом я вовсе не случайно.
На днях я узнал, что в издательстве «Амарас» планируется издание книги воспоминаний о человеке, который в свое время (в апреле 1975 года) на партийном пленуме Нагорно-Карабахского обкома партии, организованном Г. Алиевым, оклеветал меня и моих соратников, обвиняя нас в пресловутом национализме. Собственно, он слово в слово повторил абзацы из доклада первого секретаря обкома партии Б. Кеворкова, а затем то же самое повторил уже на районной партконференции Мартунийского района. Это был овеянный легендами человек, председатель чартарского колхоза «Коммунизм», Герой Социалистического Труда, четырежды кавалер ордена Ленина. Это был Сурен Арутюнович Адамян.
Тот пленум стал предтечей очередной чистки армянской интеллигенции Арцаха. Справедливости ради надо признаться, что мы были, если можно так выразиться, благодарны Алиеву за его гнусную провокацию, ибо тотчас же объявили настоящую войну Баку. Удары в основном были направлены против самого Алиева. Немало досталось и Кеворкову. Письма, послания нескончаемыми потоками шли в Кремль. Особенно старался незабвенный Леонид Гурунц. Трудно переоценить в той борьбе роль Сильвы Капутикян, Серо Ханзадяна, Грачья Ованесяна и многих других деятелей культуры. По сути, борьба эта продолжалась до перестройки, когда она обрела более действенные формы. И еще: злополучный тот партийный пленум вовсе не расколол, а скорее сплотил наши ряды. И самое удивительное то, что в ряды борцов постепенно вливались даже те, кто, казалось, активно поддерживал официальный курс, навязанный Арцаху Алиевым.
Помнится, сразу после алиевско-кеворковского пленума на партийном собрании в Союзе писателей Армении Вардгес Петросян предложил опубликовать в «Гракан терт» заявление и заклеймить позором не только главных организаторов провокации, но и тех, кто потом в сельских районах повторял «грязные инсинуации, прозвучавшие на областном пленуме». Секретарь первичной парторганизации союза Серо Ханзадян озвучил проект заявления. Потом выступил Грачья Ованесян и выразил уверенность, что Главлит (госцензура) непременно искромсает текст письма и, как он выразился, наше совместное заявление получится кастрированным. Начались споры. Неожиданно для меня Мушег Галшоян предложил, чтобы выступил я, хотя бы потому, что на всех пяти районных конференциях говорилось о моей публикации в «Дружбе народов». Я готовился к выступлению и заранее написал текст на русском. Думаю, есть необходимость привести здесь фрагмент того выступления:
«...Разумеется, стоило бы разоблачать всех тех, кто, проявляя на первый взгляд трусость, льстиво глядя в рот выкормышу Алиева, поливал всех нас грязью. И в первую очередь, казалось бы, речь идет о председателе чартарского колхоза Сурене Адамяне. Однако насколько верна будет такая точка зрения? И насколько это честно и справедливо, находясь здесь, в Армении, клеймить позором тех, кто живет и работает в жутких условиях в Карабахе, держась зубами за родную землю?» Мысль эта впоследствии переросла в идеологию начального этапа Карабахского движения. Забегая далеко вперед, скажу, что в годы Арцахской войны, навязанной нам Азербайджаном, жизнь показала, что настоящими героями всегда являлись в первую очередь те, кто жил и живет в Карабахе. Для меня лично героями всегда были даже надгробные плиты, хачкары и, конечно, Гандзасар, Амарас, Дадиванк и Казанчецоц. Для меня также настоящими бойцами были туфовые «Папик и Татик», ставшие впоследствии символами Карабахского движения. Так что я не мог позволить себе задеть и хоть одним словом оскорбить человека, который превратил родное село в настоящее боевое подразделение,
А теперь представим, что Сурен Адамян на том злосчастном кеворковском партийном пленуме принял бы другую позицию - скажем, выступил бы против линии Алиева. Конечно, он стал бы народным героем, а вот Чартар постепенно зачах бы, как зачахли сотни армянских населенных пунктов со времен Мирджафара Багирова. Просто при Багирове расстреливали тотчас же, а при Алиеве медленно душили армян и армянские хозяйства.
Уже тогда я убедился, что Сурен Адамян, говоря сегодняшним языком, никогда не занимался популизмом. Об этом не раз говорил один из самых мужественных и активных провозвестников Карабахского движения Леонид Гурунц. Незадолго до трагической гибели Сурена Адамяна мне стало известно, что легендарный председатель Чартарского колхоза не оставил без ответа провокационную реплику Алиева. Произошло это в самом Чартаре во время визита Алиева, давно ставшего партийным шахом Азербайджана. Уникальное здание театра, целый административый корпус, добротные каменные дома с ухоженными дворами и огородами, школы, предприятия, колхозные поля, памятники погибшим чартарцам в Великой Отечественной войне, пять тысяч жителей – это Чартар. Все это в Баку вызывало зависть и злость и не могло не бесить новоявленного шаха, который не сдержался и выпалил вслух едкую мысль о том, что Адамян добивается одного: убедить мир, что армяне на этой земле были всегда. На что хозяин земли лишь сказал, что «нет никакой надобности убеждать мир в этом». Алиев весь побагровел, но улыбнулся лисьей улыбкой, давая понять, что никогда не забудет дерзость человека, которого он доселе считал верноподданным слугой. И ведь не забыл.
Сурен Арутюнович нигде не хвастался этой своей дерзостью, проявленной по отношению к всемогущему шаху, который вскоре перерос в эдакого шахиншаха, когда сразу после смерти Брежнева был избран членом Политбюро и переведен в Москву на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Тогда же мне стало известно, что Алиев действительно не забыл ту адамяновскую дерзость. Еще до переезда Алиева в Москву Адамян чувствовал неприкрытый холод, который исходил от многочисленных инстанций Баку и от самого Кеворкова. Уже не помогали ни золотая звезда Героя Социалистического Труда, ни должность председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР, ни многолетнее депутатство в Верховном Совете СССР. Он стал поговаривать о своей отставке, хорошо понимая, что в конечном итоге пострадает Чартар. Не мог он не думать и о том, что неминуема также физическая расправа. В начале 1983 года, когда уже громко звучало имя новоиспеченного члена Политбюро Гейдара Алиева, незабвенный Егише Асатрян мне и Баграту Улубабяну выразил беспокойство по поводу судьбы Сурена Адамяна. В воздухе пахло грозой. Но никому тогда и в голову не могло прийти, что преступление свое, злодейское убийство, Алиев осуществит руками армянина. Впрочем, этот метод был традиционным для профессионального кагебешника
...В пасмурный и зябкий февральский день похорон в Чартаре во время траурной церемонии первый секретарь Карабахского обкома партии Кеворков, не скрывая гордости за оказанное ему царское доверие, театрально прочитал текст телеграммы, отправленной из Москвы Алиевым. Нельзя было не обратить внимание на типично алиевский цинизм и неприкрытую лесть. Для автора текста куда важнее был тот факт, что в Чартаре в горестный час прилюдно озвучат его новую должность – член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР.
Вряд ли тогда Алиев знал, что через год в Чартаре будет возведен бронзовый бюст, который возвестит о том, что Адамян встал в боевой строй теперь уже навечно. Мне рассказывали Гурген Габриелян и Вардан Акопян, которые часто встречались со знаменитым председателем колхоза «Коммунизм», что дядя Сурен постоянно выражал беспокойство по поводу того, что на глазах растут новые азерские поселения, как правило, вдоль магистральных дорог или в непосредственной близости от армянских населенных пунктов. Села эти тотчас же начинали разрастаться, расцветать. Так турки решали свои стратегические задачи не только в Арцахе, но и в Армянской ССР.
Вот только один пример: чуть поодаль от районного центра Мартуни был построен пастуший дом, вокруг которого в течение нескольких лет выросли, как грибы после дождя, десятки азерских жилищ. А вскоре целый поселок со своей местной властью получил название Ходжавенд и постепенно влился в состав Мартуни. Адамяна беспокоило и то, что по другую сторону Мартуни вмиг выросли села (будущие огневые точки) Куропаткино, Амиранлар и Муганлу. И, конечно, Алиева, как и его предшественника Ахундова, а также его преемника Багирова, бесило, что в пятитысячном Чартаре нет ни одного азербайджанского дома. Это не было проявлением национализма со стороны Адамяна. Это было осознание перспективы. Да, Адамян, как никто другой, видел эту перспективу.
...В самом начале Карабахского движения, когда благодаря гласности раскрылся подлинный образ провокатора Алиева, когда Кеворков был выдворен из Арцаха и оказался в застенках Азербайджана, в самом центре Чартара в зелени парка стоял в строю Адамян, провожая своих питомцев в бой. Пять тысяч чартарцев, а еще точнее, тысячи чартарских выпускников пяти сельских школ влились в самый мощный и самый многочисленный строй в составе Армии самообороны Арцаха. Чартарским отрядом командовал профессиональный военный, прошедший крещение в Афганистане, накопивший опыт и знания в Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР чартарец Мовсес Акопян. Ополченские отряды вскоре переросли в самостоятельный батальон в составе уже регулярной Арцахской армии - батальон, который смело можно назвать Адамяновским. И командир батальона (будущий заместитель легендарного Монте Мелконяна и будущий министр обороны Нагорно-Карабахской Республики) Акопян не раз признавался, что экономическим и людским ресурсами всего восточного направления мы во многом обязаны стратегической мудрости Сурена Адамяна, человекa, который сорок лет председательствовал в Чартаре. Достаточно напомнить, что за освобождение родины отдали свои жизни около 160 чартарцев. И, думаю, в этот священный список по праву входит сам Сурен Арутюнович Адамян.
Зорий Балаян
-
Памяти родителей-партизан
Как-то мы гуляли с дочкой в парке «Ахтанак». Неожиданно рядом заговорили давно забытым говором - звучал явно белорусский акцент. Я не удержалась и подошла к соседней скамейке, где сидел пожилой человек с мальчиком. Разговорились. Как я и предполагала, гость был из Белоруссии, приехал к дочери, которая замужем за российским офицером. Я рассказала о своих родителях, о том, что они воевали в тех краях. И вдруг слышу в ответ: «У нас в партизанском отряде тоже был армянин - Ванька Погосов. Смелый хлопец - у немцев из-под носа грузовик угнал». Неужели это о моем отце - Иване Сергеевиче Погосове? Так и есть. Представьте мое состояние. Нахлынули воспоминания...
Война застала отца, когда он служил в армии в 1735-м отдельном танковом батальоне в Белоруссии. Первый сокрушительный удар фашисты нанесли именно по этой республике. Многие военные и мирные жители подались тогда в леса, где организовали партизанские отряды. В Брестской области действовал партизанский отряд «Мститель» бригады им. Суворова. До 1944 года разведротой там командовал мой папа.
Однажды они заметили машину, в которой немцы увозили молодежь в Германию. Начался бой, ребят спасли. Так в партизанский отряд попала моя мама - Татьяна Алексеевна Ткачева. Говорят, на юную красавицу заглядывались многие, но командир защищал ее от назойливых ухажеров, никому не давал в обиду. Таня готовила для партизан, обстирывала бойцов, а в трудных ситуациях и сама брала в руки оружие. Впоследствии удостоилась многочисленных медалей.
А о ратном пути отца красноречиво свидетельствуют его награды: орден Отечественной войны I степени, два ордена Красного Знамени, медали «За Победу над Германией», «Партизан ВОВ» (I степени), медаль им. Жукова и многие другие. Все эти награды мы, дети, храним для потомков.
После войны родители осели в городе Барановичи. Отец работал водителем, отстраивал дом. И все-таки его тянуло на Родину. Родом он из села Нижний Гезалдар Мартунийского района. Родился в многодетной семье - двое его братьев так и не вернулись с войны. Наша семья переехала в Армению в 1969 году. Папа работал до выхода на пенсию. За многолетний добросовестный труд Президиумом Верховного Совета Армянской ССР Иван Погосов был награжден медалью «Ветеран труда».
Светлана Погосова
-
Обыкновенный герой
Держу в руках папку, полную вырезок из старых газет, писем, документов и отрывков книг о героях Великой Отечественной войны. Это все, что осталось от деда моему другу Эрику Авагимову – хорошему армянину с характерной армянской судьбой – корнями уходит в Зангезур, родился в Тбилиси, живет в Москве. То, как мой друг трепетно хранит память о дедушке, которого никогда не видел, вызывает у меня искреннее уважение и желание побольше узнать о Ваче Авагимове.
На старых фотографиях запечатлен по-военному опрятный молодой человек с грустными армянскими глазами. Это Ваче Авагимов – участник Сталинградской битвы, один из защитников легендарного Дома Павлова. Родился в селе Брнакот в 1913 году. Молодой офицер, с отличием окончивший Тбилисское военное училище, с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне и погиб в бою в 29-летнем возрасте.
Читаю статьи из старых газет, переписку фронтовых друзей В. Авагимова с его сыном Юрием - и постепенно герой с фотографии становится почти родным человеком, как лицо из семейного альбома. Вырисовывается портрет сильной и в то же время очень симпатичной личности.
В своих воспоминаниях фронтовые товарищи называют его «отважным сыном армянского народа». Рассказывают о том, как он, политрук батальона, сражался вместе с рядовыми, как часто его можно было видеть в окопах с лопатой и киркой, помогающим солдатам под вражеским огнем. Вспоминают и то, как он бросался в бой и рисковал жизнью часто наперекор командам вышестоящих. В письмах и статьях также упоминается, как много раз В. Авагимов, рискуя жизнью, на себе вытаскивал с поля боя раненых...
В воспоминаниях особо отмечается способность политрука Авагимова зажигать бойцов своим мужеством, поднимать боевой дух и... шутить в самых тяжелых и безвыходных ситуациях. Вот один из случаев. Идут тяжелейшие бои. В командном пункте раздается звонок из штаба. «Сколько вас?» – спрашивает командир. «Нас трое, товарищ командир, - отвечает Авагимов, - я, телефон и пулемет».
Какой порой яркий свет можно оставить за короткую жизнь...
А вот и последний листок в папке. Это официальное письмо, адресованное Евдокии Авагимовой, о том, что ее муж «в боях за Социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество 4 октября 1943 года был убит». Письмо также сообщает, что В. Авагимов награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны I степени.
Таким я узнал деда своего друга – «обыкновенного героя», о котором снимаются фильмы, слагаются песни, пишутся книги. Склоняю голову перед его светлой памятью, а также перед всеми погибшими и ныне живущими дедами, отцами, братьями и сыновьями, которые сражались за Родину, как бы она ни называлась. Жаль только, что людей, защитивших мир дома нашего, мы чтим и благодарим лишь по памятным датам...
Владимир Дарбинян
-
Чтобы не приносить армянские жертвы беспощадному мировому Молоху. Как в 1915-м
Среди главных ценностей советского времени Великая Отечественная война и все с ней связанное, в частности День Победы, всегда стояли особняком. В сознании народа она неизменно оставалась Священной войной, которой не могла коснуться грязь, ложь, клевета... Причина подобного отношения понятна: Великая Отечественная война была выстраданной народом реальностью, а не вымышленным идеологическим мифом, каких в те времена было множество.
Отсюда, вероятно, и та невиданная по масштабам пропагандистская кампания по очернению, компрометации и в итоге разрушению этой ценности, которая была развернута с первых дней «перестройки» и «гласности». Однако сегодня, спустя более четверти века после начала этой последовательной ожесточенной кампании, следует признать, что, несмотря на отдельные временные и локальные успехи, эта программа по большому счету провалилась, более того, именно сегодня очевидно, что благодаря памяти народной и принятым хоть и с опозданием правительством России мерам Великая Отечественная война сохранится в истории именно такой, какой она и воспринималась всеми послевоенными поколениями советских людей.
Позорные дни целенаправленной подмены понятий
То же самое восприятие Великой Отечественной войны как величайшей ценности было присуще и советским армянам. И для этого были более чем существенные основания - сама жизнь, само участие армян в этой войне, степень которого отражена в неоспоримых и фантастических для немногочисленного народа цифрах участников, погибших, награжденных и т.д . Эти цифры в эти предпраздничные дни справедливо вспоминаются вновь и вновь, вызывая в нас чувство справедливой гордости и сопричастности Великой Победе.
В то же время они вновь пробуждают в нас и воспоминания о тех, не столь уж далеких позорных днях, когда неизвестно (известно!) откуда взявшимся разрушителям наших традиционных ценностей удалось внушить какой-то части зомбированного общества абсолютно ложный тезис, будто «это не наша война», и даже, пусть временно, создать атмосферу, в которой участники войны опасались даже в День Победы носить заслуженные награды. Впрочем, и сам День Победы был ликвидирован. Сейчас вся эта мерзость, слава богу, в прошлом, жаль только, что она отравила последние годы жизни многим участникам ВОВ, которые не дожили до возрождения в государстве прежнего отношения к Великой Отечественной войне.
Среди самых невинных технологий тех лет была подмена понятия «Великая Отечественная война» более широким понятием «Вторая Мировая война». При всей кажущейся общности и даже тождественности этих понятий между ними имеются и существенные различия, игнорирование которых направлено на забвение того факта, что советские армяне не просто участвовали в войне против фашизма в составе антигитлеровской коалиции (что в принципе правда), но и прежде всего защищали собственное Отечество, каким тогда был СССР с его идеологическими ценностями, общими для всех входивших в него народов. Формально и по большому счету так оно и было, и замена понятия «Отечественная» понятием «Мировая» была не чем иным, как подменой ценностей, за которые сражались советские армяне в борьбе с общим врагом - фашизмом. Подмена эта вовсе не невинная игра словами, и если она утвердится в сознании будущих поколений, не говоря уже об исторической «науке», то это будет еще одним искажением правды нашей национальной истории, какой бы она ни была.
Между тем восстановление достойного отношения к Великой Отечественной войне как к общесоветской, в том числе, безусловно, и армянской, ценности вовсе не исключает необходимости дальнейшей работы по восстановлению исторической правды во всех тех многообразных случаях, которые замалчивались или намеренно искажались официальной историографией в соответствии с господствовавшей идеологией. Причем речь в данном случае идет не только о восстановлении правды истории в глобальном плане, что само по себе крайне важно, но и о пересмотре отношения и оценки судеб тысяч людей и их потомков, фактов и явлений, не утративших своей актуальности и сегодня. Конечно, большинство подобных случаев не были сугубо армянскими, но были, естественно, и такие.
«Сотни тысяч предателей» без разбору
Возьмем, к примеру, огромную проблему военнопленных. Как известно, Советский Союз не подписывал никаких цивилизованных международных конвенций, и уже в самом начале ВОВ было объявлено, что все оказавшиеся в плену (независимо от обстоятельств) - предатели. В плену же оказались миллионы и миллионы людей.
Были среди них и добровольно сдавшиеся противнику. Из трусости, как это бывает во время всякой войны, и их измена - это измена, не знающая оправданий. Или из ненависти к советской власти, а причин ненавидеть ее было немало - коллективизация, раскулачивание, массовые репрессии и многое еще такое. Эти тоже, конечно, были изменниками, но изменниками, так сказать, советского типа. Как справедливо спрашивал А. Солженицын, подробнейшим образом рассмотревший эту проблему в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Что это у вас за страна такая, у которой сотни тысяч предателей?»
Однако большинство оказавшихся во вражеском плену были жертвами безвыходных ситуаций, особенно в первые месяцы войны, когда в окружении оказывались даже крупные воинские подразделения. Многие были взяты в плен, будучи тяжелоранеными, даже в бессознательном состоянии. Правда, выход всем был подсказан и даже приказан: живыми не сдаваться! Но...
Родина фактически отталкивала от себя своих граждан, грозя суровой расправой каждому оказавшемуся в плену, в окружении, в зоне оккупации. Более того, в конце войны советское правительство не только само собирало со всей Европы советских граждан, подлежащих наказанию, но требовало их возвращения от союзников по антигитлеровской коалиции.
Кто и когда изучит и опишет судьбу тысяч и тысяч бывших советских армян, подпадавших под эти требования?! Мы не знаем имен даже тех, кто добровольно или насильственно был возвращен в Советский Союз и продолжал или даже завершал свою жизнь в концентрационных лагерях, описанных с ужасающей подробностью там же А. Солженицыным. Их потомки, даже официально реабилитированных, и сегодня со страхом вспоминают о тех годах.
А что говорить о невозвращенцах, пропавших без вести? Известно, что возвращаться в большевистский «рай» - тем более с перспективой оказаться в советских (многие - после немецких) лагерях - не хотел никто. И, поскольку французы и англичане в основном добросовестно выполняли требования советских властей о возвращении, спасшиеся от ужасов войны армяне стали стекаться в американскую зону оккупации. Но и здесь их судьбы складывались по-разному.
Лагерь в Штутгарте: каноны армянской жизнедеятельности
Вот только один эпизод. Тысячи оказавшихся в Германии военнопленных, беженцев, угнанных из разных стран на принудительные работы в Германию, пройдя через немыслимые страдания, к концу войны собрались в лагере под Штутгартом. По некоторым сведениям, в августе 1945 года здесь уже скопилось 1056 армян. Жили в бывшей казарме - грязь, клопы, мусор. По ночам люди прятались в лесу, днем держали самооборону, защищаясь от советских агентов, похищавших людей и отправлявших в Союз.
Прошел год. Число обитателей лагеря возросло до 1500 человек. За это время были не только приведены в идеальный порядок помещения, но и были построены церковь и школа. В школе-семилетке вместе с детским садом обучались 250 детей, преподавали 22 учителя. В лагере функционировал театр и множество творческих групп, собственная типография, издавался еженедельник «Тарагир». Но самое главное - в лагере было налажено производство обуви, 1400 пар в день, продаваемых по всей Германии и даже в соседних странах. Финансовая независимость была обеспечена.
За все время существования лагеря в нем, не считая туберкулезных больных, скончались 87 человек, родились 142, было заключено 79 браков.
Однако цель у всех его обитателей была одна: выехать в Америку или другие страны, что им удалось сделать до конца 1951 года.
Лагерю помогали и международные организации, американские армяне присылали деньги и продукты.
Но ведь были и конкретные люди, и организации, помогавшие армянам, и не только собравшимся в лагере под Штутгартом, выжить в этих немыслимых условиях, устраивали их дальнейшую судьбу. Их имена и действия тоже неотъемлемая часть истории той Великой войны. Назвать хотя бы некоторые из них здесь нет никакой возможности. Но одно, пожалуй, просто нельзя не назвать: Джордж Мартикян, воевавший в Европе офицер американской армии. Вернувшись в США, он создал там специальную организацию (АКЧА), которая добывала разрешения для выезда (что было самым трудным), оформляла документы, оплачивала переезд и предоставляла определенную сумму для первоначального обустройства армян-иммигрантов в Америке. Таким образом, АКЧА, по некоторым данным, спасла почти 4 тысячи человек.
Цель – сохранение армянского народа и каждого армянина в отдельности
Все это - тоже факты той войны, независимо от того, как ее называть, Великая Отечественная или Вторая мировая. Мизерная толика того множества фактов, которые по понятным причинам в лучшем случае замалчивались, а то, что замолчать было невозможно, искажалось, фальсифицировалось в обычном для советской пропаганды духе.
Советской пропаганды, слава богу, давно нет, но стереотипы сохранились. До сих пор мы вольно или невольно руководствуемся ими. Помните, кто не с нами, тот против нас; если враг не сдается, его уничтожают и т. п. И эти стереотипы не дают нам и сегодня возможности понять простые истины: в хаосе той Великой войны самоотверженно и даже героически действовали люди, для которых главным в любой ситуации, как и во всей их жизни, были не интересы тех или иных воюющих держав, а Армении, армянского народа и каждого отдельного армянина. Эти стереотипы не дают нам возможности понять мотивы, которыми руководствовались армяне, создавшие в конце 1942 года в Берлине Армянский национальный совет во главе с доктором Арташесом Абегяном. Члены этого совета, среди которых, безусловно, были и дашнакцаканы, и антисоветски настроенные, в течение одного года сумели вытащить из немецких концлагерей - фактически спасти - более 8000 армян-военнопленных, многих из которых стали готовить на случай захвата немцами Армении и одновременно неминуемого вторжения турок.
Практически та же группа армян, на этот раз возглавляемая соратником умершего к тому времени И.Лепсиуса доктором Рорбахом и тем же Арташесом Абегяном, сумела написать и передать властям Германии целое исследование, доказывающее арийское происхождение армян. Эта акция носила вовсе не академический характер, благодаря ей более 600 тысяч армян, оказавшихся в ходе войны в зоне немецкой оккупации, были спасены от судьбы евреев, цыган и других народов, обреченных на верную смерть. Естественно, что при этом, как и во многих других случаях, им пришлось сотрудничать с фашистами. А выбор у них был?
С точки зрения советских стереотипов, по которым жизнь человека или даже сотен тысяч человек никакой ценности не представляла, выбор был. Но вот что пишет в своих воспоминаниях активный участник тех событий Мисак Торлакян, тот самый Торлакян, который в 1921 году застрелил организатора Геноцида армян в Баку - министра внутренних дел Азербайджана Бехбуда хана Дживаншира: «Нас, армян, беспокоило одно: как защитить остатки армян (имеет в виду выживших после Геноцида - Л. М.) на территории, захваченной Гитлером, которых гнали на принудительные работы в Германию? Как защитить и спасти множество военнопленных, попавших в руки немцев? Как помочь армянским беженцам, чтобы не раздавили их в этой общеевропейской суматохе? Эти вопросы становились все более злободневными.
Независимо от исхода Мировой войны, независимо от наших идейных убеждений реальным и господствующим был тот факт, что хозяином положения сегодня был немец, вооруженный и победоносный. Получить помощь извне не было никакой надежды. Необходимо было спасать любой ценой остатки нашей нации и не приносить беспощадному мировому Молоху армянских жертв, как это было в 1915».
В основе – наши национальные интересы
Да, непростая и вовсе не черно-белая, как представлялось нам, была эта Великая война. И совершенно не случайно и в наши дни, 65 лет спустя после ее завершения, во всем мире продолжаются попытки узнать и рассказать правду об этой войне, как и продолжаются попытки ее искажения.
Просто фантастическим (и в идейном, и в техническом отношении) представляется решение руководства России выставить в интернете все материалы архива Министерства обороны в Подольске, насчитывающие миллионы единиц и содержащие информацию о каждом (!) участнике ВОВ. Какие возможности и для армянских исследователей!
Мы не должны отставать от протекающих в мире процессов по собиранию фактов, уточнению и увековечиванию памяти предков независимо от их партийной, религиозной или иной ориентации. Французы уже проделали эту грандиозную работу в отношении участников даже Первой мировой войны, испанцы сумели создать единый Мемориал участников гражданской войны, погибших по обе стороны баррикад...
Что это - забвение исторических реалий, отказ от уроков прошлого? Нет, конечно. Этот процесс как раз и свидетельствует об усвоении главного урока истории, осознании единства нации как главной ценности, осознании необходимости создания единых национальных стереотипов в противовес многим существовавшим в прошлом. Мы еще только в начале этого процесса. Мы еще живем в плену искусственно созданных (и создаваемых) ложных исторических стереотипов, не позволяющих нации развиваться и, верно оценивая прошлое, двигаться вперед.
Возможно, для этого в Институте истории НАН РА следовало бы создать специальную комплексную группу по изучению всех обстоятельств Великой войны и созданию ее полной и объективной научной истории, в основу системы ценностей которой будут положены исключительно наши национальные интересы, а не, к примеру, сфабрикованные в лабораториях КГБ фотографии генерала Дро в форме офицера германской армии, в которой он никогда не служил.
Левон Микаелян
-
Через три войны к Победе
Сергей Арменакян надел солдатскую шинель в конце 44-го, когда Советская армия уже била врага за пределами своей страны. Он был зачислен в состав II Украинского фронта под командованием генерала Ф. Толбухина. Поначалу попал на подготовку в Гори, в запасной стрелковый полк, где получил шоферские права. Затем его и еще 16 новобранцев отправили на передовую - под чешский город Брно. Шел уже март 45-го, но немцы сопротивлялись отчаянно, скрываясь в лесных урочищах. Полуторка рядового Арменакяна не знала простоя, подвозя по назначению боеприпасы, солдат и продовольствие, эвакуируя раненых с поля боя.
После 9 мая, когда пала Прага, мехкорпус полковника А. Жукова, в котором служил и юноша из Егварда, был переброшен в Австрию, где в Альпах в срочном порядке проводилось переформирование и усиление этого гвардейского подразделения. Лишь погрузившись в эшелоны, люди узнали, что их направляют на Дальний Восток. На самом деле, как оказалось впоследствии, соединение через Манчжурию вошло в Японию и разместилось в порту острова Дайрен. Гитлер уже капитулировал, но его союзница Япония продолжала кровопролитные сражения даже после ядерной бомбардировки американцами в августе 45-го Хиросимы и Нагасаки.
- Наш гарнизон занимался демонтажем и отправкой оборудования местного химзавода, - вспоминает Сергей Григорьевич. - Предприятие сильно пострадало при авианалетах, но в цехах оставалось и годное имущество, в котором нуждался СССР. Работа велась круглосуточно. Мы размещались в отдельном городке, а вот здание школы для детей офицеров, оставленных здесь с семьями после завершения войны, находилось в японском поселке, и мне было поручено возить ребятишек на уроки и обратно.
Тогда он и его боевые товарищи не думали, что для них война продлится еще пять лет. В Егвард Сергей Григорьевич вернулся в 1950 году уже... из Китая, где советским солдатам приходилось оказывать помощь голодному населению, спасать своих соотечественников в Шанхае, Харбине и отправлять их домой.
Всякое бывало в судьбе этого человека, но он мужественно защищал свое отечество, о чем свидетельствуют боевые награды. Для него предстоящий юбилей Победы - действительно радость со слезами на глазах. Сегодня в Егварде осталось 14 фронтовиков, трое из которых - бакинские беженцы. Они живут воспоминаниями дней минувших, окруженные вниманием своих близких и земляков. Когда мы прощались, они попросили выразить благодарность за доброе отношение к ним мэру Норику Саркисяну, к которому всегда можно обратиться по любому вопросу. Долгой жизни вам, фронтовики!
Борис Кюфарян
-
Последнее письмо с фронта
Вечно молодые
Во имя Родины шли наши отцы на войну. Мой отец вернулся домой. А вот его старший и младший братья погибли.
Сегодня я читаю письма моего отца и его братьев, написанные 65 лет назад. В этих старых, пожелтевших от времени письмах такая великая любовь к Родине, такая боль за свою землю и такая ненависть к врагу, что сжимается сердце. Ведь я читаю письма тех, кого нет уже 65 лет!
Папин старший брат Даниел Бандурян, 1916 г. рождения, выпускник Госунта, замечательный художник, фотограф, музыкант, был призван в армию в 1939 году. Ему оставалось служить год, как началась война. В звании младшего лейтенанта Даниел был направлен на передовую. В одном из его писем родным читаем: «Мы сделаем все, чтобы показать им (фашистам) обратную дорогу».
Увы, это было его последнее письмо.
Командир особого минометного батальона Котов писал: «Ваш сын Даниел Аветисович Бандурян 05.02.1942 г. геройски погиб в боях под Ленинградом у села Пенно».
Младший брат Яков Бандурян, 1923 г. рождения, пошел на фронт в 1941 г. добровольцем, был учеником 9-го класса. Участвовал в боях под Новороссийском, был ранен. Выздоровев, снова отправился на передовую. Здесь, спасая раненного в голову и ногу солдата, сам был ранен и снова попал в госпиталь. Отсюда он писал родным: «Скоро меня выпишут, и я снова поеду на передовую...» Это было его последнее письмо.
21 сентября 1944 года гвардии ефрейтор Яков Аветисович Бандурян погиб. Он похоронен на воинском кладбище в селе Ледурга в Латвии. Его фамилия высечена на надгробной плите. В этой братской могиле похоронены 75 воинов, погибших при освобождении Латвии.
У Яши был замечательный голос, он хорошо пел, играл на мандолине и кяманче. Оборвалась песня, прервалась музыка. Был ему 21 год. В одном из писем родным Яша писал: «Где бы я ни был похоронен, бросьте на мою могилу горстку земли из Еревана...» Старший брат Ованес и младший - поэт Гарик Бандурян - исполнили волю Яши. Армянская земля смешалась с латышской.
... У моего отца было три брата и сестра. Сегодня никого из них нет рядом. И 9 Мая, в день 65-й годовщины Победы над фашизмом и в день 90-летия папы я хочу поздравить своего отца Оганеса Аветисовича Бандуряна с двойным юбилеем. Я хочу, чтобы никогда не было войны. Я хочу, чтобы наши отцы, братья, мужья, сыновья всегда были рядом с нами. Я хочу, чтобы помнили о тех, кто навечно остался молодым.
Этот небольшой эпизод из военной жизни написан рукой отца.
Марина Бандурян
Морзянка на окраине Сталинграда
Стоял январь 1943 года. Кругом был снег. В Сталинграде шли ожесточенные уличные бои. Наши бойцы и народные ополченцы упорно отстаивали каждый дом, каждую улицу, каждую пядь земли Сталинграда. Наше зенитное подразделение заняло огневую позицию на окраине города у завода «Красный Октябрь».
Немецкие изверги превратили город в груды развалин. Кругом лежали трупы немецких солдат и офицеров, а на первых этажах разрушенных от бомбежки домов трупы валялись кучами. Среди них были раненые фрицы, которые просили, чтобы их пристрелили... На улицах лежали также трупы жителей города и наших бойцов.
Солдаты из наших и соседних подразделений убирали трупы и наводили порядок. Пушки окопали, отрыли ниши и траншеи и заняли уже готовые блиндажи: немцы заставили местных жителей сделать для них глубокие и прочные блиндажи, сверху накрыли шпалами в два слоя и засыпали землей. Изнутри землянки были обвешаны награбленными у населения коврами, а в середине блиндажей стояли печи. Как видно, немцы хотели холодные зимние месяцы перезимовать в Сталинграде, получить подкрепление и с потеплением пойти в наступление. Но их мечта не сбылась, и теперь в землянках поселились советские воины.
Взвод, которым командовал я, состоял из трех разведчиков, трех радистов, трех телефонистов и меня - командира взвода, всего 10 человек. Мы все лежали рядом на общих земляных нарах. Близилась ночь. Настроили радиостанцию, установили телефонную связь, поговорили о событиях минувшего дня и погибших товарищах. Один из моих разведчиков, Литовченко, был на посту, дежурил на огневой позиции. Через 2 часа его должен был сменить другой разведчик. В блиндаже дежурил радист, младший сержант Саша Сычов. Было около часа ночи. Многие уже спали, а я не мог заснуть - от впечатлений минувшего дня на душе было тревожно... Я вспомнил, как во дворе полуразрушенной избы качалась на дереве 18-летняя девушка с вырезанными грудями и окровавленными веками, а у выхода из избы был истерзан и зарублен топором ее дед... В избе также был зарубленный топором немецкий обер-лейтенант. Я лежал и думал, как такое могло случиться, какие мучения перенесли наши мирные жители от фашистских извергов...
Было уже около часа ночи, когда до меня стало доноситься постукивание морзянки. Я разбудил лежавшего рядом москвича Анатолия Исаева. Он взял с собой немецкий трофейный автомат, а у меня в кобуре был трофейный немецкий парабеллум. Мы выбрались из блиндажа наружу. Кругом все было покрыто снегом. Мы шли на стук «морзе», останавливались, потом опять шли. Под ногами хрустел примерзший снег. Мы уже хотели перейти на противоположный тротуар улицы, как звуки прекратились, и мы остановились. Как видно, «они» услышали наши шаги и временно замолчали.
У противоположного тротуара мы увидели круглую чугунную крышку канализационной ямы и заметили, что снег с крышки стряхнут. У этой крышки мы, притаившись, ждали почти 10 минут. Вдруг снова услышали морзянку совсем близко. Мы решились... Я стал приподнимать холодную чугунную крышку. Мимо моих ушей пронеслась автоматная очередь. Мой боец не растерялся и из своего автомата дал ответную очередь в яму. Мы услышали громкий стон. Отбросив крышку, увидели, что в яме были двое: убитый офицер и немецкий солдат (его звали Фриц). Подняв руки, он сдался. Немецкий пленный был доставлен в штаб полка.
Разведчик Анатолий Михайлович Исаев за смелость и отвагу был мной и командованием представлен к награде и награжден медалью «За отвагу».
О. А. Бандурян, капитан запаса
-
Освобождение
С ноября 1991 г. до начала мая 1992 г. Степанакерт 11 раз подвергался ракетно-артиллерийским обстрелам из Шуши, Джангасана и Кесалара. 111 мирных жителей погибли, 168 были ранены, разрушены и повреждены сотни жилых зданий, культурных и административных объектов. Противник продолжал накапливать в Шуши огромное количество тяжелой техники, в том числе ракетно-артиллерийские установки типа «Град» и свыше 2500 солдат и офицеров. Освобождение Шуши стало необходимостью.
Царский генерал, военный историограф Василий Потто в своем труде «Геройская оборона крепости Шуши» писал о многомесячной осаде Шуши 40-тысячным войском персидского престолонаследника Аббаса Мирзы в 1826 г: «Взять эту крепость открытою силою почти не представлялось возможности... Шуши была доступна только с северо-восточной стороны, да и этот единственный путь, поднимаясь в гору, был так извилист, крут и загроможден скалами и обрывами, что две пушки, поставленные на дороге, и рассыпанная рота стрелков могли остановить целую армию».
А 18 лет назад операцию было предусмотрено начать в конце апреля или 4 мая, но, как пишет в своих мемуарах Самвел Бабаян, имелось несколько проблем, в их числе нехватка оружия и боеприпасов. На главном командном пункте, расположенном к северу от села Шош, на высоте с отметкой 1206 метров находились генерал-майор (ныне генерал-полковник) Гурген Далибалтаян, публицист Зорий Балаян, председатель Совета министров НКР Олег Есаян и другие представители власти НКР. Оперативная ситуация регулярно докладывалась председателю Комитета самообороны НКР Сержу Саргсяну - ныне президенту РА - и в то время министру обороны РА, ныне покойному Вазгену Саркисяну. В ночь с 7 на 8 мая 1992 года в 2 часа 30 минут Самвел Бабаян, согласно оперативному плану, дойдя и укрепившись на высоте с отметкой 2214,8 Лисогорского локатора доложил: «44-й на связи, мы взяли под контроль высоту и магистраль. Можно начинать наступление».
Уверенность С. Бабаяна в том, что прорыв обороны противника возможно осуществить только в Лачинском направлении, поддержал в то время депутат ВС РА и НКР, член Совета обороны, впоследствии президент НКР и РА Роберт Кочарян, который лично принимал участие в боевых действиях на этом направлении.
Сегодня, спустя 18 лет, уже известны многие детали той поистине уникальной операции, а также имена тех, кто внес огромную лепту в освобождение города-крепости: Командос – генерал Аркадий Тер-Тадевосян, Валерий Читчян, Сергей Товмасян, Юрий Ованнисян, Аркадий Саргсян, бойцы-освободители 8-й роты, бойцы отрядов «Севан» и «Сасун», командиры Аркадий Карапетян, Аргам Арутюнян, Жирайр Сефилян, Григор Григорян, Ашот Гулян, Сейран Оганян...
Участвующим в операции силам было приказано продвинуться в направлении магистрали Шуши - Лачин, обеспечить тыл атакующих Шуши подразделений и предотвратить возможное проникновение противника из района Кубатлы, а также перекрыть дорогу Лачин - Шуши, что лишило бы дислоцированную в Шуши военную силу противника ожидаемой помощи из опорного пункта в селе Зарыслу, где была размещена сильная группировка противника, готовая прийти на помощь размещенным в Шуши силам.
В результате боев на Лачинском направлении были подавлены огневые точки противника на участке Мец и Покр Кирсов, форсируя кирские позиции, главные силы направления полностью блокировали магистраль Шуши - Лачин. Когда опасность оказаться в окружении стала устрашающей, войсковые группы и мирное население азербайджанцев стали в панике покидать Шуши. Осужденный позже на смертную казнь бывший министр обороны Азербайджана Рахим Казиев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказывал о том, как командиры бригад и батальонов дезертировали и бежали из Шушинского и Лачинского районов уже пополудни 8 мая. 9 мая 1992 года в 6 часов утра армянские подразделения вошли в город, не встретив ни малейшего сопротивления. Освобождением Шуши были обезврежены азербайджанские огневые точки и военные опорные пункты вокруг Степанакерта. Шушинская операция унесла жизни 57 армянских бойцов. Противник имел 250-300 жертв, около 700 раненых и 13 пленных.
Наш краткий экскурс не претендует на детальное описание операции, которая велась не только на главном, Лачинском, направлении, но и на северном и восточном направлениях. Мы также не в состоянии перечислить всех, кто ценой собственной крови освободил Шуши. Завтра Армения и Нагорно-Карабахская Республика будут вместе отмечать 18-ю годовщину героической операции по освобождению Шуши. Впервые неприступная крепость пала под натиском армянского оружия. После освобождения Шуши возникли благоприятные предпосылки для дальнейших успехов сил самообороны. 17 мая был освобожден Бердадзорский подрайон, 18 мая силы самообороны вышли на государственную границу Республики Армения, освободив связывающую Арцах с Арменией дорогу - гуманитарный коридор.
Марина Мкртчян
-
Наша война. Наша Победа
В годы Первой мировой наш народ потерял около 200 000 солдат и офицеров – показатель, превосходящий количество потерь некоторых воюющих стран. Например, Бельгия, где впервые было апробировано химическое оружие, потеряла 93 000 человек, Португалия – 33 000, Греция – 27 000, Черногория – 20 000, Япония – 1 000.
История, конечно, не терпит сослагательного наклонения, но если бы Севрский договор и вильсоновская подпись с картографической плоскости переместились на историческую поверхность, то чудом уцелевшее в годы Геноцида первое армянское поколение вполне могло рассчитывать на существенное расширение границ своего государства. Вероятно, уже сегодняшние армяне немножко иначе вспоминали бы и Первую мировую - это уже не только резня полутора миллиона соотечественников, но и возвращение Отчизны. Впрочем, истории был угоден другой сценарий…
Вторая мировая война стоила жизни уже около 350 000 армян, причем более 300 000 только в Великой Отечественной. Это - либо пережившие Геноцид наши соотечественники, либо их дети. Потери Великобритании и США составили примерно столько же (около 350 000 и 300 000 соответственно).
Если бы не атомная бомбардировка двух японских городов и последующее подписание турецко-американского соглашения о стратегическом партнерстве, то первое послевоенное поколение армянского народа вполне могло рассчитывать на существенное расширение границ своей союзной республики. Посему уже сегодняшние армяне совсем иначе встретили бы 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В эмоциональном отношении официальные торжества едва ли уступали бы российским, а с высоких трибун читался бы целый цикл интересных докладов об историческом значении этой Победы, причем героизм отцов и дедов был бы вписан в контекст территориальных приобретений. Но истории был угоден другой сценарий…
89-я Таманская армянская дивизия стала, по сути, единственным национальным воинским подразделением СССР, штурмовавшим Берлин. Не только предвзятый, но и достаточно циничный подход формулируется следующим образом: Берлин сегодня есть, Советского Союза нет, а не значит ли это, что нет и того исторического контекста, в который можно вписать доблесть сынов армянского народа, павших за страну, которой не существует?
С другой стороны, такой вопрос не так прост, как может показаться. Дело в том, что сегодня у нас ощущается острейший дефицит представления, в том числе, и «армянского ракурса» войны. В наших учебниках по истории отсутствуют важнейшие факты, позволяющие понять ситуацию, в которой оказался армянский народ в начале 40-х годов прошлого столетия, и какими последствиями все это было чревато. Не говорится о том, что именно тогда Армянский вопрос мог найти свое окончательное решение по турецкому сценарию.
Например, что известно подрастающему поколению о действиях немецко-турецкой агентуры в Закавказье? О ситуации в том же Джавахке, где велась интенсивная работа по формированию «пятой колонны» из месхетинских турок? О создании подчиненного Турции «Кавказского имамата», включающего все северокавказские автономии и Азербайджан? О том, что уже в 1942 году была достигнута договоренность об открытии Кавказского фронта сразу после ожидаемого успеха немцев под Сталинградом? О том, что мятеж месхетинских турок должен был быть поддержан мощным восстанием мусульман Северного Кавказа и вступлением Турции в войну по территории Армении и Грузии? О депешах Гудериана Гитлеру «о настроениях на Кавказе»?
Или что известно нашим молодым о советской военной операции в Иране? Есть ли в наших учебниках хотя бы упоминание о вводе в сентябре 1941 года советской ударной группировки в составе двух армий в северные провинции Ирана? Какой необходимостью это было вызвано?
По сути, важнейшая тема не раскрыта, и, естественно, она не может быть известна молодым. Многие просто не осознают, что 9 Мая – это великий праздник и армянской Победы, так как без нее не было бы и нас. Не будь побед в сражениях под Сталинградом и Курском, Армянский вопрос был бы окончательно решен в течение одной недели (кстати, именно такая перспектива и вынуждала некоторых армянских национальных деятелей поддерживать контакты и с нацистским руководством, чтобы каким-то образом помешать реализации турецких планов).
Распад Советского Союза протекал в атмосфере мощнейшего идеологического давления на пребывающие в процессе трансформации общества. Именно в этот смутный период на асфальте площадей и стала писаться предвзятая история, которая очень скоро легла на первые полосы новой политической периодики. Публикации поглощались взращенной на трафаретном языке не менее предвзятой советской публицистики аудиторией в качестве нового откровения.
Мощнейшей идеологической атаке подверглись и наиболее эмоциональные события советской истории, в первую очередь Великая Отечественная война. Как самый важный и решающий пласт Второй мировой, она стала постепенно поглощаться и вытесняться иными пластами, в конце концов была представлена первому постсоветскому поколению в качестве лишь одного из целого ряда равновеликих событий военных лет.
В настоящее время во многих странах пишется уже новая историография, предпринимаются попытки высветить «свой ракурс» событий последней мировой войны. Где-то принципы описания и представления войны все еще сильно подвержены привнесенной идеологии и особой разницы между нацистами и советскими воинами не ставится. В нашем случае все предельно ясно, однако почему-то тема не раскрывается.
Только в ходе последовательной работы в этом направлении и вскрывается значение Великой Победы, значение подвига наших отцов и дедов, и только в этом случае идейная связь между танцем кочари в Берлине и шушинской «Свадьбой в горах» становится исторически неразрывной.
-
Дойти до Массачусетса, или врунишки в сутане и без
Годами набиравшиеся опыта и упорно совершенствовавшие навыки в распространении провокационных и очевидно лживых сообщений азербайджанские СМИ в последние время пожинают плоды наконец-то достигнутого высокого уровня «профессионализма». Буквально за несколько дней азерпроп был по меньшей мере дважды уличен в откровенной лжи, причем - невероятно, но факт! - в одном из этих случаев Баку публично признал собственную вину, а в другом последовало гробовое молчание.
Визит Гарегина II в Баку и его встреча с президентом Алиевым вызвали множество комментариев, в том числе критических, в армянских СМИ. Можно по-разному относиться к этому визиту, который, скорее всего, был организован при непосредственном участии России и самого Патриарха Кирилла. Но последовавший через пару дней омерзительно-провокационный шаг духовного лидера мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде моментально «блокировал» все широко афишировавшиеся дивиденды Азербайджана (например, невиданную доселе нигде в мире «толерантность» и т. д.) и возможные невыгодные для армянской стороны аспекты, выставив в негативном и позорном свете принимавшую сторону - Азербайджан и его духовного предводителя. Речь идет о нашумевшем интервью Пашазаде агентству ANS, в котором он сокровенно поведал о совете, данном Католикосу Гарегину. «Я посоветовал Католикосу всех армян Гарегину II посмотреть на шехидов, погибших за Карабах, увидеть могилы наших сыновей. Они пошли туда ночью, когда никого там не было. Увиденная картина сильно тронула его», - не моргнув глазом, заявил Аллахшукюр Пашазаде.
Не будем придираться к слогу и стилю духовного лидера и к очевидной странности сообщения о «ночном визите» высокого гостя и его ощущениях - это проблема интеллектуального уровня шейха и бакинских журналистов . Но «новость» оказалась настолько абсурдной и шокирующей, что сразу последовало не только опровержение со стороны Эчмиадзина, но и - в тот же день – «покаяние» самого шейха, «гневно» заявившего об «ошибке» своего сотрудника и увольнении последнего. Каким образом рядовой сотрудник оказался повинен в том, что шейх наврал с три короба в собственном интервью, известно разве что Аллаху, ибо и ежу ясно, что такого рода вранье в Азербайджане может быть распространено только с высочайшего распоряжения. Но Пашазаде подобные мелочи отнюдь не смущают, ибо этот, с позволения сказать, священнослужитель давно стал неотъемлемой частью азерпропа и перенял все присущие этому уникальному «явлению» методы и привычки.
Второй случай оказался не менее позорным для Баку. 26 апреля все азербайджанские СМИ взахлеб распространили «сенсацию»: палата представителей американского штата Массачусетс, оказывается, «признала геноцид в Ходжалу». Последовали победные реляции о том, что, дескать, «начался процесс международного признания». В реальности все оказалось куда более примитивно: один из местных конгрессменов выступил с инициативой, которая, согласно процедуре, была подписана спикером законодательного органа Массачусетса. Однако ни о голосовании, а тем более «принятии» и речи не шло: отражающее исключительно личную точку зрения одного из членов палаты заявление было просто опубликовано его офисом. В Баку то ли оказались не в состоянии понять это, то ли - что вероятнее - пошли на осознанную ложь, обманув, прежде всего, собственное население очередными байками о Ходжалу.
Любопытно, кстати, что в письме конгрессмена нет слова «геноцид» - там говорится о «ходжалинской бойне». Но, как нетрудно догадаться, азерпроп в целом также не утруждает себя подобными «мелочами», изначально и глобально руководствуясь принципом: врать - так врать по-крупному.
Это всего два последних и наиболее громких случая, которые очевидно продемонстрировали всему региону суть и привычные методы азербайджанской индустрии лжи, которая бесперебойно функционировала все последние годы, на-гора выдавая тонны беспардонного вранья. Однако в Баку уже явно зарвались и перегнули палку, «скромно» недооценив степень собственной бесцеремонности в обращении с фактами и реалиями. И получили по мозгам - в обоих случаях.
С другой стороны, очевидно, что противостоять откровенному хамству в сфере информации можно только одним способом: сообщая правду. И в том и в другом случае реакция армянской стороны была довольно оперативной, что и позволило поставить на место зарвавшихся врунишек - как рядящихся в сутану, так и без оной.
Марина Григорян
-
Жизнь, отданная науке
1 мая в возрасте 65 лет скоропостижно скончался Алексей Норайрович Сисакян, всемирно известный физик - теоретик, крупнейший организатор науки, член президиума Академии наук России, иностранный член НАН РА, почетный доктор Ереванского государственного университета, директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Московская область).
Алексей Норайрович Сисакян родился 14 октября 1944 г. в Москве в семье научных работников. Отец Алексея Норайровича - академик Норайр Мартиросович Сисакян был известным биохимиком, стоявшим у истоков космической биологии. В 1968 году сразу после окончания физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Сисакян поступил на работу в лабораторию теоретической физики Объединенного института ядерных исследований под руководством академика Н. Н. Боголюбова.
В 1970 году Алексей Норайрович защищает кандидатскую диссертацию по теме «Приближение прямолинейных путей в квантовой теории поля и множественное рождение частиц при высоких энергиях», а в 1980 г.- докторскую диссертацию «Многокомпонентный подход в теории множественного рождения адронов».
Основные направления его научной деятельности - физика элементарных частиц, приближенные методы и уравнения квантовой теории поля, физика сильных взаимодействий при высоких температурах и плотностях, математическая физика. Он является автором более трехсот научных статей, опубликованных в наиболее цитируемых международных журналах по физике.
В квантовой теории поля А. Н. Сисакяном с соавторами было впервые предложено и разработано приближение прямолинейных путей - эффективный метод континуального интегрирования, нашедший широкое применение в теоретической физике. Им развит многокомпонентный подход в теории множественного рождения частиц, который позволяет описывать закономерности неупругих процессов столкновения элементарных частиц. Широкую известность получили работы под руководством А. Н. Сисакяна, посвященные развитию непертурбативных методов квантовой теории поля.
В области математической физики совместно с сотрудниками кафедры теоретической физики ЕГУ А. Н. Сисакяном выполнен основополагающий цикл работ по теории классических и квантовых систем с динамической симметрией на пространствах постоянной кривизны, проблеме генерации топологически нетривиальных объектов в осцилляторном взаимодействии. На эту тему А. Н. Сисакяном в соавторстве опубликована монография «Квантовые системы со скрытой симметрией».
В последние годы под руководством А. Н. Сисакяна проводились новые перспективные исследования, направленные на поиски процессов образования смешанной кварк-адронной фазы ядерной материи в столкновениях тяжелых ионов. Им инициирован крупномасштабный международный проект NICA на базе ускорительного комплекса ОИЯИ.
Наряду с активной научной деятельностью А. Н. Сисакян уделял большое внимание педагогической деятельности и научно-организационной работе. Под его непосредственным руководством защищены 15 кандидатских диссертаций. Он был одним из организаторов и вице-президентом Международного университета «Дубна», являлся заведующим кафедрами фундаментальных и прикладных проблем Московского физико-технического института и теоретической физики университета «Дубна», профессором МГУ им. М. В. Ломоносова.
Будучи вице-директором (1989-2005 гг.) и директором ОИЯИ (с 2006 г.), А. Н. Сисакян внес большой личный вклад в сохранение и увеличение потенциала института, а также в развитие широкого сотрудничества с известными национальными и мировыми научными и образовательными центрами . Академик Сисакян награжден более чем десятью российскими и зарубежными орденами и медалями.
Велик вклад А. Н. Сисакяна в развитие науки и подготовку квалифицированных научных кадров Армении. Он являлся идейным вдохновителем и первым научным руководителем лаборатории физики высоких энергий, созданной на базе ЕГУ в 1988 году, нацеленной как на теоретические исследования, так и на участие в строящемся в то время крупнейшем ускорительно - накопительном комплексе в г. Протвино. За проявленные заслуги А. Н. Сисакяну в 1995 году присвоено звание Почетного доктора ЕГУ, в 2003 г. он избирается иностранным членом НАН РА, а в 2006 г. награждается медалью Анании Ширакаци.
Алексей Норайрович Сисакян был ученым, до конца преданным науке, человеком, сочетающим в себе огромную силу воли с мягкостью и отзывчивостью к своим близким, друзьям и коллегам. Он был добрым человеком и настоящим интеллигентом. Благодарная память о нем навсегда останется в сердцах всех ,кто его знал и имел счастье работать с ним.
Государственный комитет по науке РА
-
Из воспоминаний офицера в отставке Евгения Симоняна
Бои за освобождение Новороссийска
Мне было восемнадцать лет, учился в Тбилиси на втором курсе механического факультета Грузинского политехнического института. 22 июня 1941 г. с товарищами готовился к очередным экзаменам. Неожиданно резко открылась дверь, вошли соседи и объявили, что началась война. Конечно, занятия отошли на второй план.
В конце августа 41-го меня мобилизовали в армию и направили курсантом в Телавское пехотное училище, которое в июне следующего года я закончил в звании лейтенанта и был направлен в распоряжение штаба 408-й армянской пехотной дивизии. Отсюда меня направили в г. Октемберян в 672 пехотный полк на должность заместителя командира пулеметной роты.
В августе наш полк был передислоцирован на армяно-турецкую границу, где мы заняли оставленные пограничниками позиции. По ночам перебирались на южную сторону прилегающих холмов, где рыли окопы, а под утро, для маскировки прикрыв растениями результаты наших трудов, переползали обратно. Пребывание нашего полка на армяно-турецкой границе продолжалось недолго. Дело обстояло следующим образом: если бы советские войска потерпели поражение под Сталинградом, союзница Германии Турция была готова вторгнуться на территорию Армении. Как известно, фашисты под Сталинградом потерпели крупное поражение и участие Турции во Второй мировой войне отпало.
В середине сентября 1942 г. наша дивизия была направлена на фронт. Эшелон прибыл в грузинский порт Поти, где мы ожидали погрузки на корабли Черноморского флота. Обслуживающий персонал вместе со всем вооружением погрузили на транспортное судно «Курск», на котором мы прибыли в Фальшивый Геленджик. По пути из Поти была объявлена боевая тревога - ожидалось нападение вражеских самолетов и подводных лодок. Самолеты появились, но нам повезло, поскольку бомбометание не задело судно.
Из Фальшивого Геленджика наш полк был переброшен под Новороссийск, в район Широкой щели и Кабардинки. Там впервые я почувствовал, что значит находиться под огнем и выходить из опасных боевых ситуаций. А произошло вот что. Мне было необходимо перебраться по зеленой поляне из одного пункта в другой. Был солнечный день, все вокруг просматривалось очень четко. Неожиданно на меня обрушился град снарядов из немецкого шестиствольного миномета, названного нашими солдатами «Ванюша». После первого залпа я бросился на землю, но, спустя некоторое время, поднялся, чтобы продолжить свой путь. Немцы поняли, что я остался жив и произвели второй залп из миномета. Тут уж я бросился в находившиеся рядом кусты и кубарем откатился в ложбинку. Оттуда уже нетрудно было продолжить свое движение...
Так немцы потратили на меня 12 крупных мин. Я-то был еще неопытным, шел в полной офицерской форме, с золотыми петлицами, украшенными двумя кубиками. Ну как не подстрелить вражеского офицера...
Другой запомнившийся эпизод произошел тогда, когда я шел из расположения нашего батальона в штаб полка. Ничего не предвещало трагического оборота. Неожиданно мой путь преградили бойцы заградительного отряда, прятавшиеся в кустах. Очевидно, они предположили, что я дезертир, покинувший поле битвы. Увидев у меня секретные документы и выяснив, что я занят доставкой секретного пакета в штаб полка, они отпустили меня.
Пока я выполнял задание, наш батальон был окружен противником, и все наши бойцы были немцами уничтожены или взяты в плен. Единственный, кому удалось вырваться из окружения, был командир батальона капитан Бекетов с несколькими солдатами. По решению военного совета Бекетов был расстрелян перед строем. Меня охватило двойственное чувство: по законам военного времени он должен был подвергнуться каре, с другой стороны, он был очень порядочным и добрым человеком...
Наш полк участвовал в боях под Новороссийском, где немецкие и советские войска располагались на территориях двух цементных заводов «Красный октябрь» и «Пролетарий». Мы вели перестрелку с войсками противника, находящегося на окраине города. Мое пребывание под Новороссийском закончилось неожиданно - я был ранен и оказался в полевом госпитале в местечке Михайловский перевал. После выздоровления был направлен в 7-ю Особую стрелковую бригаду, дислоцированную недалеко от Туапсе. Бригада располагалась на большой высоте, и такой рельеф значительно усложнял доставку нам боеприпасов и провианта. С помощью мулов и лошадей с трудом доставлялись нужные грузы, причем в ограниченном количестве, поэтому личный состав бригады вынужден был находиться на более чем скромном довольствии. А против нас действовали опытные альпийские немецкие части.
В мои функции в бригаде входила работа офицера связи. Она продолжалась до тех пор, пока я вновь не обратился за медицинской помощью в полевой передвижной госпиталь, находившийся в нескольких километрах от фронтовой линии. Перед поступлением в госпиталь мне поручили доставить туда еще около 10 раненых, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться. А было это в суровую зимнюю пору. Некоторые солдаты, еле передвигавшиеся по ледяной дороге, пытались сесть передохнуть, а это значило, что они тут же бы заснули и замерзли. Выхода не было: выдернув из кобуры наган, я истошно закричал: если кто сядет на землю - тут же расстреляю. Этот окрик и страх перед расправой подействовал, и я довел солдат до госпиталя живыми. Последние несколько десятков метров перед госпиталем меня нес на себе комиссар госпиталя.
Я был в очень тяжелом состоянии, и врачи сочли необходимым эвакуировать меня на лечение в глубокий тыл. Через госпиталь в Мацесте я был переправлен в Тбилиси, где пролежал около месяца и был выписан в марте 1943 г. инвалидом I группы. Так для меня завершилась война. Спустя некоторое время, когда состояние здоровья несколько улучшилось, я продолжил учебу в Грузинском политехническом институте...
Бойцам нашего полка под Новороссийском пришлось очень тяжело. Мне позднее говорили, что из всего полка в живых осталось едва ли не 40 человек.
Евгений Симонян, член Союзов журналистов России, Москвы и Армении
Лос-Анджелес
-
Арцахский «Буревестник» - балтийский сокол!
Степанян Нельсон Георгиевич (1913-1944) - советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза (23 октября 1942 г., 6 марта 1945 г. - посмертно), гвардии подполковник. Совершил 239 боевых вылетов; потопил лично и в группе 53 вражеских судна (лично - 13), уничтожил 80 танков, 600 автомашин, 27 самолетов (2 бомбардировщика Ю-88 в воздушном бою, 25 самолетов разных типов - на аэродромах). Также на его счету 105 уничтоженных вражеских орудий, 130 пулеметных точек, 5000 солдат и офицеров, 80 взрывов и 70 пожаров.
Нельсон Степанян - уроженец исторического Шуши в Нагорном Карабахе. В 2-х летнем возрасте вместе с семьей Нельсон переехал в Ереван, где затем учился в школе им. Горького (ныне им. Шанта). Хоть и рано он пристрастился к авиации (на его счету были победы на соревнованиях по авиамоделизму в Москве, Киеве, Тбилиси, Баку), но в 1927 году поступил в Бакинское пехотное училище. Однако увлеченность авиацией привела его в 1932 г. (после окончания училища) в Батайскую школу гражданской авиации, которую окончил с отличием, став там же летчиком-инструктором.
Накануне войны уже обладавшего достаточным опытом и освоившего военные самолеты Нельсона Степаняна в г. Ейске назначают военным летчиком штурмовой авиации. В начале войны Н. Степанян был призван на фронт - в штурмовую авиацию Черноморского флота, где в составе 46-й штурмовой авиаэскадрильи принял участие в оборонительных боях под Николаевом, Одессой и другими городами Украины. И уже на 20 вылете во время очередной атаки Нельсон был ранен осколком зенитного снаряда, но сумел дотянуть подбитую машину до своего аэродрома. Спустя почти месяц, еще толком не долечившийся, он был назначен командиром звена в составе 57-го штурмового авиаполка ВВС Балтийского флота, который оборонял Моондзундские острова, Таллин, полуостров Ханко и поддерживал наступление сухопутных войск в Прибалтике. Н. Степанян вел свое звено на штурм вражеских позиций на подступах к Ленинграду, выступая надежным плечом ожесточенной обороны Ленинграда и Прибалтики. В небе Ленинграда Н. Степанян совершил свыше 60 боевых вылетов и вместе со своим звеном уничтожил и вывел из строя 8 танков, 90 автомашин, более 60 орудий, пулеметов и множество другой военной техники. 16 октября 1941 г. ежедневная краснофлотская газета «Красный Балтийский флот» опубликовала статью «Буревестник», где впервые был описан боевой подвиг бесстрашного штурмовика-балтийца, который сочетал в себе стремительность истребителя с грозной мощью бомбардировщика.
Отважный летчик, безупречно владеющий техникой пилотирования, наделенный природой личной отвагой и житейской мудростью, не остался без внимания командования, и Военный совет Балтийского флота представил его к званию Героя Советского Союза. И вот 23 октября 1942 года за отличное выполнение заданий командования Указом Президиума Верховного Совета СССР Нельсону Георгиевичу Степаняну присваивается высокое звание Героя Советского Союза.
В ноябре того же 1942 года Нельсона Степаняна назначают командиром эскадрильи 57-го штурмового авиаполка, который через четыре месяца одним из первых на флоте был переименован в 7-й гвардейский авиаполк.
Спустя некоторое время опытнейшего аса Н. Степаняна отзывают с фронта готовить командиров звеньев ВВС Балтийского флота, а далее - и на Высших офицерских курсах ВВС Военно-морского флота, где в полной мере раскрылся его талант как педагога, умеющего передавать слушателям свои богатые знания и боевой опыт. Но Нельсон рвался на фронт, на передовую. Его неоднократные просьбы, рапорты были услышаны, и в апреле 1944 г. Н. Степанян назначается командиром 47-го штурмового авиаполка Черноморского флота. Полк сражался самоотверженно в огненном небе Крыма и Кубани. За время Крымской операции полк Н. Степаняна уничтожил 8 транспортов, 12 быстроходных десантных барж, 9 сторожевых катеров, свыше 3000 фашистских солдат и офицеров. 16 апреля 1944 г., ведя группу 12-ти ИЛ-ов Нельсон Степанян потопил в районе Судака сразу три быстроходные десантные баржи. 47-й штурмовой авиаполк отличился также в боях за Феодосию и был удостоен почетного наименования «Феодосийский».
После освобождения Крыма полк Н. Степаняна был переведен на Балтику. Штурмовики Степаняна постоянно наносили сокрушительные удары по плавсредствам противника в районе Нарвы, Выборга в Финском заливе, совершали налеты на вражеские базы. За непродолжительное время 47-й авиаполк уничтожил 30 фашистских кораблей и судов. И заслуженно 22 июля 1944г. командующий Балтийским флотом адмирал Трибуц торжественно прикрепил к боевому знамени 47-го авиаполка орден Красного Знамени. К августу 1944 г. подполковник Степанян Н. Г. совершил 239 боевых вылетов. Он лично потопил целую эскадру: миноносец, два сторожевых корабля, тральщик, два торпедных катера и 5 транспортов, общим водоизмещением более 80 тыс. тонн! А также во время штурма уничтожил около 5000 солдат и офицеров врага, разбил четыре переправы, вызвал более 80 взрывов и 70 пожаров.
За это же время летчики его полка совершили около 1500 боевых вылетов, потопили свыше 50 кораблей и судов противника, сбили в воздушных боях 13 вражеских самолетов. А месяц спустя, 20 августа 1944 г., командир 11-й штурмовой дивизии полковник Д. И. Манжосов представил Н. Г. Степаняна к награждению второй медалью «Золотая Звезда». (Большую кропотливую работу провел в архиве г. Гатчины академик К. А. Арутюнян, заполняя лакуны в славной биографии легендарного летчика, из которых становится известным, что это представление было утверждено адмиралом Трибуцом лишь через шесть месяцев - 6 марта 1945 г. посмертно.)
Досталось от Н. Степаняна и вражеской авиации. Проведя более трех десятков воздушных боев, командир полка лично сбил два фашистских бомбардировщика Ю-88, расстреляв и разбомбив на аэродромах еще 25 различных типов самолетов. Список подвигов действительно весьма впечатляющ!
14 декабря 1944 г. Нельсон Степанян повел группу ИЛ-ов для нанесения бомбово-штурмового удара по Либавскому (Лиепайскому) порту. Этот порт тогда был единственной артерией, связывающей окруженную вражескую Курляндскую группировку с Германией. Буквально у вражеских целей самолеты Н. Степаняна внезапно были атакованы одновременно 30-ю немецкими «мессершмиттами», и летчики авиаполка были вынуждены принять завязавшийся ожесточенный бой. Прикрывая остальных, командир полка первым храбро бросился в контратаку, но его самолет был подожжен. Герой–арцахец, предпочтя честную смерть в бою позорному плену, перевел свой горящий самолет в отвесное пикирование и врезался в транспорт противника.
Наш прославленный полководец маршал И. Х. Баграмян, бывший командующим 1-м Прибалтийским фронтом, в своей книге «Так шли мы к победе» писал: «...Основной удар наносился по крупному порту г. Лиепая. Здесь пал в своем последнем бою (14.12.1944 г.) легендарный летчик, командир 47-го штурмового авиаполка гвардии подполковник Нельсон Георгиевич Степанян. В последний бой он отправился, когда командованием был представлен к званию дважды Героя Советского Союза... В ходе одной из атак его самолет был подбит, но бесстрашный летчик не свернул назад свою машину и последними усилиями бросил ее на фашистский корабль. Я лично знал этого мужественного человека, и мне было особенно больно услышать о его гибели».
Памятники герою были воздвигнуты на его родине в г. Шуши (разрушен азербайджанцами в 1988 г.) и на месте его последнего подвига - в г. Лиепая, бюст – в Ереване. Его имя носил большой морозильный траулер Рижского тралового флота. К сожалению, власти Латвии после распада СССР потребовали забрать памятник прославленному летчику, грозя в противном случае его разрушением... Памятник Нельсону Степаняну перевезли в трюме большого десантного корабля, и ныне он установлен в Калининграде, как символ бессмертия!
А было время, когда каждый год в годовщину гибели Нельсона Степаняна в Лиепая приезжала армянская делегация и с выходящего в море корабля возлагался на гребень волны траурный венок, звучал троекратный поминальный оружейный салют, скорбно приспускался военно-морской флаг. Такое действительно было во славу героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Михаил Степанян, заместитель председателя патриотической общественной организации «Маршал Баграмян», полковник
-
Последняя работа Артура Тарханяна
24 года назад, в конце апреля, в Чернобыле произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. От последствий аварии на АЭС за эти годы умерли более 18 тыс. человек, более 600 тыс. стали инвалидами.
Армения - одна из первых откликнулась на беду украинского народа. Уже на второй день после аварии в Чернобыль прибыли армянские специалисты. В их числе был и народный архитектор Армении, профессор Артур Тарханян. Эта поездка, как не раз говорили близкие зодчего, стала для Артура Артаваздовича роковой. Уже через год, в 1987 году, он тяжело заболел и уже до конца жизни не смог заниматься творчеством. Для такого блестящего специалиста это оказалось поистине трагедией.
Рассказывает дочь Артура Тарханяна Анаит:
- Начало 1986 года для моего отца было трудным периодом. Он интенсивно работал над проектом реконструкции и восстановления Спортивно-концертного комплекса, частично сгоревшего в 1985 году. Часто выезжал в Москву для координации работ. 28 апреля утром отец в очередной раз выехал туда, а вернувшись, сказал нам, что через день вновь улетает в Москву. Уже много позже мы узнали, что он летел в Чернобыль.
В Москве были собраны лучшие специалисты со всего Союза - архитекторы и строители. Правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии возглавлял заместитель председателя Совета Министров СССР Борис Щербина, человек редкого мужества и стойкости. Он очень дружил с отцом. Вместе с десятью другими специалистами Артур Тарханян выехал на место катастрофы для оценки масштаба разрушения и объема восстановительных работ. По прибытии в Украину специалистам показали фото реактора. Но этого было недостаточно, и отец потребовал, чтобы его отвезли на место аварии. Тогда он и представить не мог, чем может обернуться для его здоровья посещение зоны реактивного заражения. Но каждый в конечном итоге сам решал, ехать ему в район реактора или нет. «Я еду», - твердо решил отец и вместе с Борисом Щербиной вылетел в Чернобыль.
Я очень хорошо помню тот день, когда отец первый раз вернулся из Украины, его грустные глаза и первые слова: «Страшное зрелище. Такое ощущение, что ты находишься на войне».
Через месяц правительство СССР приняло решение о строительстве нового города, Славутича, для постоянного проживания работников Чернобыльской АЭС. И уже в сентябре-декабре того же года были начаты проектные работы. В строительстве города участвовали архитекторы и строители из восьми союзных республик, в том числе и из Армении, что придало застройке каждого градостроительного комплекса национальный колорит. Квартал, который спроектировали армянские архитекторы во главе с Артуром Тарханяном, назвали Ереванским.
Рассказывает Анаит Тарханян:
- Разработкой жилого комплекса занималась мастерская типового проектирования «Армгоспроекта». Были собраны лучшие специалисты Армении, занимавшиеся типовым жилым проектированием, - Левон Хачатрян, Стефан Лазарян, Лилия Саркисян и другие. Кстати, этот проект удостоился Госпремии Украины. В период разработки проекта отец не раз выезжал в Чернобыль и каждый раз возвращался потрясенным масштабом трагедии.
С Борисом Щербиной отец поддерживал отношения до конца его жизни. Особенно они сблизились, когда Борис Евдокимович возглавил правительственную комиссию по ликвидации последствий Спитакского землетрясения.
Все эти стрессы и облучения сыграли роковую роль. Через год, в 1987 году, у папы случился тяжелый инсульт. Благодаря тогдашнему руководству Армении, которое очень ценило отца, его перевезли на лечение в московскую клинику им. Бурденко.
... Жизнь Артуру Тарханяну спасли, но работать он больше не смог. Автору этих строк посчастливилось общаться с этим удивительным человеком. Я видел Артура Артаваздовича грустным, веселым, огорченным, сердитым, но не могу припомнить случая, чтобы он злился, говорил о ком-то недоброжелательно. Он очень переживал, что не может больше творить, но старался этого не показывать. Дочь не раз предлагала ему взять карандаш в руки, на что он с грустью отвечал: «Все, хватит. Больше я работать не могу». Фактически проект застройки Славутича стал последней работой архитектора божией милостью. Его нет с нами уже 4 года, но его работы - аэропорт «Звартноц», Спортивно-концертный комплекс, кинотеатр «Айрарат» и, конечно же, памятник жертвам Геноцида 1915 года в парке Цицернакаберд остаются в числе самых значимых сооружений армянского зодчества советской эпохи.
Тигран Мирзоян
-
Химики на войне
Берсабе Александровна Григорян (1915-2003) - видный государственный, общественный деятель Советской Армении. На протяжении многих лет занимала руководящие посты в республике - первого секретаря Сталинского райкома партии, секретаря ЦК КП Армении, заместителя председателя Госплана Арм. ССР, председателя Армянского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (АОКС), заместителя министра местной промышленности. Ниже - небольшой отрывок из ее воспоминаний, рассказывающий о работе химической промышленности Армении в годы Великой Отечественной войны.
Записки организатора производства
Когда началась Великая Отечественная война, я работала в ЦК Компартии Армении заведующей отделом химической промышленности.
В конце 1941 года ЦК Компартии Азербайджана обратился к нам с просьбой организовать у нас производство жидкого хлора. Заводы по производству жидкого хлора в России были разбомблены, и в соответствии с приказом Комитета обороны СССР необходимо было срочно организовать производство жидкого хлора в Ереване. Проектирование цеха на заводе синтетического каучука им. Кирова было поручено институту «Армгоспроект». Я взяла на себя организацию набора специалистов. В частности, из военчасти Ленинакана был отозван талантливый химик-технолог Арцрун Гаспарян, из Кироваканского химкомбината пригласили известного химика Эдгара Казаряна. Вскоре цех заработал, и жидкий хлор в специальных тарах начал направляться в Азербайджан, где с его помощью из нефтяной смеси выделяли йод, который посылался на фронт.
В 1942 г. на Ереванском механическом заводе было организовано производство корпусов гранат, а взрывчатое вещество получали на заводе им. Кирова. Этими работами руководил инженер Цукерман. Испытательные работы проводились под контролем секретаря ЦК Компартии Армении по химической промышленности Сочинского и представителя Комитета обороны СССР полковника Алексаняна. Производство гранат было организовано и на Кироваканском химкомбинате. Фронт начал получать наши гранаты.
Из Москвы в Ереван приехал академик Исагулов, с которым я была знакома. При встрече в ЦК партии я обратилась к нему с просьбой помочь организовать в Ереване производство сухого спирта. В результате усилиями известных химиков был получен сухой спирт в виде таблеток, который в специальных упаковках отправлялся в полевые госпитали.
В том же 1942 г. из Комитета обороны была получена телеграмма: требовалось отправить в военчасти карбид кальция, необходимый для ремонта поврежденных танков. На телеграмме - виза секретаря ЦК: «В отдел химпромышленности – Б. Григорян. В течение двух дней организовать и отправить на фронт состав с карбидом кальция и доложить». Между тем выяснилось, что на заводе нет жести для изготовления тары. Мы с секретарем парткома завода Рухикяном решили за ночь разобрать жестяную крышу склада карбида и изготовить тару. Задание было выполнено вовремя, и состав с карбидом кальция направился на фронт.
В начале 1942 г. на Кироваканский химкомбинат приехал заместитель председателя Комитета обороны СССР. Он изучал возможности производства боеприпасов в Закавказье. В его докладной было отмечено, что в Армении возможно наладить изготовление мин, гранат, авиабомб и пр.
В 1943 г. Комитет обороны потребовал выяснить возможность получения специального клея на ереванском заводе им. Кирова. Для получения такого клея высокого качества необходимо было составить проект и технологию производства. Для исполнения такого важного задания из Москвы были приглашены авторы создания синтетического каучука Долгопольский и Клебанский, с которыми я была знакома еще со времен моей командировки на Ленинградский химзавод. Специальной группе «Армгоспроекта» вместе с прибывшими профессорами было поручено проектирование цеха и разработка технологии получения клея. В течение месяца усилиями руководства и рабочего коллектива «Каучукстроя» был запущен цех по производству клея «Карбинол», и клей был отправлен заказчику. Он был необходим для покрытия внешней поверхности подводных лодок.
В годы Отечественной войны Кироваканский комбинат посылал на фронт и баллоны с кислородом, который был необходим для сварки и разрезания металла. Из разных городов Союза и войсковых частей приходили телеграммы, в Кировакан прибывали представители фронтов - всем необходим был карбид кальция и под большим давлением наполненные кислородом баллоны.
Для продукции одного из цехов требовалась специальная тара. Для ее изготовления использовались бочки из-под различных жидкостей, собранные со всего Закавказья, с последующей обработкой.
Для выпуска качественных танков необходима была сталь очень высокого качества. Комитет обороны поручил Кироваканскому химкомбинату наладить производство ферросилициума. На помощь кироваканцам приехала группа специалистов из Зестафони. Вопрос также обсуждался на заседании ЦК партии Армении. И это задание было вовремя выполнено.
В годы войны химики Кироваканского химкомбината, как и вся промышленность Армении, работали в невероятно тяжелых условиях, однако благодаря огромным усилиям неизменно качественно и в срок выполняли все задания правительства и Комитета обороны, за что не раз удостаивались высоких наград.
Здесь я упомянула лишь о нескольких эпизодах военных лет, а таких эпизодов было огромное множество, ибо вклад Армении и Победу был значителен. И мы горды этим.
Берсабе Григорян
"Голос Армении"
-
«В мирное время войну называют борьбой»
В нынешнем году исполнилось 100 лет со дня рождения и 45 лет со дня смерти патриарха армянской литературы Рачия Кочара
2010 год - это 65-летие Великой Победы над фашистской Германией и 95-летие Геноцида армян. И эти даты неразрывно связаны с жизнью и деятельностью Рачия Кочара. Сам он прожил всего 55 лет. Но остались его удивительные, пронзительные по силе воздействия произведения, яркая публицистика. Он прошагал корреспондентом военной газеты тысячи километров фронтовых дорог, и пережитое рождало строки о друзьях боевых. Но память сердца хранила и иную, неизбывную боль по погибшим в результате трагической участи, выпавшей на долю родного народа. О ней «Белая книга»...
Р. Кочар родился 2 февраля 1910 года в маленькой деревушке у подножия горы Нпат Алашкертского уезда в Западной Армении. Спасаясь от турецкого ятагана, семья бежала в Восточную Армению. В 5-летнем возрасте он потерял мать, а когда ему исполнилось всего 8, потерял отца, который воевал с турками в горах и был известен как атаман Кочо (Кочар Габриелян). Он воевал в отряде генерала Андраника, освобождал армянские территории от турецких поселенцев и населял их армянскими семьями. По словам очевидцев-старожилов, атаман Кочо основал деревни Тегеник и Карашамб современного Котайкского района.
Рачия с братом и сестрами жил в семье дяди в селе Кяримарх (ныне Нор Алашкерт Армавирского района). Тяжелое было детство, но уже в раннем возрасте проявились его недюжинные способности и тяга к знаниям. Учеба в школе райцентра, рабфак в Ереване, первые опыты на литературном поприще. Одновременно, чтобы прокормиться, работал уборщиком, курьером, трудился на масложиркомбинате, в шахтах Алаверди...
Зловещее известие о начале войны Кочар услышал в Музее литературы, где изучал наследие великого армянского просветителя Хачатура Абовяна. По словам Р. Кочара, тогда «перед глазами явились «гамидиевцы» со своими кривыми саблями, искаженные от ужаса лица родных и близких». Прямо из музея он отправился в военкомат, а утром 23 июня 1941-го добровольцем поехал на фронт. Р. Кочар - единственный армянский писатель, ставший добровольцем.
Редкие часы отдыха после тяжелых боев Кочар использовал для написания очерков и писем в газеты. Будучи корреспондентом газеты «Советакан Айастан», Кочар издавал на фронте газету «Суворовец», она переводилась на языки народов Союза и раздавалась бойцам на разных фронтах.
В своих воспоминаниях Сильва Капутикян писала: «Страстные, гневные боевые статьи военного корреспондента, пахнущие порохом и кровью, систематически появлялись на страницах журналов и газет. Их запоем читали, как долгожданные письма с фронта от близкого человека. В те тревожные дни очерки Кочара, полные мужества и жизнелюбия, вселяли в людей веру в грядущую победу».
Суровые дни фронтовой жизни писателя-воина прошли под Харьковом и Волчанском, на Полтавщине, в городах Коломск и Валки, он участвовал в боях за Белгород, Курск, воевал в Новом Осколе и далее в Сталинграде. За отвагу и смелость в сражении за Сталинград Рачия Кочар был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1944 году с разведчиками 51-й гвардейской дивизии Кочар первым вошел в латвийский город Резекне. Он вспоминал: «В день капитуляции врага я находился в одном из наших передовых полков возле города Приекуле, чтобы посмотреть на капитуляцию «курляндской группы» врага. Далее прошел в Восточную Пруссию, был в Кенигсберге, где перед цитаделью на правой щеке бронзовой статуи Вильгельма, как звонкая пощечина, зиял след от осколка нашей артиллерии».
В конце лета, после победы, Кочара пригласил к себе домой в Риге маршал Баграмян (в ту пору генерал). Несколько вечеров подряд Иван Христофорович рассказывал Кочару эпизоды из своей жизни. Однажды супруга Баграмяна упомянула о письме, полученном из США от американской армянки по фамилии Баграмян. Она, потерявшая во время армянских погромов в Турции родных, интересовалась, не является ли генерал Баграмян ее братом. Письмо было коротеньким и малограмотным и не произвело на Кочара особого впечатления. Через несколько месяцев, когда Кочар был в Москве, ему позвонил Вадим Кожевников, в ту пору редактор газеты «Правда», с предложением написать статью к 25-летию Советской Армении. И тут Кочару вспомнилось письмо армянки. В тот же вечер Кочар написал публицистический рассказ «Сестра генерала» и сам перевел его на русский язык. Отклик он вызвал небывалый.
Вот что писала по этому поводу Мариетта Шагинян: «Помню одно раннее утро в Москве. На нашу квартиру обрушился град телефонных звонков. Звонили знакомые и незнакомые, и все начинали со слов: «Читали? Читали в «Правде»? «Это было утром, когда в «Правде» появился высокоэмоциональный и в то же время бесхитростно-простой рассказ Р. Кочара «Сестра генерала». Все, кто читал его, вытирали слезы. Когда в нашей семье прочитали его, мы заплакали. Рассказ был пронизан тем братским, простым, кровным ощущением армянки к другому армянину, какое рождается у сынов единого, много вытерпевшего на своем веку, малого по числу своему народа, сумевшего пронести сквозь тысячелетия и свою культуру, и лучшие черты своего характера».
На фронте Рачия Кочар познакомился и подружился со многими военкорами. Все они впоследствии стали известными и почитаемыми литераторами страны. В их числе были Яков Хелемский, Константин Симонов, Борис Полевой. Рачия Кочар поражал своих друзей по перу и оружию знаниями русской, мировой и армянской литературы. Все увиденное и пережитое на войне Р. Кочар отобразил в своем 2-томном эпическом романе «Дети большого дома». Роман издавался на многих языках. На русский этот роман был переведен прекрасным русским писателем Василием Гроссманом, который три месяца гостил у Кочара в Ереване. Став большим другом Армении, В. Гроссман свое восхищение выразил в повести «Добро вам».
Послевоенные годы Р. Кочара отмечены активной деятельностью. Его гневные выступления по поводу обмеления Севана, восстановления исторических прав запрещенного в те годы полководца Андраника, публикации произведений писателя и драматурга Левона Шанта, пересмотра исторических искажений в вопросе Геноцида армян в советской историографии неизменно вызывали отклик народа и неприятие руководящих чиновников. Как журналист, публицист и гражданин, Р. Кочар в своих устных и письменных выступлениях поднимал вопросы, волновавшие всех, однако не все имели мужество высказываться.
Рачия Кочар был первым советским армянским писателем, который по приглашению арабских писателей посетил Ближний Восток. Приезд Р. Кочара всколыхнул армянские диаспоры Ливана, Ирака и Сирии. В течение 10 дней он выступал в клубах и школах перед многотысячной аудиторией армян и арабов. У него было немало встреч с писателями и журналистами. Один из иностранных корреспондентов с удивлением написал в своем отчете, что господин Р. Кочар выступил 36 раз и ни разу не повторил ни одной фразы...
Рачия Кочар был инициатором возведения памятника жертвам Геноцида армян, Мемориального комплекса в Сардарапате, памятника Гаю... Такая активная деятельность не прошла даром: завистники и недоброжелатели «постарались», и сердце Кочара не выдержало. Три инфаркта сломили его, человека, который казался неуязвимым, сильным, веселым, как былинный герой. Четвертый удар стал роковым, и Кочар ушел из жизни, оставив незавершенными свои планы и замыслы. Все биографы Рачия Кочара отмечали, что он унес с собой большое творческое будущее армянской литературы. Но в течение своей короткой жизни Рачия Кочар совершил так много, принес столько добра своему народу, что, казалось, человек прожил не одну, а десять жизней.
Но главное он все-таки успел: написал свою «лебединую песню» - сборник «Белая книга», куда вошли самые волнующие произведения армянской литературы последних десятилетий, - «Наапет», «Тоска», «На мосту Евфрата», цикл «Родная речь», «Белая книга» и др. Повесть «Наапет» впервые в советской армянской литературе удостоилась Государственной премии республики. К сожалению, Р. Кочар не увидел экранизации золотых страниц «Наапета» и «Тоски», которые стали значительным достижением армянского киноискусства. При его жизни был экранизирован сценарий «Северная радуга», над которым он вместе с режиссером Арто Ай-Артяном работал долго и кропотливо. И получилась неординарная картина, запечатлевшая братскую дружбу с Россией и незабываемый светлый образ А. Грибоедова.
...Р. Кочар ушел из жизни 2 мая 1965 года на своей даче, получив сердечный последний удар, узнав о беспорядках в Ереване 24 апреля.
В заключение хотелось бы привести строки из письма Рачия Кочара к дочери Нвард (Нуник, как он ее тепло называл), тогда еще школьнице: «Находясь далеко от вас... я скучаю и грущу. Вы не замечаете, но я очень часто грущу. Мне грустно, потому что рядом с красотой и прекрасным в жизни вижу много уродливого и нечестного. Я противник и враг всего плохого. Всегда воевал со злом, воевал оружием, словом, пером. Часто побеждал и иногда проигрывал, получал раны, выздоравливал и опять возвращался в ряды бойцов. Ты думаешь, я сейчас не воюю? Думаешь, что в мирное время люди не воюют? Воюют. Только в мирное время войну называют борьбой...»
Ида Карапетян
-
Мясник на стратегическом перекрестке
Для начала надо разблокировать турецкую память
По распоряжению российского президента Дмитрия Медведева на официальном сайте Федерального архивного агентства (Росархив) впервые размещены подлинники документов о Катынском расстреле. Наверное, нелишне отметить, что еще в период перестройки большинство обнародованных ныне документов уже были рассекречены, а несколько позже размещены на разных сайтах (например, на сайте «Катынь» они выложены в 2005 году).
Известное дело, «широкая общественность» весьма подвержена политической моде, посему ранее особого интереса к трагедии не проявляла, пока не рухнул польский борт номер один. И вот пошло-поехало… После президентского заявления и обнародования материалов интернет-ресурс просто не выдержал наплыва посетителей и «обрушился». Так по крайней мере объяснили сотрудники архива уход официального сайта в офлайн. Впрочем, не об этом…
Представим теперь, что президент России вдруг выступит с заявлением, что никакой трагедии на самом деле не было и все это происки польских националистических кругов. Представим теперь, что выступать с подобным заявлениям будет он почти ежедневно по поводу и без, а вместе с ним ту же мысль начнут по нескольку раз на дню тиражировать и премьер-министр Путин, и глава внешнеполитического ведомства Лавров, и руководители коалиционных фракций, и депутаты с министрами. Нетрудно представить масштаб международного резонанса, вызванного такой позицией: сначала русских освистают ляхи, потом все главные демократические телеканалы и газеты, потом свое авторитетное мнение выскажут главы влиятельных государств с непременным указанием на то, что «каждое уважающее себя демократическое государство должно найти в себе силы посмотреть правде в глаза и избавиться от груза прошлого». Будут, конечно, высказывания и пожестче...
А теперь представим, что российский президент, а вместе с ним, конечно, и премьер-министр, и глава внешнеполитического ведомства, и руководители коалиционных фракций, и депутаты с министрами посылают это совокупное «международное мнение» к черту, например, недвусмысленно намекают на трубу, а самый откровенный Жириновский прямо говорит, мол, чья бы корова мычала, мы избавили мир от нацистов, а будете продолжать, перекроем газ. При таком развитии событий пыл многих, очевидно, остыл бы, излишняя эмоциональность уступила бы место прагматизму, хотя общее мнение «по русским» не изменилось бы. Шляхта обвинила бы всю планету в двойных стандартах, сказала, что нет в мире справедливости, и пригвоздила бы к позорному столбу нынешних творцов демократии.
Такой сценарий кажется из области ирреального. И тем не менее подобный сюжет не фантастика: именно такую позицию занимает Турция в отношении своего прошлого. Параллель хромая, хотя бы потому, что, в отличие от Советского Союза, избавившего мир от нацизма, Турция сама взрастила расизм и никого от своего же непосильного гнета никогда не избавляла. Она лишала народы права обживать родину, миллионами и сотнями тысяч умерщвляла армян, ассирийцев, греков, арабов, езидов... однако преступления своего признавать не собирается.
Самая существенная разница тут, конечно же, цивилизационная. Чтобы иметь смелость оглянуться в свое прошлое и признать собственные грехи, надо быть свободным, чтобы быть свободным, надо иметь тыл, а для того чтобы иметь тыл, необходимо взрастить Пушкина и Чехова, Гете и Шиллера - именно такие имена, а не «международное общественное мнение» побеждают тоталитаризм, вскрывают его преходящую сущность в сравнении с вечными ценностями. Какие же у Турции вечные ценности?
Главный герой турецкой истории – это не поэт с гусиным пером, а янычар с ятаганом в руках. Мясник, который каждый раз напоминает о своем существовании, если вдруг кто-то ненароком попытается оглянуться назад. На улице ли, в кабинете его разрубают, а потом по абзацам, частями выносят на прилавок собственной истории - спрос рождает предложение. В самом лучшем случае вручают билет в один конец. Никакого другого тыла, кроме «мясника на стратегически важном перекрестке», у Турции не было и нет. Причем перекресток этот образовался на костях - чем глубже залегают кости, тем выше конкурентоспособность страны.
В начале апреля мировые издания представили фотографию Владимира Путина, преклонившего голову у мемориала Катынского расстрела. В декабре 1970 года мир облетел снимок коленопреклоненного канцлера Вилли Брандта перед мемориалом в бывшем варшавском гетто. Вот когда Абдулла Гюль или кто-то из его преемников опустится на колени в Цицернакаберде, тогда и можно будет говорить о возможности появления у Турции (конечно, в самом неопределенном будущем) своего Пушкина или Гете. Так что это нужно им самим, к Ереванскому мемориалу жертв тропа не зарастет.
Не то Эйафьяллайокулль, не то Эйяфьятлайокудль… Конечно, название исландского вулкана легче написать, нежели озвучить, впрочем, дело не в нем. Представим себе, что этот не то Эйафьяллайокулль, не то Эйяфьятлайокудль продолжает свое неистовство, где-то из подземелья получает второе дыхание и вновь начинает извергать колоссальные объемы сернистого покрывала Европы. Что станется с законопослушным среднестатистическим европейцем, с этим добропорядочным стяжателем, которому ужасно осточертели лучшие залы ожидания и казенные бутерброды? У него наступит коллапс сознания.
Армения двадцать лет живет на вулкане. Это не только блокада путей сообщения, недельный отрезок, которой вверг в такой ужас цивилизованный мир. В первую очередь это соседство с двумя больными государствами, которые неспособны смотреть в прошлое, почему и блокируют не только наши коммуникации, но и свою память.
Поразительно, однако, с каким цинизмом международные посредники рассчитывали на установление армяно-турецких дипломатических отношений. Безо всякой попытки даже не то чтобы осудить - хотя бы высказать позицию по блокаде... как будто ее не было и нет. И мы тоже хороши…
В 1949 году Конрад Аденауэр стал канцлером Германии. Семидесятитрехлетний политик первым делом официально озвучил разрыв Германии с национал-социалистическим прошлым и признал вину за Холокост. Провел встречи с генеральным директором Министерства финансов Израиля Давидом Горовицем и председателем Всемирного еврейского конгресса Нахумом Гольдманом, согласился выплатить репарации за преступления Холокоста. Причем речь шла о сумме, составляющей больше половины всех субсидий, которые Западная Германия получила по «плану Маршалла». Тем не менее, об установлении дипломатических отношений речи тогда не было. В 1952 году в Люксембурге было подписано первое соглашение о выплате еврейским беженцам германской финансовой помощи на устройство жизни уже в Израиле. Но и тогда с установлением дипломатических отношений евреи особо не спешили.
Дипломатические отношения между ФРГ и Израилем были установлены лишь в 1965 году, заметим - на шестнадцатом году немецких усилий по сглаживанию вины за содеянное (в нашем же случае белозубые посредники определили срок в «два ратификационных месяца» - издевательство!). Отношение же к канцлеру Аденауэру евреи высказали в 1967 году, когда усопшего политика в последний путь провожал и основатель государства Израиль Бен-Гурион (опять напрашиваются «наши аналогии»: как только стало известно о кончине турецкого президента Озала, наш первый тут же вылетел в Стамбул).
Таким образом, ратующему за установление двусторонних отношений сообществу для начала нужно лечить Турцию, попытаться разблокировать ее память. Как только это произойдет, деблокируется и все остальное.
-
Армянский фактор
Более полумиллиона наших соотечественников сражались на фронтах. 108 стали Героями Советского Союза, 27 — полными кавалерами солдатского ордена Славы. В состав Советской армии входили 6 полностью армянских дивизий и 7 таких же соединений, укомплектованных в значительной степени армянами. Более 70 человек стали генералами. А имена маршала Ивана Баграмяна, адмирала Ивана Исакова, маршала авиации Арменака Ханферянца (Сергей Худяков), главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, генерал-полковника Михаила Парсегова известны во всем мире. Конструкторы Артем Микоян, Амо Елян обеспечивали армию лучшими самолетами и орудиями...
Победа досталась дорогой ценой, потому была необыкновенно сладка и радостна. Казалось, все ужасы и горести прошли навсегда. Но, увы... Страна долго никак не могла оправиться, пошла новая волна репрессий. Так, в 1945-м был арестован и через пять лет расстрелян героический маршал авиации Арменак Ханферянц. За что? В хрущевскую эпоху были подвергнуты крутой опале сам маршал Жуков, другие крупные военачальники.
Великий вождь и учитель был разочарован результатами Победы: он рассчитывал на большее... Европа быстро зализала раны, сносной жизни удалось достичь уже через пару лет. Даже в Федеративной Германии. СССР, увы, безнадежно отстал.
Предлагаем подборку из недавно открытых архивных документов, а также ряд других фрагментов о великом пути к Победе, которая одна на всех...
Всесоюзную победу ковали шесть доблестных армянских национальных дивизий: 76-я, 390-я, 408-я, 409-я, 89-я, 261-я. 89-я дивизия оказалась на одном из самых кровавых участков войны.
В декабре 1941 г. в Ереване была сформирована 89-я стрелковая дивизия; ее командиром был назначен полковник Симон Закиян. В августе 1942 г. эта дивизия была направлена на фронт и прошла боевой путь от предгорьев Кавказа до Берлина.
В августе 1943 г. 89-я дивизия вела штурм неприступной гитлеровской "Голубой линии". После ее разгрома важнейшим узлом обороны противника на Таманском полуострове были Ахтанизовский, Бугазский, Кизылташский лиманы. Над этими полуболотистыми местностями господствовала 164-я высота. Маршал С. Тимошенко, наблюдавший упорство и храбрость воинов 89-й дивизии, после освобождения Тамани лично прибыл к бойцам, чтобы поблагодарить и наградить их. Приказом Верховного Главнокомандующего от 9 октября 1943 г. 89-й армянской горно-стрелковой дивизии было присвоено звание Таманской. В последующем это подразделение принимало участие в освобождении Крыма и с боями дошло до Берлина.
Около 2 тысяч бойцов и командиров дивизии были награждены боевыми наградами. Командиру дивизии Нверу Сафаряну было присвоено звание генерал-майора. Впоследствии Таманская дивизия участвовала в освобождении Керчи и Севастополя, за что ее наградили орденом Красного Знамени и Красной Звезды.
Осенью 1941 г. сформировали 408-ю стрелковую дивизию, части которой были расквартированы в разных районах Армении. Вскоре она пополнилась воинами-армянами и стала армянской дивизией. Командиром ее был назначен полковник П.Кицук. Дивизия приняла участие в тяжелых боях под Новороссийском и Туапсе.
390-я армянская дивизия была сформирована в начале 1942 г. на фронте, в боевой обстановке, на Керченском полуострове. Командиром дивизии был назначен полковник Симон Закиян, ранее командовавший 89-й дивизией.
Вместе с другими частями дивизия вступила в тяжелые бои с противником, стремившимся захватить Керченский полуостров. На протяжении пяти месяцев — до мая 1942 г. — дивизия вела изнурительные бои против превосходящих сил противника. Воины-армяне несли большие потери, но оказывали противнику героическое сопротивление. В бою погибли командир дивизии С. Закиян, многие командиры и бойцы. В мае противнику удалось занять Керчь. После этого 390-я армянская дивизия была расформирована. Многие ее воины были переброшены в Севастополь и приняли активное участие в его обороне.
* * *
...Более 80 тысяч армян бились против фашизма в армиях союзников, в партизанских отрядах и в рядах Сопротивления. По сей день в Греции помнят Андраника Гукасяна, погибшего в неравном бою под Дерзута. Вспоминают греки и Ерванда Гукасяна, Сильвестро Калеяна, Аветиса Ярджяна, Марата Тертеряна. В Италии Мкртич Даштоян и Геворк Колозян навечно остались в числе самых достойных героев. Во Франции действовал Национальный армянский фронт Сопротивления. Имена Мисака Манушяна, Ншана Тер-Мартиросяна, Гайка Дпиряна, Арсена Чакряна, Арутюна Гараяна известны не только французам. А Первый Армянский партизанский полк Александра Казаряна и Бартуха Петросяна освобождал от фашистов города Ним и Ла Калмет. В Болгарии сражались Акоп Паронян и Эрмине Разградлян, которой едва исполнилось 17 лет. Рука об руку с югославами сражались на "чужой" родине Аракел Саакян, Цолак Африкян, Паргев Акопян. В горах далекой Эфиопии погиб Бабкен Сеферян. Только в армии США более двух десятков тысяч армян участвовали в боях. Прославились генералы Саркис Зардарян, Гайк Шекеджян, Ерванд Дервишян, майор Керк Кркорян и многие другие. Генералы Арам Караманукян и Григор Индоян немало сделали для создания сирийской армии. Не отставали от мужчин и женщины — Роз Гулбанкян, Клара Апигян, Чейл Сю Сарафян...
* * *
Несколько красноречивых цифр свидетельствуют, какой дорогой ценой была добыта Победа.
5 177 410 советских военнослужащих убиты, 1 100 327 человек умерли от ран, небоевые безвозвратные потери составили 540 580 человек, пропали без вести, попали в плен, а также неучтенные потери — 4 454 709 человек. Среди гражданского населения страны погибли 13,7 млн человек. Общие материальные потери СССР составили 2569 млрд долларов (30% всех национальных богатств); затраты на военные расходы — более 193 млрд долларов...
Армянский флаг над Казанчецоц
...В два часа тридцать минут ночи с седьмого на восьмое мая 1992 года Аркадий Тер-Тадевосян, прозванный в народе Командосом, отдал приказ о начале уникальной операции. Она разрабатывалась на протяжении долгих недель. Иные побаивались, что, мол, некоторые газеты опубликовали схемы, чертежи, карты операции Шуши. Не надо беспокоиться, что противнику будут выданы секреты. Нет оснований для беспокойства. Я день и ночь находился рядом с Командосом. Накануне вместе с генералом Далибалтаяном обходил командные пункты всех направлений. И скажу, что речь действительно идет не о чертежах или статистических данных. Речь идет о чистой воды философии.
Командный пункт. Пологая сопка. Говоря морским языком: прямо по носу — Шуши, слева за лесистыми горами — Лисогор. Справа — Джанасан. Мы в Т-образной траншее. Кроме всего прочего у нас есть бинокли. Рядом с траншеей за выступом установлен перископ. Позади в неглубоком овраге — КШМ (командно-штабная машина с радиостанциями). Об остальном — пока помолчим. Были детали, которые могли бы заинтересовать самого маршала Баграмяна.
Я делал записи. Чаще всего командующий запрашивал по рации "Валеру" (Валерий Балаян): "Валера, я Тринадцатый, отвечай!" Или просил начальника связи регулярно вызывать "Валеру". "Валера" — одно из наиболее сложных направлений. Но тот молчал. Это обстоятельство удручало командующего, ибо от решения задач, связанных с Валериным направлением, зависел успех операции.
К утру "Валера" отозвался. Выяснилось, что общению мешал тот самый снегопад, который стоил немалых дипломатических хлопот президенту Армении в Иране. Высота большая. Значит, снег глубокий. Для сведения скажу: каждые сто метров вверх — это минус один градус. Например, разница между температурой на берегу моря и на вершине находящегося рядом тысячеметрового холма — десять градусов. А тут, где шли бои за взятие Шуши, высота выше двух тысяч метров.
На рассвете Командос долго вызывал на связь "Аго" (Аркадий Карапетян). Наконец Аго откликнулся.
— Где ты? — нервно спросил Командос.
— Я с ребятами под Шуши, — ответил Аго.
— Зачем ты мне... (дальше слова, которые с армянского не имеют идентичного перевода), ты нужен мне не под Шуши, ты в Шуши мне нужен.
Забегая вперед, скажу, что через пару часов Аго вошел в Шуши и тотчас же доложил об этом.
Разговоры о том, что азербайджанцы предали и сдали Шуши, что армяне применяли оружие, вызывающее страх, и прочее — разговоры в пользу бедных. Об этом, убежден, лучше всех знают шушинцы, на глазах которых на протяжении длительного времени уничтожались Степанакерт и вся округа.
При первых лучах начинающегося дня, восьмого мая — в перископ было хорошо видно, — колонны техники змеей отползали от подножия скалы с телевышкой. Знают ли те, кто тотчас по взятии Шуши поднял антиармянский истерический вой, что была стопроцентная возможность обстрелять эту колонну и, образовав воронку, перебить всю живую силу. Другой-то дороги не было. Дорога на Лачин отходила от Шуши уже внизу. Дали шанс выбраться всем. Об этом знают и живые, и мертвые. Добавим, что нетрудно было перекрыть за Шуши единственную трассу. Опять же была бы бойня. Но хотелось избежать большой крови с обеих сторон. И ее не было.
Когда рассвело, я долго рассматривал в бинокль гордый силуэт Казанчецоца. Это самый большой армянский храм на всем Армянском нагорье. Я знал, что он битком набит снарядами.
В блокноте я сделал его набросок. Купола уже не было.
На подступах к Шуши горели свои и вражеские танки, БТРы, БМП, Легковые и грузовые машины, автобусы. От прямого попадания снаряда взорвался армянский танк. Башню со стволом выбросило в сторону, а тела двух танкистов подняло в воздух. Словно они катапультировались. О героическом экипаже танка я еще расскажу позже.
Все это происходило на наших глазах. Среди разнородных шумов доминировал голос начальника связи армии Артура Папазяна. Казалось, слышишь страстного комментатора спортивных состязаний. Увы! Здесь шла жестокая война и погибали люди.
...К вечеру Командос, который в шутку и всерьез называл меня комиссаром, попросил, чтобы я срочно отправился в город и передал Сержику (министру обороны НКР Сержу Саркисяну) то, что нужно. Я поехал в город одетым в зимний камуфляж, не подумав о том, что в таком виде меня можно принять за пижона. Уж чего я боюсь в жизни — даже невзначай походить на пижона. Я ведь, презрев кокетство, прекрасно сознаю, что все наши жители знают меня в лицо. И знают, что я человек сугубо штатский. Не станешь же объяснять каждому, что накануне ты взял у министра внутренних дел Арцаха А. Исагулова его форму с зимним бушлатом потому, что ночь на командном пункте придется проводить под открытым небом. На меня действительно обращали внимание, когда я вылез из машины и направился к зданию, где находился Серж Саркисян.
Карабахское подполье нельзя представить без Сержа. И позже я напишу о нем. Пока лишь скажу, что родился он в Арцахе, живет в Арцахе, семья его — в Арцахе.
Этот невысокого роста парень в очках (так назовем, чтобы подчеркнуть нашу разницу в возрастах) всерьез озабочен одним — проблемами боеспособности нашей молодой армянской армии. Скажу лучше словами Командоса: "Сейчас полегчало. Серж приехал. На душе стало спокойнее". Аркадию Тер-Тадевосяну не откажешь в объективности.
Перед рассветом следующего дня, 9 мая, я в последний раз с нашей командной сопки бросил взгляд на подавленную и поверженную огневую точку Шуши. Оттуда еще доносились выстрелы. Горели дома, подожженные азербайджанскими омоновцами. Глядя с нашей сопки на Шуши, я думал о том, как он горел в 1920 году. Родной до боли город в том году, словно живой человек, истекал кровью. Надо бы всем напомнить библейское предупреждение: "Кто прольет кровь человеческую, того прольется кровь рукою человека". Через мгновение, через год, а то и через сто лет придет к убийцам не месть, а воздаяние. С этими мыслями на рассвете я отправился в Шуши.
С группой бойцов мы поднялись по брусчатым улицам к храму Казанчецоц. Кто-то из ребят достал из рюкзака армянский красно-сине-оранжевый флаг. Подобрал по дороге палку и прикрепил к нему яркое полотнище. За поворотом неожиданно перед нами вырос храм.
Трудно передать, какое мы испытали волнение. Шесть или семь лет кряду я ездил сюда, когда шла реставрация храма. Под косыми взглядами азеров работала группа реставраторов, руководимая инженером-строителем Ромой Ерицяном. Это ему и Володе Бабаяну, их упорству мы обязаны тем, что храм выстоял. Всех руководителей в Ереване мы подняли тогда на ноги. Многое успели сделать. Заменили разбитые и украденные камни. Восстанавливали по науке. Успели сварить остов разрушенного купола. Укрепили несущие конструкции. Так получилось, что в процессе реставрации камни стали моими добрыми знакомыми. А сам храм — частицей моей души.
Все эти годы я думал о храме как о родном человеке. И вот он предстал передо мной в своем одушевленном, очеловеченном облике. Израненный, закопченный, с подтеками от дождя и снега, словно истекающий кровью. Поцеловав камень у входа, я вошел в храм и замер. От пола до потолка аккуратно уложены зеленые ящики. Теперь я понял, почему азеры говорили, что храм превращен в арсенал. Знали, что мы по храму стрелять не будем.
Парни подняли над армянским храмом армянский флаг.
Вокруг храма валялись длинные ящики от ракет "Град". Гора. Я стал считать ящики по придуманной тут же системе. Частями. Потом умножал на высоту, на ширину. Вышло около двух тысяч единиц. Бедный Степанакерт. Все это падало на голову моего города. И еще сколько должно было упасть. И сколько мы должны были бы бросить на Шуши. Выходит, что подавление огневой точки нужно было обоим народам.
К полудню 9 мая 1992 года нарастал наплыв людей, желавших увидеть Шуши собственными глазами. Вместе с епископом Паргевом и телеоператором Шаваршем Варданяном решили в первые же часы совершить путешествие по вырвавшемуся из плена Шуши. Шаварш снимал. Я комментировал. Мы шли по маю 1992 года, и нас не оставляло ощущение того, что камни Орлиного гнезда (Шуши) хранили следы ног князя Сахла Смбатяна (IX век), Асана Джалаляна (XIII век), Мелика Шахназаряна и полководца Авана (XVII-XVIII).
...Выстрелы из автомата. То салютовали победители. Пожары делали свое дело. Горели арсеналы в частных домах, в милицейском подвале — всюду. И раздавались выстрелы из огня. Неожиданно начальник штаба встал посреди улицы, смачно матюкнулся и громко сказал, пытаясь заглушить перезвон и перекличку перестрелки: "Это еще не победа, что вы делаете? Это еще не победа".
Я понимал, что речь не только о том, что будет нелегко пройти с боями через Заставу, Заросла, Лисогор, Лачин, Забух к Горису, чтобы открыть живительный коридор. Я понимал, что речь идет о Победе. Я никогда не забуду этот истерический выкрик Феликса — начальника штаба.
Взятие Шуши и я не считал окончательной победой. Скорее — аргументом самоуважения. Впервые за последние 250 лет в Шуши нет и намека на конфликт. Но это не значит, что мы должны забыть историю. Первое, что было предпринято: удержать людей, переживших "Сумгаит", "Баку" и многое другое, от неправедных чувств мести и злобы. Сберечь мусульманскую мечеть, построенную в начале нынешнего века персами.
Не исключаю (скорее, уверен), что нам предстоит пережить еще много тяжелого. Будут дни трагические, будут хаос и паника, новые потери земли. Но в любом случае Шуши — это событие в истории войны.
Шуши мы брали умением. Сам слышал в одной передаче, что на Шуши напали одиннадцать тысяч армян. Чего только не выдумывали, чтобы оправдать себя. Приводили фантастические статистические данные боя, рассказывали небылицы. Все было намного проще. Народ воевал за свою землю и чувствовал спину Армении. Когда-нибудь люди узнают о деталях разработанной операции и поразятся, как хитро была она задумана и реализована молодыми парнями, имена которых я могу здесь перечислить. Может, в другой, специальной книге постараюсь рассказать о героях, воевавших на всех направлениях. И еще я надеюсь, что мои коллеги-писатели непременно "разговорят" Аркадия Тер-Тадевосяна, Сержа Саркисяна, Аркадия Карапетяна, Самвела Бабаяна и других. И мир многое узнает о Шуши, Арцахе и их славных сынах.
Зорий Балаян
-
"Ты проводила на войну сыновей..."

Семью плотника Степана Гюлумяна из деревни Гетик Великая Отечественная война обожгла крепко: из шестерых сыновей, ушедших на войну, вернулся один. Горе подкосило отца, но он нашел в себе силы, чтобы вырастить еще одного сына и троих дочерей. А вот материнское сердце жены его, Такуи, как он ее ни жалел, скрывая похоронки, не выдержало.
Деревню Гетик основали бывшие арцвашенцы, которые в 20-х годах переселились на новую территорию. 130 домов жили одной семьей. Отцов, мужей, сыновей провожали на войну все вместе, все вместе встречали победителей и оплакивали погибших. Ушло почти все мужское население деревни, погибли 52 человека, вернулись единицы.
Сыновья Степана Гюлумяна оказались на фронте в первые дни войны. Старший сын Петрос пропал без вести. Сколько радости было, когда в 56-м в деревню вернулся один из арцвашенцев, числившийся в списке без вести пропавших. Он-то и рассказал, что Петрос жив-здоров и скоро вернется. То ли это действительно было так, то ли парень хотел дать надежду родителям, только это сказалось на состоянии матери отнюдь не очень хорошо. Она каждый день сидела у дороги, ожидая своего сыночка Петроса, угадывала его в каждом прохожем, в каждой проезжающей мимо машине. И, будучи еще не старой женщиной, умерла там же, у дороги. Ее внук Марсель, когда смотрит кадры из фильма "Песнь старых дней" Альберта Мкртчяна, в главной героине — матери, проводившей на войну пятерых сыновей и получающей одну за другой похоронки — видит свою бабушку. Для него в собирательном образе реально вырисовываются линии судьбы татик Такуи. Писатель А. Фадеев написал неустаревающий гимн матерей, проводивших сынов своих на войну: "Ты проводила на войну сыновей — если не ты, так другая, такая же как ты, — иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или постели, когда он заболел или ранен, — все это сделали руки матери моей — моей, и его, и его". Эти слова, как нельзя лучше, подходят и армянке Такуи.
Второй сын, Бениамин, был кадровым офицером, погиб на Украине. Часть, в которой воевал Гурген, попала в окружение. Он погиб в апреле 45-го в Чехословакии, так и не встретив победы. Ишхан и Иван воевали в Прибалтике. В первые дни войны наши войска воевали там сразу с двумя фронтами, в одном бою полегли братья. Аршак воевал в 89-й стрелковой Таманской дивизии. 10 августа 1941-го участвовал в битве за Кавказ. Участвовал в освобождении Балаклавы, Керчи, Севастополя и других городов, за что имеет награды, дошел до Берлина. Командир дивизии и ее личный состав наряду с другими 6-ю национальными армянскими дивизиями прославили силу армянского оружия, разгромили фашизм в самом его логове и навеки вписали в май 1945-го победный танец кочари у стен рейхстага. Когда вошли в Берлин, командир, генерал-майор Нвер Сафарян, отправился на могилу кайзера Вильгельма, который некогда жаждал изничтожить армян, и справил малую нужду, что стало уже расхожей легендой. А Аршак вернулся в Гетик победителем. Он имеет более десяти боевых наград, среди которых орден Красной Звезды, орден "За отвагу" и другие. Шесть ранений до последних дней его жизни давали о себе знать. Книга А. Ананаканяна "В едином строю", изданная в 1975 году к 30-летию Победы, хранит в себе образы шестерых братьев Гюлумянов.
Дом Степана Гюлумяна стоял у дороги и во время войны стал перевалочным пунктом для всех следовавших и лазаретом для раненых. Он никогда никому не отказывал в крове, принимал с хлебом-солью, каждого готов был приютить и обогреть. После войны он старался больше времени проводить с молодежью в сельской библиотеке — так он утолял тоску по погибшим сыновьям.
Когда умер Аршак, его сыновья и сыновья погибших братьев Гюлумянов поставили могильный камень с фотографиями. Это стало местом воинской памяти, куда каждое 9 мая с цветами приходят дети, внуки и правнуки Гюлумяны. И ничего, что там покоятся лишь Степан и Аршак, один из нескольких солдат Гетика, похороненный в родной земле, главное — память, дань уважения и благодарность за мирное небо.
Елена Шуваева-Петросян
-
Шуши научил нас любить и ненавидеть всем сердцем
Борьба за освобождение Шуши началась давно, когда в середине ХVIII века чужеродный элемент, Панах Али Джеваншир, обосновался на Камне, восприняв его как природную крепость. Но Камень, способный обеспечить физическую безопасность, не мог стать Родиной для пришлого кочевого элемента. Даже если за спиной кочевника незримо стояла грозная фигура иранского шаха. В Шуши могли жить только армяне, народ, способный распахать камень, взрастить на нем хлеб, выжить в суровых условиях горного малоземелья. Именно по этой причине Шуши не превратился в обитель для пришлых кочевников и постепенно вновь стал обживаться родными для него армянами.
С тех пор в шумной реке Кар-Кар под Шуши утекло немало воды, сменились поколения, но Шуши сохранял верность родному народу. Город превратился в один из крупнейших населенных пунктов Закавказья, в нем функционировали театр и музеи, издавались газеты, работали школы. Казалось, Шуши ждет блестящее будущее. Казалось… До проклятых двадцатых годов прошлого века, когда за три года город перенес три страшные катастрофы.
Вначале было вероломное нападение турецких регулярных подразделений и отрядов Дикой дивизии закавказских турок на мирный город, когда в течение двух суток было вырезано свыше тридцати тысяч человек, практически все армянское население Шуши. Вторая катастрофа случилась в июле 1921 года, когда коммунистическая организация далекой России приняла решение о включении Арцаха и его столицы Шуши в пределы Азербайджанской ССР. Наконец, третья катастрофа: в 1923 году Азербайджан, провозгласив на части территории Арцаха Армянскую автономию, тем же указом лишил Шуши статуса столицы Арцаха.
Город, которому судьбой и географией было предназначено стать славой армянского народа, и который уже был таковым, насильно превратили в ощетинившуюся смертоносными дулами крепость против армян. Город, бывший связующим культурологическим звеном между частями армянского народа, в одночасье превратился в разделяющие эти части единого народа крепость. Шуши, породивший Арама Манукяна и Нельсона Степаняна, был лишен этнического мужества и могучих крыльев. Скала, веками гордившаяся танцующими на ней Круговой танец (Шурджпар) армянскими юношами, вынуждена была десятилетиями страдать, слушая тоскливые, заунывные звуки мугама.
Шуши страдал, и это страдание ощущал каждый армянин, кто имел несчастье оказаться в те годы в пленном городе. Шуши страдал молча и гордо, никак не показывая свою неизбывную боль копошащимся на нем закавказским туркам, кочевникам, так и не сумевшим осознать величие города, в котором им приказали жить. Они не любили Шуши, Шуши презирал их. Презирал иждивенцев, живущих на Камне ради ощущения сытости в желудке, достигаемого доставляемым из Баку пропитанием. Шуши несказанно страдал, вспоминая своих трудолюбивых, мастеровых хозяев, любовно строивших в городе дома и церкви. Шуши страдал, ибо десятилетиями не слышал Оровел - гордую песню армянского пахаря.
Шуши, в котором родились знаменитые меценаты и благотворители Т. Тамирянц, М. Амирянц, братья Аракеляны, И. Жамгарянц и многие другие, вынужден был терпеть немытых дармоедов и иждивенцев. Шуши, подаривший миру великого историка Лео (Аракел Бабаханян), насильно лишался собственной истории.
Но более всего страдал Шуши, когда Азербайджан стал завозить в город оружие: танки, пушки, бронемашины, когда в город стали приезжать многочисленные непонятные люди с оружием в руках. Шуши понимал: все это оружие направлено против армян, беззащитно приютившихся внизу, прислонившихся к родному Камню. Шуши страдал, когда разместившиеся на нем аскеры открывали смертоносный огонь против армян, безжалостно и без разбора разрушали армянские дома в Степанакерте, Карин Таке, Шоше, Бердадзоре… Может ли кто представить страдания Шуши, превращенного в огневую точку, изрыгавшую смерть и страдания?
Свидетельствую: ни один армянин не обижался на свой Шуши, ни одного слова упрека в адрес родного города не прозвучало в те дни из уст армянина. Все понимали: Шуши неповинен в преступлениях, совершаемых с его высоты. Осознавали, что Шуши страдает не менее тех, на кого падают снаряды, отправляемые из плененного армянского города. «Терпи, Шуши, мы придем и освободим тебя, - неоднократно приходилось мне слышать в Степанакерте после очередного обстрела из пленного Шуши, - Терпи, Шуши, так же, как терпим мы. У нас общая судьба!»
И Шуши терпел. Невозможно представить, что испытывал наш Город, когда в самом сердце его, в величественном Соборе Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) азербайджанские аскеры складировали многие сотни двухметровых снарядов, предназначенных для РСЗО БМ-21 «Град». В Соборе Всеспасителя – смертоносные снаряды! В чистейшем роднике человеколюбивой веры и философии – адское творение дьявола. Только турок способен на подобное святотатство, только в турецкой голове может зародиться такой план.
Враг понимал, что армянский Воин никогда не поднимет руку на Храм, даже если это обернется гибелью его или его товарищей. Не понимал он только одного: какую боль он причиняет Шуши. А если бы и понимал, то ничего не изменилось бы. Когда это подлая рука аскера останавливалась перед страданиями людей и городов? Аскер умеет только резать и рубить топором беззащитных людей, разрушать города, сжигать посевы, воровать скотину.
Шуши радостно и счастливо встрепенулся, когда в ночь на 8 мая 1992 года на его исстрадавшуюся грудь поднялись Воины Страны Армянской. Каждый камень, каждая выбоина на израненной груди Шуши прикрывали освободителей, каждую каплю пролитой армянской крови вбирал в себя Шуши, каждого павшего Воина оплакивал Шуши. Шуши мужественно воевал вместе со своими освободителями, Шуши отвергал захватчиков, семь десятилетий причинявших ему страдания. Шуши предчувствовал свободу.
Семь десятилетий жили пришельцы в армянском городе Шуши. И за все эти долгие годы даже Шуши не смог очистить их души от скверны. А, может, Шуши и не стремился к этому? Можно ли отмыть добела черного барана? Стоит ли проповедовать Сатане любовь, метать бисер перед свиньями? Возможно ли объяснить потомственному грабителю удовлетворение пахаря? Поймет ли душевный скопец радость земной любви?
Утром 9 мая Шуши улыбался. Светло и счастливо. Впервые за семь десятилетий. Он испытывал боль за павших на его груди армянских Воинов, раны его еще не успели обрасти шрамами, но он улыбался. Он слышал родную речь, вокруг все говорили на языке, на котором Шуши молча мечтал семьдесят долгих годов пленника. Его дети и его хозяева поднялись, вскарабкались на Камень, ворвались в город, изгнав из него ненавистного пришельца. Мужественные лица армянских Воинов светились счастьем, их огненные глаза излучали любовь и гордость. Мы пришли, Шуши!
Ты учил нас любви, Шуши. Любви к скалам, деревьям, родникам. Любви к каждой скромной травинке, нашедшей свое место под солнцем в горах, к гордо возвышающемуся Кирсу. Любви к мудрым горам, замшелым скалам, к прозрачной воде Страны Армянской. Ты учил нас любви и… ненависти к врагам. Ибо невозможна любовь к Родине без ненависти к ее врагам. Сочетание веры, любви и ненависти помогло армянскому народу вернуться к тебе, Шуши, припасть к твоим израненным стопам. Безграничная любовь к тебе и осознанная ненависть к врагу, Шуши.
Клянемся тебе, Шуши, ты никогда больше не будешь в плену. Звонкие детские голоса и мужественные лица армянских Воинов на твоих улицах тому порукой. Мы навечно воссоединились с тобой, Шуши.
-
Интервью агентства 7or.am с Левоном Мелик-Шахназаряном
- Освобождение Шуши стало началом наших побед? Как Вы считаете, было ли значение освобождения Шуши осознано до конца?
- В Арцахе однозначно, поскольку этой победы и освобождения Шуши население Арцаха ждало буквально с 1921г. Может быть не совсем хорошо так говорить, но нападение Азербайджана на Арцах дало возможность для осуществления этой мечты. Я как непосредственный очевидец тех дней и, в какой-то мере, участник, могу сказать, что весь народ ждал этой победы и даже требовал властей Республики Арцах решить эту задачу как можно скорее и освободить старинную столицу Арцаха. И та невероятная, всепоглощающая радость, которую мы испытали тогда, сегодня превратилась в гордость, которая действительно осознается всем населением Арцаха.
- А другие части армянского народа?
- К сожалению, сегодня молодежь мало понимает значение этой победы и освобождения нашего старинного армянского города. Это недостаток пропагандистской и воспитательной работы. Старшее и среднее поколения, которые тогда прекрасно осознавали, что произошло, и какую высоту одолел армянский народ, осознают важность этой победы и сегодня, чего, к сожалению, не могу с той же уверенностью сказать о молодежи.
- На Ваш взгляд, сегодняшняя позиция Армении - позиция победившего государства?
- Это очень широкий вопрос и я не могу однозначно ответить. Мне кажется, что Армении еще много нужно сделать и у нее есть право вести себя более гордо, чем сегодня. Это однозначно. Конечно, у нас есть много дел. Однако есть вопросы, по которым, по которым мы сегодня выступаем в мире с позиции победившего государства.
- Вы согласны, чтобы сдали земли в обмен на самоопределение Арцаха?
- Однозначно, нет! Республика Арцах не нуждается в чьем-либо признании в обмен на часть Родины. Очень важно понять, что население Арцаха свое право на самоопределение уже реализовало 2 сентября 1991г. Ставить это всенародное решение под вопрос - преступление. После реализации населением НКР своего неотъемлемого права на самоопределение Азербайджан применил военную агрессию против Республики Арцах. В результате этой агрессии Арцах смог не только защитить свою независимость и политическую целостность, но также перенести военные действия на территорию государства-агрессора. В полном согласии с Уставом ООН и другими нормами международного права.
Однако в этом есть и историческая закономерность. Контролируемая Республикой Арцах территория сегодня не выходит за пределы исторического Арцаха, то есть, даже не доходит до его границ. Исторический Арцах значительно больше, чем территория Нагорно-Карабахской Республики вместе с освобожденными территориями. Если не выходит за пределы Арцаха, то значит не выходит за пределы исторических армянских территорий. Эти территории, о которых сегодня говорят, до 1918-го в основном были населены армянами. В 1918-м армия Турции и азербайджанские отряды из так называемой Дикой дивизии совершили на этой территории геноцид и насильно изгнали армянское население. Вернуть эти территории Азербайджану означает подарить их. Это также означает юридически закрепить последствия того геноцида. Никто не имеет такого права. Эти территории не принадлежат никому, кроме всей армянской нации. Я считаю, что даже превращение армянских районов в предмет обсуждения является аморальным.
- На Ваш взгляд, каким будет благоприятное для армян решение вопроса Арцаха?
- Решение не должно быть благоприятным для армян или для какой-то другой нации. Решение должно быть в рамках международного права и закона, а это означает, что независимость, суверенитет Арцаха должен быть признан в сегодняшних границах. Конечно, сегодня каждое заинтересованное государство пытается «тянуть одеяло на себя», и здесь сталкиваются желания и цели различных сил, однако мы должны стремиться к этому. В ходе этой войны мы потеряли больше исконно армянских (и до 1988 года армянонаселенных территорий), чем сегодня находятся под контролем Республики Арцах. Речь идет о территориях Утика, Пайтакарана и левобережья Куры, которые 20 лет назад остались под контролем противника. Вместо стольких потерянных армянских территорий у нас осталась эта маленькая часть, которая также является армянской и принадлежит армянской нации. Мы не имеем права превращать ее в предмет обсуждения. Поэтому напомню Ваши слова о том, что насколько мы будем выступать с позиций победившего государства, настолько больше возможностей будет окончательно закрепить эти территории в составе Республики Арцах. У армянской дипломатии, кроме правовых аргументов, существует очень весомый аргумент: Воин Страны Армянской.
- Вас устраивает позиция властей Армении в вопросе урегулирования Арцахской проблемы?
- Поскольку я, может быть, чуть более информирован, чем рядовой гражданин Армении, могу сказать, что у меня нет замечаний в Арцахском вопросе (особенно, в последние несколько лет). Не могу сказать, что позиция безошибочная – история покажет – но мне кажется, что сегодня наша политика в вопросе Арцаха достаточно твердая и пронациональная.
Беседу вела Сюзи Мелконян
-
Ложные посылы Тофиги
Давно известно: при наличии ложных посылов истины не увидеть. Как в математике: даже в случае, если все последующие действия правильны, и совершены в соответствии с правилами, выводы при начальном ложном посыле все равно будут ошибочными. Но если в математике сохраняется возможность вернуться к началу решения, то в политике, особенно в столь чувствительной ее сфере, каковыми являются межнациональные или межгосударственные отношения, ложные посылы зачастую оборачиваются самой настоящей трагедией. Тем более неприемлемо, когда ложные посылы специально создаются людьми, достаточно подробно информированными в затрагиваемой ими проблеме. Подобные люди, как правило, хорошо представляют себе кровавые последствия порождаемой ими провокации, вследствие чего заранее продумывают собственные пути отступления, или изначально убеждены в своей неуязвимости. Уверенность им чаще всего придает географическая отдаленность от возможного места трагедии, или, как в рассматриваемом случае, принадлежность к полу, освобожденному от обязанности принимать участие в провоцируемых ими событиях.
Речь идет о статье азербайджанской журналистки Нурани, в которой она путем многочисленных сравнений стремится утвердить читателя в мысли о том, что национально-освободительная борьба арцахцев явилась трагической ошибкой, способной привести к национальной катастрофе. Возможно, к словам маститой журналистки стоило бы отнестись серьезно, если бы не многочисленные изначальные ложные посылы. Я даже не имею в виду множество преднамеренных дезинформаций, вроде «20% территории», «миллион беженцев» и т. д. При этом лично мне никогда не понять: как можно опуститься до тиражирования откровенной лжи хозяев и позиционировать себя свободным журналистом? Но госпожа Тофига, более известная под поэтическим псевдонимом Нурани, над подобными «мелочами» явно не задумывается.
Вернемся, однако, к статье Тофиги, опустив все ее «исторические параллели». Так, она пишет, что «сегодня армянские газеты переполнены утверждениями, что соседние народы, прежде всего азербайджанцы и турки – это «варвары-кочевники», у которых никакой культуры нет и быть не может, а, следовательно, их земли должны принадлежать армянам». Классический пример преднамеренного ложного посыла, используемого в целях введения в заблуждение стороннего наблюдателя.
Армянские земли должны принадлежать армянам не потому, что там сегодня живут «варвары-кочевники», а потому, что они принадлежат армянам. Ни один здравомыслящий человек не может отказать кочевым народам в наличии у них собственной культуры, нередко весьма высокой. И не отсутствие/наличие культуры у оппонента явилось причиной национально-освободительной борьбы арцахцев, а острое чувство этнической неудовлетворенности, вызванной несправедливостью, приведшей к включению Родины в состав чужого государства. И здесь трудно не согласиться с Нурани: «…любой захват чужих земель, любая оккупация неизбежно приводят к эффекту той самой «сжатой пружины», которая рано или поздно должна распрямиться». «Пружина» распрямилась в 1988 году, и наличие или отсутствие культуры у азербайджанцев не имело к этому никакого отношения.
Еще один ложный посыл Нурани: «…здесь (в Арцахе – Л. М.-Ш.) приняли первое роковое решение – начать борьбу за аннексию Карабаха». Аннексия Карабаха произошла в 1921 году, когда решением партийного органа третьей стороны было принято решение включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана. Еще одна попытка аннексии имела место в 1988-1994 годах, когда Азербайджанская республика совершила прямую военную агрессию против самоопределяющегося народа, а затем и против Нагорно-Карабахской Республики. Именно в результате этой агрессии Азербайджан потерял убитыми 37 тысяч своих аскеров.
Нурани, вновь используя ложный посыл, пишет: «И у Азербайджана тоже есть право, святое право восстановить свою территориальную целостность». О какой территориальной целостности идет речь? Неужели Нурани всерьез считает, что границы зарождающегося государства определяются решением некоего органа, без учета мнения населения? В 1918 году в Тбилиси группа национальных деятелей закавказских тюрок провозгласила Азербайджанскую республику на территории, к значительной части которых тюрки совершенно не имели никакого отношения. Вслед за этим, с помощью турецкой регулярной армии, Азербайджанская республика принялась «восстанавливать» эту самую территориальную целостность.
В 1991 году все повторилось один к одному. Группа депутатов провозгласила Азербайджанскую республику без учета мнения коренных на этой территории армян, лезгин, талышей и других народов. И тут же Азербайджанская республика взялась утверждать силой оружия «территориальную целостность». Если кто не знает, сообщу, подобные действия международное право именует узурпацией. Какие основания (кроме автомата Калашникова?) были у Азербайджана считать, что живущие на этой земле автохтоны будут счастливы оказаться в незаконно провозглашенной республике? С таким же «основанием» можно было провозгласить Азербайджанскую республику, включающую в себя Южный Дагестан, а также северные регионы Ирана и Ирака. Сценарий был бы вполне реален, если бы Азербайджанская республика чувствовала в себе потенциал для борьбы за «территориальную целостность» провозглашенной республики.
Впрочем, у Азербайджана не хватило возможностей переварить и то, что было провозглашено в 1918, а затем и в 1991 годах группой провокаторов, именовавшихся членами Мусульманского национального совета, или, во втором случае, народными депутатами. Ибо в этой республике катастрофически не способны рассчитывать свои возможности, уповая исключительно на количество людей и оружия.
Сегодня Азербайджан собирается наступить на те же грабли, готовясь к новому витку военных действий. И вновь мы слышим тот же «аргумент»: нас больше, мы богаче. Не буду разочаровывать Нурани: их действительно больше, хотя и далеко не настолько, как это любят говорить азербайджанские статистики, да и руководство Азербайджана несравнимо богаче руководства Армении. А вот с населением осечка выходит. Не случайно ООН решила оказать помощь голодающим в Азербайджане, которых, с помощью Всемирного Банка, насчитала свыше 700 тысяч человек. А ведь 700 тысяч – это свыше 14 процентов реально проживающего в Азербайджанской республике населения.
Не буду останавливаться на угрозах Нурани. Не пристало отвечать в том же духе даме, спокойно и хладнокровно пророчествующей о многочисленных жертвах в случае возобновления войны, если лидеры Армении не примут «необходимое и верное решение». Госпожа Нурани считает, что «верное» решение руководства армянских государств – это сдача Родины с целью избежать войны. Не обессудьте, Тофига, но это «предложение» напоминает мне быт кочевников, тысячелетиями просто уходивших от внешних и климатических вызовов. Это, конечно, не укор: образ жизни и ландшафт ареала обитания предопределяли стратегию выживания этноса. Степи были необъятными, можно было жить там, где нет врагов и засухи.
Оседлые народы исповедовали другой образ жизни: любой вызов лишь сплачивал народ, объединял его усилия, заставлял забыть о внутренних распрях. Впрочем, у закавказских турок была возможность убедиться в этом. Только в ХХ веке – три раза.




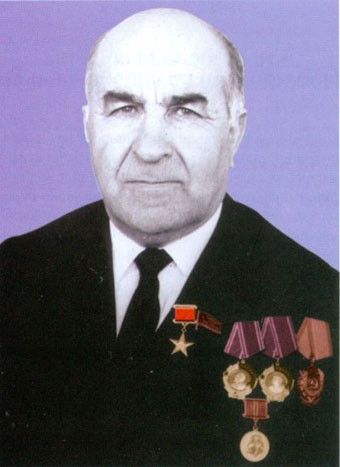



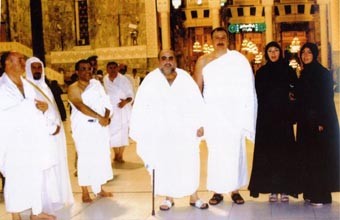







О роли армян в Великой Отечественной войне
in History
Posted · Edited by Pandukht
Личный героизм и беспримерная храбрость
Вклад американских армян в достижение победы во Второй мировой войне
В самые тяжелые годы Второй мировой войны в рядах 10-миллионной армии США, бок о бок с другими американскими воинами, во всех видах вооруженных сил (пехота, военно-воздушные и военно-морские силы), во всех военных действиях (азиатско-тихоокеанские, евро-афро-ближневосточные, в иностранных боевых подразделениях) служили более чем 20 000 американских армян (в 1940г. в Соединенных Штатах проживало более 200 000 армян). Большая их часть вернулась с победой, но немало было и геройски погибших (около 500 человек), раненых (более 500) и без вести пропавших (около 50 человек).
Правительство США, высоко оценив беззаветную преданность, храбрость и военное умение американских армян, многих из них наградило высшими орденами и званиями героя. Так, военнослужащим армянской национальности, имевшим в годы Второй мировой войны высшее звание в армии США, был генерал Айк Шекерджян, которому в 1942 г. это звание было присвоено президентом Франклином Рузвельтом. Это был первый американский военнослужащий армянской национальности, принятый в Военную академию в Уэст-Пойнте за исключительную гражданскую храбрость, проявленную еще в юные годы (в шестнадцатилетнем возрасте он смело бросился в горящий дом и спас женщину и ее ребенка).
Среди офицеров-армян своей храбростью отличились и командор Джек (Сирак) Нагикян, полковники Керк Бучах и Саргис Зардарян и др..
Эрнест Х. Дервишян с Эйзенхауэром
Исключительной и наивысшей награды Соединенных Штатов – Почетного ордена Конгресса – удостоился старший лейтенант Эрнест Х. Дервишян. Эта награда, которой в американской армии удостоились всего 87 человек, была вручена ему за беспримерную храбрость, проявленную в мае 1944 г. в районе итальянской Систьерны. Во время ожесточенного боя, потеряв своих боевых товарищей и оказавшись один в окружении врага, Дервишян сумел благодаря своим фантастическим приемам боевого искусства взять в плен сразу 45 воинов противника, захватив у них 3 пулемета и 10 пистолетов. Демобилизованный после войны в чине полковника, Э. Дервишян занимал ряд высоких военных постов: был заместителем командующего Американским национальным легионом, советником по военным и государственным вопросам.
Виктор Магакян
За личный героизм, проявленный в период службы в пехоте, второй высшей награды США – ордена «Крест за особые заслуги» – удостоился штабной сержант Генри Калпакян (посмертно), в морской службе – капитан-лейтенант Кедрик Джанян, полковник Гарри Кизирян и 1-й лейтенант Виктор Магакян. Высоким орденом «Серебряная звезда» были за храбрость награждены 52 американских армянина, из которых пятеро – посмертно. За исключительную преданность и образцовую службу ордена «Заслуженный легион» удостоились полковник Керк Бучах, подполковник Арам Т. Тутелян. За совершенные летные подвиги высокой награды – ордена «Авиационный крест» – удостоились 44 американских армянина, из которых двое – посмертно. Военным орденом, учрежденным для награждения за личную храбрость и оказание помощи в сложной боевой обстановке, были награждены 11 американских армян, один из них – посмертно.
Первым героем из числа американо-армянских военнослужащих стал уроженец Вана, рядовой 1 класса Вардан Агабабян (из Спрингфилда), награжденный двумя высшими американскими боевыми орденами. Он участвовал в обеих мировых войнах, был 14 раз ранен.
Во время бомбардировок американских военных кораблей, осуществленных японцами 7 декабря 1941 г. на Перл-Харборе, при исполнении служебных обязанностей погиб капрал Джеймс Топалян (после войны одна из улиц Бостона была названа его именем).
Многие американские армяне вовлекались в персонал, обслуживавший высшие чины американской армии, тем самим часто становились очевидцами различных исторических событий. Например, мисс Сью Сарафян из Детройта за свою отличную службу в Африке была включена в число членов аппарата командующего англо-американскими союзными войсками в Европе генерала Дуайта Эйзенхауэра, по существу исполняя обязанности его личного секретаря. Американские армяне принимали участие также в подготовке и проведении различных мирных переговоров, служили в разведке.
Гарри Даглян
Армяне Америки вложили все свои силы и высокий интеллектуальный потенциал и на «внутреннем фронте», активно работая в области судостроения, производства боеприпасов и в иных сферах военного производства, вплоть до создания атомной бомбы. 32-летний атомщик доктор Гарри Даглян в расцвете таланта погиб при взрыве во время испытаний, предваривших создание атомной бомбы. В этой сфере проявили себя и Джон Оганесян, Симон Экизян, капитан-лейтенант Арам Парунак. В военной сфере свои знания поставили на службу интересам безопасности государства старший сержант Гарольд Шахназарян, награжденный особой грамотой Военного департамента, химики майор Завен Налбандян и подполковник Карл Докмеджян, который создал топливо для нового мощного танка, впервые введенного в эксплуатацию в боевых условиях во время освобождения Италии.
В годы Второй мировой войны американские армяне самоотверженно служили и на поприще военной медицины. Благодаря сделанным в Главной военной больнице Лондона редчайшим пластическим операциям особо прославился хирург из Лос-Анджелеса подполковник Леон Ашчьян.
Кроме индивидуальных граждан свой неоценимый вклад в достижение Победы во Второй мировой войне внесли и многочисленные национальные организации, земляческие союзы и партии американских армян. Например, Американо-армянский комитет Нью-Йорка в течение всей войны собирал пожертвования и передал правительству на закупку военной техники несколько миллионов долларов, на которые были приобретены самолеты и суда, названия которых – «Дух Армении», «Арарат» и т. д. – говорят сами за себя. Армяне Сан-Франциско в августе 1942 г. от имени Армянского комитета подарили американскому Красному Кресту железнодорожный состав «Масис», а на военные нужды страны только в 1943 г. – 1 млн. долларов. Усилиями Лиги американо-армянских граждан Фрезно и не пожелавших огласить свои имена армянских благотворителей в течение 1942-1944 гг. была собрана сумма приблизительно в 8,5 млн. долларов...
Американские армяне деятельным образом откликнулись на обращение правительства о выпуске военных акций: армяне купили их в значительно большем количестве, чем граждане иных национальностей.
В судьбоносные годы борьбы против фашизма представители разных партий американских армян не только выполняли свой гражданский долг, но и активно участвовали в оказании материальной и моральной поддержки своей далекой родине. Свидетельством тому является следующее обращение к правительству СССР, принятое на массовом митинге американских армян, состоявшемся в августе 1941 г. в Нью-Йорке: «Мы, американские армяне, чью исконную родину защищает Красная армия, чувствуем, что обязаны помогать Советскому Союзу до тех пор, пока с лица земли не будет стерт фашизм».
Рассеянное по всему свету армянство в самые решающие годы войны объединилось в Национальные фронты, одной из деятельных организаций которых был окончательно сформировавшийся 19 марта 1944 г. в Нью-Йорке Национальный cовет армян Америки (НСАА). Объединив различные американо-армянские организации (Либерал-демократическая партия – ЛДП, Социал-демократическая партия – СДП «Гнчак», Прогрессивный союз армян Америки, Армянский благотворительный общий союз – АБОС, церкви христианской конфессии, различные земляческие союзы и т. д.), фронт через свои филиалы, действующие по всей стране, организовывал различные благотворительные мероприятия, сборы пожертвований, выступал с инициативами в пользу американской и Красной армий, Красного Креста и Родины-матери, а в послевоенные годы (до 1950 г.) боролся за справедливое решение Армянского вопроса в рамках новообразованной Организации Объединенных Наций. Благодаря патриотическим усилиям НСАА весной 1944 г. жители освобожденных от фашистской оккупации территорий СССР получили 25 тыс. подарков-посылок общей стоимостью в 75 тыс. долларов, а Армения – целый корабль одежды. Кроме этого, через Комитет помощи России были высланы для Красной армии 50 тыс. долларов, а также медикаменты на сумму 87 тыс. долларов. Американо-армянский комитет содействия военным усилиям Советского Союза до 1943 г. за счет пожертвований отправил: для Красной армии 56 тыс. долларов, для нуждающихся – 29 тыс. долларов, Армении – 11 тыс. долларов, а также 2700 единиц шерстяных изделий на сумму 9 тыс. долларов и т. п.
Армяне Америки внесли существенный вклад и в создание усилиями всей прогрессивной Диаспоры танковой колонны «Сасунци Давид». Благодаря спешным и организованным усилиям американских армян за промежуток времени от марта 1943 г. до марта 1944 г. в этих целях из США было отправлено пожертвований самое меньшее на 115 тыс. долларов на строительство первой очереди танковой колонны «Сасунци Давид» (и 173 тыс. долларов в фонд Красного Креста), затем – 40 тысяч для второй очереди. Организованная стараниями духовного пастыря американских армян архиепископа Гарегина Овсепяна Армянская комиссия в течение года собрала 120 тыс. долларов пожертвований в пользу Красной армии, Родины-матери и соотечественников из Диаспоры и 85 тысяч – для строительства танковой колонны «Сасунци Давид».
Для большинства армян, чудом переживших Геноцид, характерны чувства армянки, сын которой, служивший в американских войсках, храбро сражаясь на полях Второй мировой, дошел до Берлина: «Мой сын отомстил за тех членов своего рода, которые были убиты во время предыдущей войны при соучастии немцев и с их поощрения. Он отомстил и за сотни тысяч армян, вырезанных в предыдущей войне».
Кнарик Авакян, кандидат исторических наук