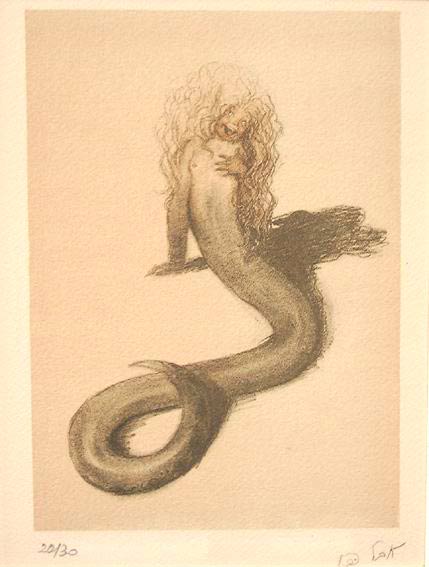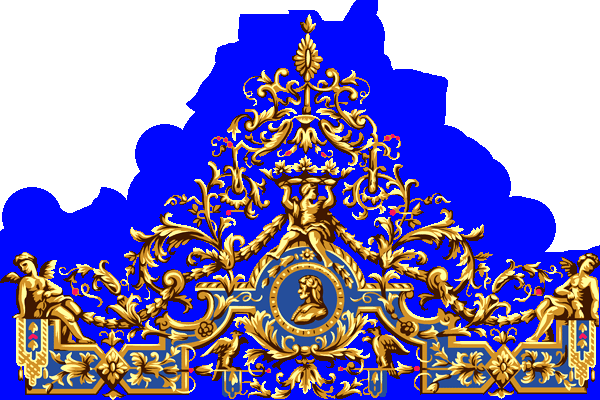Это так грандиозно!
М. Лайтман: Армен Борисович, я Ваш давний поклонник. Вы – особенный человек. Прожили долгую жизнь, имеете богатый жизненный опыт, я слышал, интересуетесь и философией жизни. Я хотел бы узнать Ваши впечатления о том, в каком направлении, Вам кажется, движется общество. Человеческий эгоизм возрос настолько, что сегодня человек не может ужиться не только с другим человеком, но и жить в мире с самим собой.
Молодежь изначально разочарована, опустошенна и не понимает, стоит ли вообще существовать в этом мире. Человечеству требуется ключевая идея, концепция, некая мотивация, иначе оно ощущает внутреннюю пустоту, бездушие... Как Вы считаете, можно ли что-то изменить в этом мире, или это слишком утомительный, долгий или даже безнадежный процесс?
А. Джигарханян: Если мы сейчас рискуем говорить об этом громко, во всеуслышание, в виде какого-то совета людям, то очень важно, чтобы мы с вами были честными. При всей примитивности этого определения, быть честным – это самое трудное.
Все, о чем Вы говорите, существует, быть может, даже в более катастрофических, неуправляемых формах. А если говорить о знании предмета, то я могу рассуждать только в области того, чем я занимаюсь, – в области искусства. Знаете, как говорят: «Помочь человеку вернуться к себе». Вся остальная информация направлена в какое-то русло. Не будем говорить, что это обязательно вредно, но это – великое стадное явление. И все, кто занимаются идеологией, направляют нас именно туда. Поэтому надо попытаться (что крайне трудно!) найти способ быть ближе к индивидуализации человека.
Чем хорошо искусство? Тем, что оно оперирует знакомыми вещами: любовь, смерть, ненависть, обожание, дети, животные... Я обожаю этот постулат: «Господи, помоги детям и зверям». Это очень важно, потому что, попросту говоря, наши дети – это будущие взрослые. И что мы в них заложим, такими они и вырастут. Поэтому если у нас появляется возможность, мы не должны ее упускать. Этим еще занимается религия.
М. Лайтман: Вы верите, что у религии есть сила что-то сделать?
А. Джигарханян: Может быть, сегодня религия – это самая мощная сила в обществе. Неспроста кто-то из классиков говорил, что если Бога нет, то его надо выдумать. Я думаю, имелось в виду, что обществу обязательно нужен локомотив, лидер, которому бы весь мир беспрекословно верил.
Ни в коем случае нельзя этим пренебрегать, даже если мы внутри убеждены, что такого человека нет. Он нужен, иначе нашими лидерами станут футболисты. Это тоже неплохо, но только до определенного момента. А потом у нас появятся проблемы, которые мы не сможем разрешить. И тогда мы побежим в церковь, поплачем, посмеемся...
Мы придем и в театр. Поверьте, я не пропагандирую театр, потому что он – моя жизнь. Но я думаю, что театр – это… Хотя это бесконечно длинная дорога. Бесконечно! Потому что малейшее нарушение… Человек к нам обратился, мы успокоили, сказали: «Все будет хорошо», – а у этого человека что-то случилось с ребенком, и он перестает нам верить. Говорит нам: «Вы меня обманули!»
М. Лайтман: Скажите, может ли искусство стать для человека проповедником эталонов правильного поведения, отношений между людьми в обществе, любви к другому?
А. Джигарханян: Давайте мы дадим, если у нас есть такая возможность, а люди сами выберут. Я думаю, что если мы не будем их насиловать, толкать прикладом в "нужную" сторону, то люди сами выберут, и выберут правильно. Я обожаю эту английскую манеру, - сначала делают газон, потом ждут, когда по нему пройдут люди, и только тогда на этом месте делают тропинку.
М. Лайтман: Это самый верный способ.
А. Джигарханян: Самый верный! А почему мы не всегда к нему обращаемся? Потому что мы хотим сразу «пирамидон на все головы», чтобы через 20 минут все уже было хорошо. Не будет через 20 минут! Надо понимать, что если в нашей жизни произошло цунами, землетрясение, то, как минимум, одно поколение еще будет страдать от этого. И с этим ничего не поделаешь. После Чернобыля кто-то – боюсь исказить его имя – говорил, что Чернобыль будет жить в нас, в нашей жизни 300 лет.
М. Лайтман: Хоть Вы и работаете сегодня в маленьком театре, но его влияние на массы огромное. Человек приходит на спектакль, для того чтобы чем-то проникнуться. Он получает от вас огромную информацию, даже не осознавая, как она на него воздействует. Как Вы считаете, можно ли таким образом рассказать человеку, в чем состоит смысл жизни?
А. Джигарханян: Я так неприлично давно живу в театре, что беру на себя наглость рассказать Вам некую формулу этого. Я думаю, что подавляющее большинство зрителей приходят только из любопытства. Но каждый человек, сам того не сознавая, приходит со своими проблемами. А у театра есть удивительная способность затрагивать эту болевую точку. И когда это происходит, то из тысячи любопытных мы для начала получаем трех-пятерых человек, которых увиденное задело за живое. А эти пятеро понесут свое впечатление дальше: на свою кухню, на работу и так далее.
М. Лайтман: Это очень длительный процесс?
А. Джигарханян: Очень.
М. Лайтман: Я занимаюсь очень древней наукой. Она говорит, что все развитие человечества основано на развитии в человеке эгоизма. И примерно через 5000 лет придет такое время, – говорит эта наука из глубины веков, – когда человечество, что называется, «дойдет до ручки». До такой стадии, когда, с одной стороны, будет ощущать себя очень маленьким, замкнутым, как маленькая деревня, – мы ощущаем это при глобализации. А с другой стороны, достигнет такого эгоистического развития, что люди просто не смогут существовать, жить. Появятся наркотики, депрессия, самоубийства, полное взаимное отталкивание, ненависть друг к другу и т.д.
«И вот тогда, - говорит эта наука, - я раскроюсь людям и объясню им, как надо достичь настоящего наполнения». Ведь человека интересует только то, каким образом наполниться. А наполниться эгоистически мы не можем, потому что, как только получаем что-то эгоистически, наслаждение мгновенно пропадает. Оно никогда у нас не остается. И мы опять должны бежать за чем-то новым.
А. Джигарханян: То, о чем Вы говорите, очень важно. Могу я рискнуть и задать Вам вопрос? Есть ли такие пути, через которые можно проникнуть в тайники человеческой души?
М. Лайтман: Есть.
А. Джигарханян: Есть? А какие?
М. Лайтман: Нужно медленно и постепенно объяснять человеку. Это тоже длительный путь. В истории все происходит ненасильственно, в длительном диалектическом процессе. Надо поднять сознание человека до такого уровня, когда он поймет, что живет в своем замкнутом эгоистическом мирке и ощущает только то, что ему удобно ощущать. А то, что его эгоизму ощущать неудобно, он просто не чувствует, – оно выпадает из его поля зрения.
И когда человек начнет это понимать, нужно постепенно подтянуть его к осознанию того, что существует огромная, еще неизведанная область мироздания, которую мы не ощущаем, потому что все хотим наполнить лишь себя.
Если бы мы приподнялись над этой своей постоянной эгоистической заботой о личном наполнении, и начали бы думать о том, как мы можем отдать, а не получить, тогда мы бы начали ощущать совершенно иные слои мира, которые не относятся к нашему эгоизму, и существуют вне нас. Тогда бы мир стал для нас сквозным, большим, широким. Естественно, мы изменили бы свое отношение и к остальным. Но главное, мы бы увидели, как взаимосвязаны все объекты природы; как взаимосвязаны между собой мы.
Вот Вы говорите: «Я в своем театре влияю на тысячу человек. Из них, может быть, трое-пятеро уйдут, проникнувшись чем-то». А мы бы увидели, как все мы замкнуты между собой, подобно тому, как на обратной стороне вышивке видим ниточки, связывающие между собой все части картинки. Мы бы узнали, почему воздействуем на мир так, а не иначе. Почему вдруг каким-то странным образом совсем в другом месте мы получаем совершенно непонятную ответную реакцию. Мы научились бы правильно жить.
А. Джигарханян: Вы исключаете одаренность восприятия? Или Вы рассчитываете, что все поймут те вещи, о которых Вы сейчас мне рассказываете? Можем ли мы рассчитывать на то, что хотя бы 80 процентов человечества это поймет?
М. Лайтман: Один из тысячи поймет.
А. Джигарханян: А наш расчет на что?
М. Лайтман: Наш расчет на постепенный и аккумулирующийся процесс развития такого подхода. Иначе люди будут и дальше ошибаться – все время пытаться эгоистически себя наполнить.
В нашей жизни мы видим иной пример только во взаимоотношениях матери и ребенка. Если мать любит, то, "наполняя" близкого ей от природы человека, она наслаждается, и ее наслаждению нет границ.
Если бы мы таким же образом могли увидеть истинную картину мира, нашу взаимосвязь, что и Вы, и я, и он, и все остальные являемся неотъемлемыми частями взаимозависимой системы, то мы бы получили бы эту возможность бесконечного наслаждения каждым в том, что каждый наполняет других. На самом деле, так оно и есть, только мы не можем этого видеть в силу своего эгоизма.
А. Джигарханян: То, о чем Вы говорите, даже не вызывает споров. Но меня вот что беспокоит: ведь талант созидания тесно связан с талантом восприятия. Это знаете, как книгу читаешь: вот, две страницы прочел и понял, что я ничего не понял из того, что успел прочитать. И тогда в лучшем случае я перечитываю эти две страницы, а в худшем - выбрасываю книгу.
М. Лайтман: Я думаю, что у нас не будет иного выхода, как взять эту книгу и снова ее перечитать. Потому что мы, люди, – чувственные элементы природы и нас очень легко заставить: мы поневоле бежим от боли, от страданий к наслаждению, к счастью.
Ведь наше тело подсознательно само выбирает оптимально удобную для нас позу - вот как Вы сейчас сидите. Природа нас таким образом ведет вперед, заставляет понять, что страданиями дальше существовать мы не можем, что наш эгоизм загоняет нас в безвыходную ситуацию: наши дети уже не хотят жить с самого раннего возраста! Если сейчас в мире происходит такое, Вы представляете, что будет дальше? Еще больше наркотиков, еще больше депрессий?
А. Джигарханян: На кого мы рассчитываем?
М. Лайтман: Мы рассчитываем на людей, которым больно. А их становится сегодня все больше и больше.
А. Джигарханян: Больно?
М. Лайтман: Да. Больно. Они чувствуют, что дальше так жить невозможно, но еще не осознают, от чего именно им больно. Вот это дополнение мы и должны внести. Как? Я думаю, что это просто – нужно объяснить человеку картину Мироздания. И тогда он начнет видеть за всеми элементами вокруг себя связи, силы, которые воздействуют на него. Я пришел к этому из очень материальной науки - медицинской кибернетики.
А. Джигарханян: Но, как мы уже говорили, это очень длительный процесс. А значит, будут и отпадающие... Что с этим делать?
М. Лайтман: Именно поэтому, Армен Борисович, мне очень хотелось с Вами встретиться и узнать, возможно ли с помощью театра, искусства раскрыть сердце человека и что-то туда посадить?
А. Джигарханян: Моя жизнь мне подсказывает, что даже при желании, так скажем, "хирургического вмешательства" и помощи бывает отторжение. И может получиться так, что наши благие намерения не принесут результата. Но если у нас есть шанс спасти, хотя бы семерых из десяти – мы должны в это вложиться. Я еще буду думать после нашей сегодняшней встречи, потому что вещи, о которых Вы говорите – очень важные.
М. Лайтман: Страдания, которые сейчас толкают все человечество вперед, – они должны нам помочь в том, чтобы у человека появилась готовность услышать, раскрылось сердце. Страданием с человечеством можно сделать все.
А. Джигарханян: Вы убеждены, что это не толкнет людей на отмщение, ненависть?
М. Лайтман: Это может произойти, но только не на самом последнем этапе: сильные страдания просто доводят человека до того, что он согласен на все, только бы не испытывать их. У него не остается сил противодействовать.
А. Джигарханян: То, что Вы говорите, для меня – очень высокие слова. И дай, Бог, чтобы это было так.
М. Лайтман: Если все же воспользоваться искусством для того чтобы рассказывать людям о жизни не иносказательно, как бы показывая ее на других (ведь кто-то это понимает и воспринимает, а кто-то – нет), а в более близкой им форме, может быть, тогда все-таки…? Я просто не представляю себе другого метода, который позволил бы легко, массово подойти к человеку, встать перед ним и объяснить, что мы находимся в тупике, и каждому надо только слушать себя, свое сердце…
А. Джигарханян: Из своей жизни я знаю, что если искусство за пять минут может раскрыть человека, то это плохое искусство. К примеру, если женщина мучается и не знает, родить ей ребенка или нет, а мы за пять минут ее уговорили, то это уже не искусство, а насилие. Искусство дает шанс подумать об этом и самому выбрать.
М. Лайтман: Ну, хорошо, тогда дайте этот шанс уже после того, как Вы своим же искусством развили человека! Когда ему будет чем думать и выбирать. Скажите, кто на сегодня имеет этот разум, свободу воли и выбора?
А. Джигарханян: Я думаю, то, о чем Вы говорите, – это самое трудное и – я буду предельно груб – почти неосуществимо. Все человечество мечтало о том, чтобы создать общество понимающих, единомышленников. Но мы же с Вами знаем, что это маловероятно. Мы: театр, искусство, музыка, живопись – только и рассчитываем на то, что у кого-то что-то смягчится. Не стоит надеяться, что все, кто вошел сегодня в музей Пушкина, выйдут оттуда озаренными… Дай Бог, если кого-то хоть краешком заденет.
М. Лайтман: Почему, как Вы думаете, человек такой невосприимчивый?
А. Джигарханян: В силу своей одаренности. Поэтому я говорю, что один может идти наверх, а другой может с тем же успехом идти вниз.
Приведу Вам грубый пример: недавно в новостях передавали, что кто-то с ножом бросился на картину «Иван Грозный убивает своего сына». Видите, в чем парадокс? Один вышел из музея, решив родить сына, а другой с ножом бросился на шедевр. Есть даже памятник лучшему зрителю и лучшему актеру: зритель выстрелил в исполнителя роли Яго, и поняв, что он наделал, застрелился сам… В результате их обоих так и похоронили.
Но то, о чем Вы говорите – это так грандиозно! Я еще буду думать после нашей встречи, потому что все, о чем Вы говорите, очень важно. Лишь бы не было: «А! Да, да, да, это я читал…». Чтобы я понимал, что это лично меня касается!
И я верю, что мы победим. Наши победят. Спасибо Вам! Большое спасибо! Я очень рад, что мы встретились, надеюсь, что приглашу Вас в театр, и мы еще пообщаемся.
М. Лайтман: Спасибо Вам!