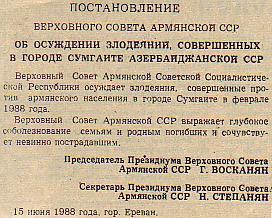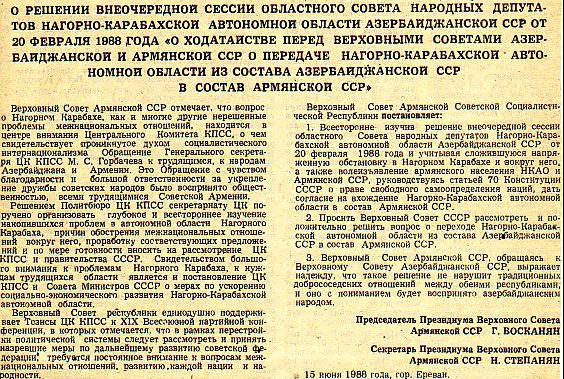-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
-
-
1 июня 1988 года началось регулярное вещание Карабахского телевидения через ретрансляционную станцию №5 города Шуши. 2 июня. В газете «Бакинский рабочий» сообщалось о заседании бюро ЦК КП Азербайджана, которое, «придавая важное значение последовательной реализации задач», определенных постановлением ЦК КПСС И СМ СССР «О мерах по ускорению социально-экономического развития НКАО в 1988-1995 гг.», «специально рассмотрело ход выполнения данного решения. Было решено: создать в Степанакерте в 1988 г. филиал ин-та «Азгоспроект», в 1991 г. в Баку начнет работу армянский драмтеатр; 64 (больше на 24 чел.) юношей и девушек из НКАО в 1988-1990 гг. по целевому назначению будут приняты в 11 вузах Арм. ССР, а также приняты и другие перспективные меры». 4 июня несколько человек в Ереване объявляют голодовку (среди них герой Социалистического Труда Гарник Манасян). 6 июня. На заседании Политбюро Горбачев высказывается следующим образом: «С чем мы никогда не согласимся, — это поддержать один народ в ущерб другому. Пусть нас на этот счет не шантажируют. Мы не позволим, не должны ни в коем случае допустить, чтобы истину искали через кровь!» Громыко призывает к привычному средству: «Появится на улице армия, и сразу будет порядок». Чебриков возражает. Яковлев предлагает на год взять «управление НКАО в Москву». Шеварднадзе высказывается за немедленное придание НКАО статуса автономной республики. Лигачев пытается синтезировать все эти идеи: «Уже сейчас 20 тысяч беженцев. Люди без крова. Если статус республики для НКАО не поможет — ввести войска, демонтировать заводы, распустить партийные организации, исполкомы, наводить порядок». Горбачев поддерживает предложение о повышении статуса НКАО до автономной республики. 9 июня первые секретари ЦК Компартий Азербайджана (А. Х. Везиров), Армении (С. Г. Арутюнян) и Нагорно-Карабахского обкома партии (Г. А. Погосян) были приглашены в ЦК КПСС для обсуждения вопроса Нагорного Карабаха. 10 июня 1988 г. Группа депутатов Верховного Совета АрмССР обратилась в Президиум Верховного Совета республики с предложением внести на рассмотрение сессии Верховного Совета АрмССР вопрос о решении внеочередной сессии областного Совета народных депутатов НКАО АзССР от 20 февраля 1988 г. «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Президиум Верховного Совета Арм. ССР сообщил, что данный вопрос будет внесен на рассмотрение предстоящей сессии Верховного Совета республики. 13 июня Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР рассмотрев, принял постановление «О ходатайстве депутатов Совета народных депутатов НКАО о передаче области из Азербайджанской ССР в состав Арм. ССР». Причем в нем речь идет не о решении сессии облсовета, принятого днем раньше, а о «ходатайстве депутатов» НКАО, которое было отклонено, как лишенное «законных оснований». Это постановление было затем подтверждено 7 сессией ВС Аз. ССР II созыва: «Обсудив в соответствии со статьями 78 Конституции СССР и 70 Конституции Азербайджанской ССР, согласно которым территория республики не может быть изменена без ее согласия, ходатайство депутатов областного Совета, Президиум Верховного Совета Азербайджана счел его неприемлемым. Но решил: внести этот вопрос в повестку дня сессии». По инициативе новоиспеченного руководителя Азербайджанской ССР А. Везирова в Баку созывается общегородской митинг, после которого толпа отправилась громить армянские районы города; правоохранителям Баку удалось удержать толпу. 15 июня 1988 года в день сессии, на которой должен был обсуждаться Карабахский вопрос, на Театральной площади Еревана собралось много народу. Участники сидячей демонстрации вынесли из здания Оперного театра телевизор, и все, кто пришел на площадь, могли следить за ходом сессии (по требованию демонстрантов правительство согласилось вести прямую трансляцию из Дворца съездов). Депутатам, выступающим с принципиальных позиций (один из них, в частности, требовал осудить геноцид армян в Сумгаите), буквально затыкает рот председатель Верховного Совета, пытаясь протащить заготовленное заранее решение. В считанные минуты многотысячная толпа перемещается к зданию Дворца съездов. Здание окружают вооруженные солдаты. Демонстранты садятся и скандируют: «Позор! Предатели! Трусы!». Таким образом, спустя два с половиной месяца после погромов в Сумгаите и почти три месяца после исторической сессии областного совета народных депутатов НКАО, Верховный Совет Армянской ССР являет миру два своих постановления. Первое касалось событий в Сумгаите. Вот оно: Второе постановление ВС Арм. ССР касалось решения сессии облсовета народных депутатов НКАО. Вот его текст: К этому времени обстановка в регионе была чрезвычайно накалена. Что касалось беженцев из Сумгаита, то по официальным данным, предоставленным Комиссией по рассмотрению вопросов граждан, переехавших из Сумгаита, на июнь месяц 1988 года в республике находились 702 сумгаитские семьи - всего 2780 граждан. Был решен вопрос о постоянном месте жительства в Армянской ССР для 471 семьи - 1822 граждан. 45 семей изъявили желание обосноваться в Степанакерте, 46 - в Баграмяне. 85 семей пыталось обменять свои квартиры на квартиры и собственные дома азербайджанцев, изъявивших желание уехать из Масиса, Джермука и Капана в Азербайджанскую ССР. 118 семей собиралось получить земельные участки под строительство собственных домов в Абовяне, Аштараке и Наири. Мои личные впечатления о так называемом изгнании азербайджанцев из Капана достаточно просты. Я призывался в ряды Советской армии в 1988 году, когда азербайджанцы еще жили здесь. Демобилизовался, соответственно, в 1990 году - азербайджанцев уже не было. Многие, естественно, оказались в выигрыше, получив взамен своих сельских домов в высокогорном Сюнике благоустроенные городские квартиры бакинских, кировабадских, шамхорских и т. д. армян. К началу конфликта в Сюнике азербайджанцы проживали в селах Агуди (сейчас и до тюрков - Агиту), Урут (Воротан), Кзлджуг (Сапатадзор), Кзлшафаг (Торуник), Джомардлу (Танаhат), Аревис. Села Шаки и Вагуди (Вагатин) были смешанными; общая численность тюрков составляла около 37 тысяч человек, из них 3 тысячи - в Сисиане, 2 села в Горисе, село Нювади (Нрнадзор) в Мегри (последнее тюркское село в Армении, «обмененное» на Арцвашен) и 20 процентов (!) населения Капана, а также около 1500-1600 человек в окрестных селах. Вообще, бывшие тюркские села в Сюнике достаточно легко даже сегодня отличить от чисто армянских. Армянский дом - обязательно четырехстенный, каменный, основательный, часто с облицованным фасадом. Дома тюрков в их горных селах были трехстенными, то есть дом задней своей частью как бы уходил в гору и, фактически, горный склон и являлся четвертой стеной дома. Сами дома обычно были простыми, без особых изысков и практически не облицовывались. Другой характерной приметой тюркского села служило его кладбище. Для армян похороны, и вообще все, что связано с погребением и кладбищем - очень важный ритуал, требующий серьезных материальных затрат. Могильные камни, как правило, представляют собой или орнаментированные хачкары или профессионально выполненные надгробья. В тюркских селах зачастую могильный камень представлял собой грубо обработанную глыбу камня с кустарно выполненными надписями на кириллице. Возвращаясь к судьбе беженцев из Советского Азербайджана, скажу, что постсумгаитский период (с марта по октябрь1988 года) - время, когда, вследствие напряженности в межнациональных отношениях, начался массовый жилищный обмен между жителями Армянской и Азербайджанской ССР, это то короткое время, когда еще можно было что-то как-то обменять. В 1989 году погромы охватят весь Азербайджан и спасти что-либо, кроме собственной жизни, будет практически невозможно.
-
21 февраля 1988 года в Кремле собралось Политбюро ЦК КПСС, рассматривался вопрос о Нагорном Карабахе. Разумовский сообщил, что 12 февраля в Степанакерте собрание партийных и хозяйственных руководителей высказалось за присоединение к Армении, а 13 февраля прошел митинг. Были названы и «два лица, которые будоражили публику», — сотрудник ереванского института Госплана Мурадян и инструктор обкома Карапетян. Была озвучена информация о позиции руководителей республик. Багиров настаивал, чтобы центр подтвердил и гарантировал неизменный статус НКАО. Демирчян выступал за то, чтобы рассмотреть обращение областного Совета НКАО в Верховных Советах Азербайджана, Армении и Советского Союза. Рыжков высказался, что «действовать надо конституционно». Чебриков выразил мнение, что нужен не один шаг, а несколько: провести совместное заседание, послать из Москвы людей, к которым прислушиваются. Лигачев буквально взбесился оттого, что "какие-то экстремисты позволяют себе говорить от имени народа". В итоге было принято постановление, согласно которому требование о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов» и противоречащее интересам Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Постановление ограничилось общими призывами к нормализации обстановки, выработке и осуществлению мер по дальнейшему социально-экономическому и культурному развитию автономной области. То есть по сути политическое решение проблемы центр пытался подменить социально-экономическими мерами. Центральные органы власти и в дальнейшем, несмотря на обострение обстановки, будут руководствоваться этим постановлением, непрерывно заявляя, что «перекройки границ не будет», "перестройка - не перекройка" и т. д.: "Изучив информацию о развитии ситуации в Нагорно-Карабахской автономной области, Центральный Комитет КПСС считает, что действия и требования, направленные на пересмотр существующей национальной и территориальной структуры, противоречат интересам трудящихся Советского Азербайджана и Советской Армении и создают угрозу межнациональным отношениям". На состоявшихся пленумах районных и городских комитетов партии области (кроме Шушинского р-на) с некоторыми выводами указанного постановления ЦК КПСС не согласились. Власти Азербайджана пытались воспрепятствовать обнародованию решения сессии в газете "Советский Карабах", но народ, окружив типографию, дождался выхода в свет полного тиража газеты на армянском и русском языках. Попытка довезти оригинал решения до Еревана наткнулась у Шуши на блокпост азербайджанской милиции, пришлось повернуть, а потом инсценировать сценку с гробом старого большевика, где вместо покойника лежали бумаги, привезти "тело" в Степанакертский аэропорт и вертолетом направить в Ереван. В этот же день радио и телевидение Азербайджанской ССР сообщили о том, что происходящие волнения в НКАО дело рук отдельных экстремистских группировок. Вечером 21 февраля в Агдаме состоялось расширенное совещание городского партийного актива с участием представителей ЦК компартии Азербайджана во главе с лидером азербайджанских коммунистов К. Багировым. Тем временем, в правоохранительные органы поступили первые сообщения об избиении лиц армянской национальности, ножевых ранениях, разбитых автомашинах. 22 февраля. В Степанакерт рано утром спецрейсом прибывает ряд партийных, советских, профсоюзных руководителей Азербайджана (некоторые уже были на месте), а чуть позже кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС Г. П. Разумовский (секретарь ЦК КПСС) и П. И. Демичев (зам. пред. Президиума ВС СССР), которые приняли участие и выступили на состоявшемся во второй половине дня партхозактиве области. В принятой резолюции, в частности, говорилось, что «действия и требования, направленные на пересмотр существующего национально-территориального устройства НКАО, противоречащие интересам трудящихся Азербайджанской ССР и Армянской ССР, наносят вред межнациональным отношениям, могут, если не принять сейчас ответственных мер, привести к непредсказуемым или даже трудно поправимым последствиям». Разумовский и Демичев находились в Степанакерте с 22 по 23 февраля; они встречались с партийными руководителями, представителями общественности - и даже выступили на непрекращающемся митинге с обещанием объективно изложить в Москве суть происходящего. Стотысячный митинг в Ереване. Первый секретарь ЦК Компартии Армении Демирчян объявил по республиканскому телевидению, что требование о воссоединении не может быть удовлетворено и что "дружба между народами является нашим бесценным богатством и гарантией будущего развития армянского народа в семье братских советских народов". Когда же его, наконец, вынудили выступить перед митингующими на Театральной площади, Демирчян выглядел крайне раздраженным и даже бросил в толпу риторический вопрос: неужели люди считают, будто Карабах "лежит у него в кармане". 22-го февраля толпа азербайджанцев из Барды и Агдама (около 8 тыс. человек - рабочие, учащиеся техникумов, старшеклассники), вооруженная палками и камнями, двинулась на Степанакерт, чтобы «проучить армян» (Аскеранский инцидент). Вступив на территорию Аскеранского района НКАО, они разбились на группы и принялись "наводить порядок": крушили все на своем пути, останавливали встречные автомобили, громили их, избивали водителей и пассажиров, громили объекты хозяйственного назначения, разгромили или сожгли несколько промышленных предприятий, сельскохозяйственных строений, торговые павильоны, автотранспорт и сельхозтехнику близлежащих армянских сел. Лишь на окраине Аскерана толпы погромщиков были остановлена силами двух сотен армян, вооруженных охотничьими ружьями, под руководством Самвела Карапетяна и двадцати отрядов милиции, в том числе и собственно агдамской. Сотни молодых жителей Степанакерта, прибывшие на подмогу аскеранцам, стояли в ожидании, готовые отразить натиск толпы, если бы ее не сдержали милиционеры. Два азербайджанца из числа нападавших были убиты. Точно известно, что одного из них сразила пуля азербайджанского милиционера.К вечеру все нападавшие были выдворены из района. Около полусотни раненых в результате этого жителей НКАО были доставлены в больницы. Следствие по делу о нападении азербайджанцев на Аскеранский район было начато прокуратурой СССР, но, подобно многим другим, ничем не завершилось. Характерно, что в сообщении ТАСС, повторенном затем Центральным Телевидением и Всесоюзным Радио, говорилось о гибели двух азербайджанцев не в результате похода последних на Аскеран, а "в результате столкновения между жителями Агдама и Аскерана". Одновременно в самом Агдаме был остановлен и подвергся нападению рейсовый автобус, следовавший из карабахского райцентра Мартуни в Ереван; пассажирам были нанесены телесные повреждения; сам автобус был разбит. В тот же день в Агдаме было совершено нападение на автомашину марки "КамАЗ", принадлежащую Межколхозстрою Нагорного Карабаха. Водитель М. Минасян и главный инженер В. Багдасарян подверглись жесточайшим избиениям толпы, в результате чего В. Багдасарян скончался, а М. Минасян потерял зрение. 22-23 февраля. Первые митинги в Баку и Сумгаите, в частности, митинг в здании АН Азербайджанской ССР с участием академика З. Буниятова. Основной лозунг: "НКАО - неотъемлимая часть Азербайджана". 23 февраля. Прекращатилось движение автотранспорта из Армении в НКАО. Митинг на Театральной площади Еревана собрал 300 тысяч человек. Ряд предприятий и учреждений, в частности, транспортники столицы Армении объявили забастовку в знак солидарности с карабахскими армянами. Собрание партактива Армении, обсудив постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1988 г. принимает резолюцию, в пункте 3 которой говорится: "Просить ЦК КПСС при подготовке Пленума ЦК КПСС по проблемам национальной политики всесторонне рассмотреть в комплексе с другими проблемами вопрос Нагорного Карабаха". В общесоюзной прессе (газета "Известия") выходит первая публикация о Нагорном Карабахе - "Что имеем - сохранить", подготовленная в Баку. 24 февраля 1988 г. Сообщение ТАСС в "Правде" о «выступлениях части армянского населения с требованием о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР». В сообщении говорилось, что «в результате безответственных призывов отдельных экстремистски настроенных лиц с обеих сторон были спровоцированы нарушения общественного порядка». Таким образом, гласно выраженное стремление всего армянского населения НКАО, подтвержденное решением главного органа советской власти области, по существу, было приравнено к «провокации националистических элементов». Пленум Нагорно-Карабахского обкома партии (80 голосами против 10) одобрил резолюцию областного Совета. Пленум освободил первого секретаря обкома Е. С. Кеворкова от занимаемой должности за недостатки в работе. Первым секретарем обкома избран его заместитель Г. А. Погосян. В работе пленума приняли участие Разумовский и Демичев. Однако избрание Погосяна создало новые проблемы для Москвы: спустя несколько месяцев он, пользовавшийся большим уважением среди карабахских армян, сам стал сторонником кампании за воссоединение с Арменией. В Ереване создан Оргкомитет по воссоединению. Его почетными председателями избраны писательница С. Капутикян и президент АН Армении В. Амбарцумян. В Ереван продолжают прибывать колонны демонстрантов из городов и районов республики. В самой области люди выражают недовольство тем, что сообщения центрального телевидения и печати о событиях в НКАО составлены на основе необъективной информации. В этот же день состоялось собрание партактива Азербайджана, обсудившее положение в НКАО. В принятой резолюции полностью поддерживалась оценка, данная ЦК КПСС и указывалось, что "национальный вопрос требует пристального и постоянного внимания к национальным особенностям, психологии, учета жизненных интересов трудящихся". В телеграмме проживающих в Москве старых большевиков О. Шатуновской, В. Вартаняна, Г. Акопяна и др. на имя М. Горбачева, говорилось об исторической несправедливости административно-территориального размежевания Нагорного Карабаха и Нахичевана, о коренной причине требований армянского населения НКАО, которая искажается и по существу поощряет азербайджанских руководителей на продолжение своей линии. 25 февраля состоялся телефонный разговор М. С. Горбачева с Г. А. Погосяном. Генсек ЦК КПСС интересовался обстановкой в области; в эти же дни телефонную связь с партийным руководством в Баку поддерживал по поручению Горбачева секретарь ЦК КПСС А. И. Лукьянов. 25 февраля в ереванском митинге участвовало более миллиона человек. Вообще в течение 8 дней, пока происходили демонстрации (в этом были признания даже в центральной прессе), не было зафиксировано ни одного правонарушения. В Ереване в связи с карабахскими событиями находится посланец Центра - секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих. 25 февраля в город Ереван вводятся пять тысяч солдат внутренних войск, которые перекрывают движение по ряду улиц в центральной части города, а также блокируют площадь перед Оперным театром и прилегающий парк; затем прибывают новые подразделения. 26 февраля. Находившийся в Ереване секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих по телевидению Армении зачитал обращение М. С. Горбачева «К трудящимся, к народам Азербайджана и Армении», в котором глава государства призывал "проявить гражданскую зрелость и выдержку, вернуться к нормальной жизни и работе, соблюдать общественный порядок". Обращение было опубликовано в центральной прессе. После оглашения обращения участники митинга в Ереване приняли решение прекратить массовые акции и «ударным трудом в субботние и воскресные дни наверстать упущенное». Горбачев принимает в Москве армянских писателей Зория Балаяна и Сильву Капутикян и высказывает свою позицию видения карабахского вопроса, более смахивающую на подстрекательство, чем на защиту Закона, Конституции, прав человека и народов. Он впервые произносит зловещую фразу: "А вы подумали о судьбе 400 тысяч армян, которые живут в Азербайджане?" По словам Шахназарова, Горбачев охарактеризовал то, что происходит вокруг Карабаха, как «удар нам в спину. С трудом приходится сдерживать азербайджанцев, а главное — создается опасный прецедент. В стране несколько десятков потенциальных очагов противостояния на этнической почве, и пример Карабаха может толкнуть на безрассудство тех, кто пока не рискует прибегать к насильственным средствам». Горбачев отверг идею передачи Нагорного Карабаха Армении, но пообещал провести в регионе реформы в области культуры и экономики. Со своей стороны, Балаян и Капутикян согласились обратиться к людям на Театральной площади с призывом приостановить демонстрации на месяц. Состоявшийся пленум ЦК КП Армении в принятом постановлении отмечал: "Пленум расчитывает на изучение и рассмотрение проблем Нагорного Карабаха в комплексе с другими вопросами, которые станут предметом обсуждения на пленуме ЦК КПСС по проблемам национальной политики, и просит ЦК КПСС образовать в связи с этим соответствующую комиссию". В этот же день в г. Капан прибывает генерал А. Макашов с полномочиями мобилизовать войска из Нахичеванской АССР. В Капане тем временем работает комиссия под председательством заместителя начальника штаба войск Закавказского Военного Округа генерала В. И. Дреева. Проверяющие из ЦК КПСС, КГБ и МВД СССР, штаба ЗакВО никаких признаков готовящихся в Капане беспорядков не обнаруживают, а в отчете этой комиссии напрочь отрицаются какие-либо инциденты в Капане на этнической почве. Было зафиксировано лишь два правонарушения: попытка поджога азербайджанской школы ее же директором-азербайджанцем и нападение на поезд Ереван-Капан. 27 февраля. В Степанакерте остановились все предприятия. В городе прошел митинг под лозунгами: «Не хотим ни хлеба, ни воды, нам нужна Мать-Армения!», «С Азербайджаном - никогда!». Сюда прибыл зам. зав. отделом ЦК КПСС К. Н. Буртенц с группой ответственных работников центральных органов (в их числе зам. пред. АПН К. А. Хачатуров, зам. директора ИМА при ЦК КПСС М. П. Мчедлов), которые провели встречи и беседы с представителями предприятий, творческой интеллигенции, ветеранами партии, войны и труда. В Ереване после трансляции обращения Горбачева прекращаются митинги и демонстрации. Внезапный отъезд примерно 200 азербайджанцев из Капана в Баку одним поездом. По словам этих людей, причиной их отъезда были уговоры родственников из Азербайджана. По дороге поезд был задержан в райцентре Имишли, куда для бесед с пассажирами прибыли зампредсовмина АзССР А. Расизаде, руководители Имишлинского и Зангеланского районов Азербайджана и вызванные телефонограммой руководители Капанского района. Пассажиры заявили об отсутствии у них претензий к армянам, после чего поезд продолжал путь. При возвращении машины с представителями Капана на территории Азербайджана были забросаны камнями агрессивно настроенной толпой. 26-29 февраля. Сумгаит. Все о Сумгаите: http://sumgait.info/sumgait/sumgait-1988.htm http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=302641 http://sumgait.info/caucasus-conflicts/nag...akh-facts-7.htm http://karabah88.ru/conflict/karabah/13.html Добавление: 27-го февраля в Сумгаит прибыли I секретарь ЦК Компартии Азербайджана Багиров и председатель Совета Министров республики Сеидов. Они встретились с горожанами. Вопли и крики толпы заглушили их речи. Они вышли через черный ход клуба и буквально спаслись бегством в Баку. 28 февраля, осознавая, что нужна общеармянская организация, которая будет руководить Движением, на собрании активистов в Ереване, в Доме писателей, был создан Организационный комитет воссоединения "Карабах", ставший впоследствии неофициальным лидером общественного мнения республики. Членами комитета стали: Игорь Мурадян, Вазген Манукян, Ашот Манучарян, Амбарцум Галстян, Гагик Сафарян, Аркадий Карапетян и руководители карабахских районных организаций - Славик Арушанян, Виген Ширинян, Володя Хачатрян и Артур Мкртчян. Вскоре комитет возглавит Левон Тер-Петросян, будущий президент Армении. 28 февраля 1988 г. группа азербайджанской молодежи г. Кировабада общим числом до тысячи человек, вооруженная металлическими прутьями и палками, в сопровождении работников управления внутренних дел города, вторглась в армянские кварталы города. Толпа прошлась по центральным улицам (Шаумяна, Джапаридзе) армянской части города, ломая окна и двери армянских домов, избивая по пути прохожих-армян. Сопротивление армян в районе поселка инженерно-технических работников (ИТР), где местное армянское население, воспользовавшись компактностью проживания, сумело организовать оборону и вмешательство военнослужащих позволило приостановить погромы и избежать резни. Погромщики, получив достойный отпор, отступили. По пути они разбивали окна, забрасывали дома камнями. Несколько защитников города получили ранения различной степени тяжести, но обошлось без человеческих жертв, хотя и были понесены значительные материальные убытки: было разгромлено и разграблено несколько десятков армянских домов, сожжено несколько автомашин. В следующие дни, впервые в городе появились военные патрули с дубинками и щитами. В течение нескольких дней силами местной власти были восстановлены и ''косметически'' отремонтированы дома и государственные объекты (магазины, киоски) в армянской части города. Дальнейшие события в городе развернулись по следующему сценарию. В предприятиях и учреждениях армян заставляли подписывать письма о неправомерных действиях армянского населения НКАО. Дети в школу ходили только в сопровождении родителей. Со стороны властей шла подготовка крупномасштабного погрома армян. Работники ЖЭК-ов составляли списки армян по адресам. Квартиры армян отмечались крестом, направлялись письменные угрозы, чтобы они покинули свои дома. 28 февраля 1988 – Верховный совет СССР отклонил требование Областного совета НКАО о воссоединении с Арменией. 29 февраля 1988 года - заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором был рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах в связи с событиями в Азербайджанской и Армянской ССР». http://sumgait.info/sumgait/politburo-meet...bruary-1988.htm 29 февраля, в последний день погромов в Сумгаите, в Степанакерт из Баку прибыл Демичев, объявивший на митинге, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение вернуться к рассмотрению проблемы Нагорного Карабаха. Митинг в АН АзССР. На "ковер" к учёным явился кандидат в члены бюро ЦК КПА, первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана Сахиб Алекперов. Уже выступил академик Буниятов и сообщил о свыше двухстах пятидесяти убитых. Выступил Сахиб Алекперов и заявил, что преступление совершили "экстремисты, рецидивисты и хулиганы". После комсомольского вожака на трибуну поднялась Лейла Юнусова, сотрудница Института истории АН. "Это - не рецидивисты и хулиганы совершили преступление. Это - воспитанники октябрятской, пионерской и комсомольской организаций. Этих преступников воспитала система!". В результате в Ереван, в Президиум АН АрмССР ушла телеграмма следующего содержания: «Уведомление телеграфом. Ереван. Президенту Академии наук АрмССР тов. Амбарцумяну. Взываем к Вашей совести. В третий раз за неполные сто лет вы являетесь зачинщиками жестоких столкновений между братскими народами. Обратитесь к Вашей интеллигенции, остановите бесчинства ваших сограждан. Как можно требовать землю соседа. Азербайджан не пирог, от которого можно отрезать лакомый кусок. Если не Вы, то кто же остановит разбушевавшуюся толпу. Это ведь только на руку зарубежным армянам-экстремистам. Наш интернациональный долг предупредить об этом Вас. Сотрудники АН АзССР. 250 подписей». В Ереван с миссией прибывают секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих и депутат ВС А. И. Лукьянов. В марте 1988 года в НКАО введены части и подразделения внутренних войск МВД СССР. 1 марта 1988 г. в Степанакерте 1 марта на митинге в Степанакерте избираются 66 представителей народа, они на заседании создают общественно-политическую организацию армян «Крунк» («Журавль») во главе с директором Степанакертского комбината стройматериалов А. Манучаровым , заместители Вардан Акопян и Роберт Багдасарян. Организованные 10 комиссий курируют разные направления деятельности "Крунка". «Идеологической секцией» комитета руководил Роберт Кочарян, секретарь парткома Степанакертской шелкопрядильной фабрики. Заявленными целями комитета «Крунк» являлись изучение истории региона, его связей с Арменией, восстановление памятников старины. На деле комитет взял на себя функции организатора массовых протестов. 1 марта 1988 года на внутренней полосе «Известий» появилось небольшое сообщение ТАСС, в котором говорилось, что «28 февраля в Сумгаите (Азербайджанская ССР) группа хулиганствующих элементов спровоцировала беспорядки. Имели место случаи бесчинства и насилия...» 2 марта 1988 года рано утром в ЦК Компартии Армении были приглашены представители интеллигенции, где в кабинете первого секретаря ЦК КПА К. Демирчяна прошла их встреча с командированными Горбачевым партийными функционерами Долгих и Лукьяновым. Секретарь ЦК КПСС Долгих заявил: «Ну что, дождались? Позавчера в Сумгаите начались беспорядки, в результате которых имеются человеческие жертвы. Около двадцати человек убиты, двенадцать изнасилованных. Сожжено, разорено, ограблено более двухсот квартир. Сожжены сотни машин, магазинов, ларьков». Присутствовавший на встрече один из самых авторитетных и активных деятелей Карабахского движения Игорь Мурадян сказал: «Вот именно, нельзя судьбы народов отдавать во власть необузданной и дикой стихии, зверей, способных лишь на погромы и геноцид, а не на мирные митинги с портретами Горбачева и проперестроечными лозунгами. В создавшейся ситуации вам придется взять Карабах под протекторат Москвы». В НКАО по поручению ЦК КПСС прибывает группа ученых в составе академиков Т. С. Хачатурова и Н. С. Ениколопова, член-корреспондентов АН СССР И. Г. Атабекова и А. С. Саркисяна, профессоров М. А. Саркисова и Р. А. Срапинянца, которые в течение недели досконально изучали вопрос и сделали глубокий анализ происходящего. 3 марта 1988 г. Вопрос о НКАО рассматривается на внеочередном заседании Политбюро. В этот же день комитет по воссоединению Нагорного Карабаха с Армянской ССР выступает с обращением к ООН, парламентам и правительствам всех стран, Всемирному Совету церквей, Социалистическому Интернационалу, коммунистическим и рабочим партиям, Международному красному кресту, в котором говорилось: «Мы обвиняем руководство Советского Азербайджана, ряд ответственных работников ЦК КПСС в преступлении против армянского народа». 5 марта организация "Крунк" регистрируется официально. 6 марта в НКАО объявлен траур по жертвам сумгаитской трагедии. В Степанакерте на территории комплекса павшим воинам была установлена памятная плита по погибшим в Сумгаите. 8 марта начинается массовое переселение сумгаитских армян в Армянскую ССР, НКАО, города Российской Федерации. На бюро Нагорно-Карабахского обкома партии рассмотрен вопрос "О событиях, происшедших в гор. Сумгаите и об оскорблениях армянской нации в республиканской прессе и по телевидению". 9 марта в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором были заслушаны сообщения руководителей партийных организаций Азербайджана (К. М. Багирова) и Армении (К. С. Демирчяна) об обстановке, складывающейся в этих республиках в связи с событиями Нагорном Карабахе, было решено признать наличие некоторых проблем экономического и культурного плана, породивших карабахское движение, и выразить готовность к разработке программ по их разрешению - но в рамках прежней автономии: "Решением политбюро Секретариату ЦК поручено организовать глубокое и всестороннее изучение накопившихся проблем в НКАО, причин межнациональных отношений вокруг нее, проработку соответствующих предложений и по мере готовности вносить на рассмотрение ЦК КПСС и правительства СССР". В Степанакерт прибыли секретарь ЦК КП Азербайджана Оруджев, зам. председателя Совета Министров, председатель Госплана республики Муталибов, зав. экономотделом ЦК Самедзаде с группой министров республики с целью навязать проект постановления о социально-экономическом развитии области, что было категорически отклонено руководством области. Подобная попытка предпринималась и в последующие дни с участием ответственных работников союзных органов, которые также не дали результата ввиду затяжки решения основного вопроса - воссоединения НКАО с Армянской ССР. Делегация "Крунка" во главе с Робертом Кочаряном 11 марта едет в Москву, встречается с секретарем ЦК КПСС Е.Лигачевым, Е.Примаковым, но возвращается разочарованной. 17 марта 1988 г. в Степанакерте прошел крупнейший митинг армянского населения НКАО, в котором приняли участие 75 тысяч человек. Собравшиеся люди требовали выхода Карабаха из АзССР и передачи его в состав Армении. В этот же день было направлено ходатайство местной советской власти Шаумянского сельского района и Геташенского подрайона о включении их в состав НКАО. Пленум Нагорно-Карабахского обкома КПСС поддержал решение облсовета НКАО о присоединении к Армении: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО ОБКОМА КП АЗЕРБАЙДЖАНА О ТРЕБОВАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ, КОММУНИСТОВ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НКАО К АРМЯНСКОЙ ССР 17 марта 1988 г. Пленум Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана постановляет: выражая чаяния армянского населения автономной области, волю подавляющего большинства коммунистов Нагорного Карабаха, просить Политбюро ЦК КПСС рассмотреть и положительно решить вопрос присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской ССР, исправив тем самым допущенную в начале 20-х годов историческую ошибку при определении территориальной принадлежности Карабаха. 18 марта ряд членов и кандитатов в члены политбюро ЦК КПСС встретились с деятелями науки и культуры азербайджанской и армянской национальности, проживающих в Москве. На встрече говорилось о том, что "в развитии межнациональных отношений есть трудности, доставшиеся нам от прошлого, есть и проблемы, которые порождаются течением времени". В ЦК КПСС также состоялась беседа Е. К. Лигачева с группой представителей трудовых коллективов НКАО. В Политбюро ЦК КПСС направлено письмо сотрудников Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, в котором предлагалось "передать автономную область в непосредственное подчинение Москве или включить ее в состав РСФСР"; при этом авторы письма дали развернутый и точный прогноз развития событий в случае отказа решить проблему политическим путем. ЦК КП Азербайджана обсудил вопрос "О грубых недостатках в организаторской работе среди населения, политической близорукости и бездеятельности бюро Сумгаитского горкома партии в предотвращении трагических событий в городе". 19 марта на собрании движения «Карабах» было объявлено, что все многочисленные документы о преступлениях против армянского населения НКАО, собранные во время февральских демонстраций в Ереване и отправленные в прокуратуру СССР с просьбой хоть сейчас рассмотреть эти вопросы опять возвращены в прокуратуру Азербайджана. 21 марта 1988 года. Заседание Политбюро, большую часть которого заняли дебаты о том, как укрепить стремительно падающий авторитет партии в Армении. "Решается кардинальный вопрос, - заявил Горбачев на заседании. - Речь идет о судьбе нашего многонационального государства, о судьбе нашей национальной политики, заложенной Лениным". Горбачев выступал против использования силовых методов для подавления оппозиционного движения в Армении, однако наметил ряд жестких мер для подрыва авторитета "Комитета Карабах". Эти меры включали полный контроль над местными средствами массовой информации, отключение телефонной связи между Арменией и зарубежными странами, запрет на посещение региона иностранными журналистами и, в случае необходимости, арест активистов "Комитета Карабах": "Видимо, мы должны говорить в прессе более откровенно и изолировать, но так, чтобы не сделать из них героев". Главная газета СССР, орган ЦК КПСС газета «Правда» опубликовала большой материал «Эмоции и разум.». Эта статья в значительной мере задала тон и направление всех последующих публикаций в центральной печати о проблеме Нагорного Карабаха. В статье, по сути дела, утверждалось, что кризис вокруг Нагорного Карабаха порожден не дискриминацией армянского населения в Азербайджанской ССР и стремлением народа Нагорного Карабаха исправить историческую несправедливость. Карабахское движение авторами статьи объяснялось происками безответственных экстремистов, разжигающих страсти и толкающих людей на нарушения общественного порядка; содержались в статье и намеки на то, что руководство Армянской ССР втайне поддерживает движение, тем самым отвлекая перестроечную критику в свой адрес. Корреспондент «Правды» по Армянской ССР Юрий Аракелян, чья фамилия значилась под материалом наряду с фамилиями московского и бакинского «правдистов», публично отказался от своей подписи под ним, заявив, что его информацию из Еревана просто выбросили, и что он не давал своего согласия на соавторство материала в том виде, в каком он появился в «Правде». Первое письмо академика Андрея Сахарова Генсеку ЦК КПСС М. С. Горбачеву: "Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! Я решил обратиться к Вам по двум наиболее острым в настоящее время национальным вопросам: о возвращении крымских татар в Крым и о воссоединении Нагорного Карабаха и Армении. В каждом из этих случаев речь идет об исправлении несправедливости в отношении к одному из народов нашей страны. Автономная национальная область Нагорный Карабах была присоединена к Азербайджанской ССР в 1923 г. В настоящее время примерно 75 % населения составляют армяне, остальные - курды, русские, азербайджанцы. В 1923 году доля армян была еще выше - до 90 %. Исторически вся область Нагорный Карабах (Арцах) являлась частью Восточной Армении. Можно предполагать, что присоединение Нагорного Карабаха к Азербайджану было произведено по инициативе Сталина, в результате внутренних и внешнеполитических комбинаций того времени, вопреки воле населения Карабаха и вопреки предыдущим заявлениям Сталина и руководства Азербайджана, на протяжении последующих десятилетий оно явилось постоянным источником межнациональных трений. Вплоть до самого последнего времени имеют место многочисленные факты национальной дискриминации, диктата, ущемления армянской культуры. В обстановке перестройки у армянского населения Карабаха возникла надежда на конституционное решение вопроса. 20-го февраля на сессии областного Совета депутатов было принято решение о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджана, СССР о передаче области в состав Армянской ССР. Ранее аналогичные решения были приняты на сессиях четырех из пяти районных советов депутатов. Решения районных и областных советов были поддержаны многотысячными мирными демонстрациями в области и в Армении. Несомненно, во всем проявились новые демократические возможности, связанные с перестройкой. Однако дальнейшее развитие событий не было благоприятным. Вместо нормального конституционного рассмотрения ходатайства органов Советской власти начались маневры и уговоры, обращенные преимущественно к армянам. Одновременно появились сообщения в прессе и по телевидению, в которых события излагались неполно и односторонне, а законные просьбы армянского населения объявлялись экстремистскими, и заранее как бы предопределялся негативный ответ. К сожалению, приходится констатировать, что уже не в первый раз в обострившейся ситуации гласность оказывается подавленной как раз тогда, когда она особенно нужна. Все это не могло не вызвать соответствующей реакции. В Ереване, в Нагорном Карабахе и в других местах произошли забастовки и новые демонстрации, которые носили законный и мирный характер. Но в Азербайджане в последние дни февраля произошли события совсем другого рода: трагические, кровавые, вольно или невольно напоминающие 1915 год. Я думаю, что события в Азербайджане, как и волнения 1986г. в Алма- Ате, спровоцированы и, может, организованы силами местной антиперестроечной мафии в ее арьергардной борьбе. Так или иначе, перестройке брошен вызов. Я надеюсь, что руководство страны, Политбюро, ЦК КПСС, Верховный Совет найдут способ - соответствующий ситуации: решительный, демократический, конституционный. Поднятые в этом письме проблемы стали пробным камнем для перестройки, ее способности преодолеть сопротивление и груз прошлого. Нельзя вновь на десятилетия откладывать справедливое решение этих вопросов и оставлять в стране постоянные зоны напряжения. С глубоким уважением. Академик Андрей Сахаров. 21 марта 1988 г. Дополнение Это письмо передано Генеральному секретарю 21 марта. Я считаю важным сделать к нему следующее дополнение. Я призываю к решениям, основанным на спокойном и по возможности беспристрастном учете интересов каждого из народов нашей страны. Мне представляется необходимым в соответствии с Конституцией СССР рассмотреть ходатайство Областного Совета народных депутатов Нагорного Карабаха в Верховном Совете Азербайджанской ССР и в Верховном Совете Армянской ССР. В случае разногласия арбитражное решение должен вынести Верховный Совет СССР. Я призываю Верховные Советы Азербайджана, Армении и СССР учесть ясно выраженную волю большинства населения автономной области и областного совета как главное основание для принятия конституционного решения. В эти тяжелые дни я обращаюсь с просьбой и призывом к народам Азербайджана и Армении полностью исключить насилие. Было бы величайшей трагедией, если бы ответом на уже совершенные чудовищные преступления стали бы новые. 24-го марта опубликовано постановление Президиума Верховного Совета СССР о положении в Нагорном Карабахе. Однако, в этом постановлении не высказано отношение к решению областного Совета. Я надеюсь, что это еще не последнее слово Верховного Совета СССР и его Президиума. Андрей Сахаров". Об этом письме, призывающем к справедливости, известный правозащитник напомнил в своей статье, опубликованной в газете «Московские новости» (№14 от 3 апреля1988 г.) под заголовком «За спокойствие и мудрость». Само же содержание письма стало известно общественности гораздо позже. 22 марта Президиумы Верховных Советов всех союзных республик провели заседания, на которых было обсуждено положение, сложившееся в НКАО, Азербайджанской и Армянской ССР и «выразили обеспокоенность и тревогу в связи с этим и просили Президиум Верховного Совета СССР принять решительные меры, направленные на соблюдение требований советской Конституции на территориях указанных республик, на дальнейшее укрепление Союза ССР и всех его государственных и автономных образований». 23 марта. Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О мерах, связанных с обращением Союзных республик по поводу событий в Нагорном Карабахе, в Азербайджанской и Армянской ССР», в первом пункте которого, в частности, говорилось: «…Признать недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем давления на органы государственной власти, в обстановке нагнетания эмоций и страстей, создания всякого рода самочинных образований, выступающих за перекройку закрепленных в Конституции СССР национально-государственных и национально-административных границ, что может привести к непредсказуемым последствиям…» Интересно, что Президиум ВС СССР в своем постановлении ссылается не на статью 73 Конституции СССР, позволяющую высшему органу государственной власти утверждать изменения границ между союзными республиками и образовывать новые автономные республики и автономные области в составе союзных республик, а на ст. 83, которая в первую очередь охраняет права союзных республик от посягательства из вне и о защите "революционных завоеваний трудящихся перед лицом империализма". В Степанакерте начинается забастовка, связанная с публикацией в газете "Правда" статьи "Эмоции и разум". В область вводятся десантные войска. 24 марта 1988 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают Постановление «О мерах по ускорению социально-экономического развития Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в 1988–1995 гг.». Это постановление фактически проигнорировало конституционное требование карабахских армян, трансформировав политическую проблему в сугубо экономическую. Особое внимание вызывал здесь следующий пункт: "Признать недопустимым... пересмотр закрепленных в Конституции СССР национально-государственных и национально- административных границ". Между тем, в конституции никогда не было статей, определяющих границы каких бы то ни было государственных образований - и, более того, Верховный Совет СССР, согласно Конституции (статья 73) обладал правом не только изменять границы союзных республик, но даже образовывать в их составе новые автономии. Однако в Постановлении, в частности, говорилось: «Разработать и осуществить комплекс мероприятий по дальнейшему проведению работ по реставрации и восстановлению памятников истории и культуры, находящихся на территории Нагорно-Карабахской автономной области, имея в виду привлекать к этим работам армянских мастеров-специалистов по реставрации», что фактически означало официальное признание армянского происхождения христианских храмов на территории Арцаха. Помимо этого семилетний план, на выполнение которого выделялось 400 млн. руб. предусматривал строительство в Нагорном Карабахе школ, больниц, заводов, дорог (в частности, реконструкцию дороги Горис-Лачин-Степанакерт), а также возможность принимать программу армянского телевидения. В этот же день Президиум ВС Азербайджанской ССР принял постановление, в котором определялись задачи по выполнению постановления Президиума ВС СССР от 23 марта 1988 года. В частности, было решено распустить общество "Крунк" и возглавляющие его органы - комитет и совет (п. 4), запрещалось проведение несанкционированных собраний (п. 6) и т. д. В тот же день Верховный Совет Армении запрещает деятельность комитета "Карабах". 26 марта 1988 г. в Ереван были введены дополнительные советские войска, хотя заместитель министра внутренних дел СССР В. Трушин констатировал, что в Ереване "не отмечено никаких нарушений общественного порядка"; в городе продолжались массовые митинги, сидячие забастовки и голодовки. Указ Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР о роспуске комитета "Крунк". В марте 1988 года на должность второго секретаря (негласно действовавший институт наместничества в лице командируемых из центра "вторых секретарей" для контроля над местными лидерами) из Москвы прибыл некий Мальков. Однако он оказался не в состоянии управлять местными партийными функционерами, поскольку последние могли противостоять давлению "сверху", опираясь на поддержку "снизу". 31 марта. По областному радио передано и опубликовано в газете "Советский Карабах" обращение к коммунистам, всем трудящимся Нагорного Карабаха от имени обкома партии, облисполкома, облсовпрофа. 4 апреля. В связи с создавшейся тяжелой ситуацией члены и кандидаты в члены бюро обкома партии посылают письмо в Политбюро и Генсеку ЦК КПСС о положении дел в Нагорном Карабахе и просят решить поднятый народом вопрос положительно. 5 апреля. Трудящиеся области постепенно возвращаются к нормальному трудовому ритму, возобновляют занятия учебные заведения. В Степанакерт прибывает зам. Зав. отделом оргпартработы ЦК КПСС В. С. Бабичев, по инициативе которого на следующий день созывается бюро обкома партии с участием ряда руководящих работников области, где он просит наладить ритмичную работу всех предприятий области, что поможет ЦК КПСС в спокойной обстановке рассмотреть вопросы, поднятые трудящимися области. Поступают заявления лиц армянской национальности о фактах насилия над ними в Шуше, а также в соседних с областью районах. 10 апреля. Из Еревана в Степанакерт прибыл зав. отделом машиностроения ЦК КПСС А. И. Вольский, который выступил на ряде промышленных предприятий города. В частности он сказал: "А разве было бы плохо, если бы Верховные Советы обеих республик собрались бы вместе и обсудили возникший вопрос, и может быть, пришли бы к общему выводу". Начиная с этого дня он будет неоднократно посещать НКАО в качестве представителя ЦК КПСС, проводить совещания, давать инструкции, а с сентября 1988 г. фактически будет руководить введенными в регион войсками. 15 апреля. Глава правительства В. И. Воротников принял пятерых посланцев Нагорного Карабаха во главе с А. Манучаровым, которые вручили обращение арцахцев о возвращении Нагорного Карабаха в состав России, согласно Гюлистанскому и Туркменчайскому договорам между Россией и Персией, когда Нагорный Карабах вошел в состав России на "вечные времена" - так было подчернуто в них. 26 апреля. В эфир ЦТ выходит передача "Позиция" под заголовком "Нагорный Карабах - размышление вслух" (ведущий телепередачи публицист Г. Боровик месяцем раньше побывал в области со своей операторской группой), в которой правдиво и объективно освещались события в НКАО и "вокруг него". 27 апреля 1988 года Совмин АзССР утвердил постановлением №145 список памятников истории и культуры, находящихся в НКАО, подготовленный Минкультом АзССР, Академией наук республики и азербайджанским Добровольным обществом охраны памятников истории и культуры, в котором все памятники армянского зодчества назывались "албанскими" (самое смешное, что в постановлении Совета Министров АзССР № 140 от 2 апреля 1968 года, утверждавшем список памятников, подлежащих государственной охране, не было никаких «албанских» храмов). 1 мая. Первомайская демонстрация в Степанакерте переросла в митинг, участники которого вновь выдвинули требование о воссоединении Нагорного Карабаха с Армянской ССР. 3 мая подразделения МВД вводятся в смешанное село Тог. 8 мая в Степанакерте прошла сидячая забастовка, участники которой не высказывали никаких требований, а просто молчали. На постамент статуи Ленина был водружен флаг Армянской ССР. В связи с решением Верховного Совета Азербайджанской ССР, согласно которому деятельность комитета "Крунка" была запрещена, возникла необходимость в создании альтернативной структуры, способной возглавить Движение. Было решено восстановить деятельность функционировавшего еще до карабахских событий Совета директоров, что обуславливалось также тем обстоятельством, что более половины членов "Крунка" (порядка 35-40 человек) являлись директорами предприятий г. Степанакерта. Совет директоров возобновил свою работу в мае 1988 года, через 1,5 месяца после запрещения "Крунка", и действовал вплоть до конца 1991 года, когда были проведены выборы в Верховный Совет НКР. 11 мая. В связи с назначением на должность зам. прокурора области азербайджанца, в Степанакерте проходят демонстрации и митинги протеста, которые переходят в забастовку, прекращенную через два дня ввиду приостановки приказа о назначении зам. прокурора. 12 мая. Группа депутатов ВС СССР и республики, знатныелюди области послали обращение в Президиум ВС СССР и депутатам высшего органа госвласти страны с просьбой положительно решить просьбу о воссоединении НКАО с Арм. ССР. 14-15 мая. В Шуше прошли митинги, в каждом из которых приняли участие до 6 тысяч человек. Они носили явно националистический характер, высказывались угрозы расправы над армянами, проживающими здесь. Было принято обращение в ЦК КПСС, Президиум ВС СССР, содержащее антиармянские требования вплоть до ликвидации автономной области. Армяне Шуши начинают покидать город. 15 мая в Баку на площади им. Ленина состоялся первый большой общегородской митинг, собравший около 15 тысяч человек. На трибуне стояли ответработники ЦК, Совмина и Бакинского горкома. Те ораторы, которые угрожали армянам или же оскорбляли их, удостаивались аплодисментов. Ораторов, которые хотели успокоить людей и заверяли их в решимости и способности руководства республики «дать отпор», освистывали. Толпа ринулась к трибуне, большинство руководителей республики спешно бежало за железную ограду, во внутренний дворик Дома Советов. Толпу еле удалось остановить, уговорить направить 500 "делегатов" в Верховный Совет для встречи с "руководством". В этот же день состоялся первый 30-минутный выход в эфир новосозданного Нагорно-Карабахского телевидения. Затем осуществлялась ежесуточная часовая программа вещания. 17 мая. Демонстрация в Ереване и всеобщая забастовка в Степанакерте в знак протеста против мягкого приговора сумгаитского суда, вынесенного днем ранее по делу «непосредственных участников в массовых волнениях». Нагорно-Карабахский обком партии обсуждает вопрос "О провокациях в г. Шуше" и создает при обкоме пресс-центр, который стремится оперативно передавать сообщения о событиях в области. В этих же целях в Степанакертском горкоме партии создается телефонная линия "Доверие". От имени бюро обкома партии направляется новое письмо в ЦК КПСС. 18 мая. В газете "Бакинский рабочий" опубликовано обращение ЦК КП Азербайджана, Президиума ВС Аз. ССР, Совмина Аз. ССР в связи с новой волной "митинговой демократии", вызванной складывающейся ситуацией в Нагорном Карабахе, Азербайджане и Армении и "чреватой непредсказуемыми последствиями". В этот же день в Баку состоялся еще один общегородской митинг, в котором участвовало около 30 тысяч человек, и где также бушевали страсти и по Карабаху, и по бездеятельности республиканского руководства. 20 мая. Группа депутатов ВС республики и облсовета в количестве 119 человек направила Обращение в Президиум ВС Аз. ССР и его депутатам, а также в Президиум ВС СССР и Арм. ССР с просьбой положительно решить вопрос о присоединении НКАО к Армении. 21 мая. К. Демирчян смещен с поста первого секретаря компартии Армении. Его место занял С. Арутюнян. В Баку на пленуме отправляют в отставку К. Багирова. На его место назначается доставленный Е. Лигачевым бывший посол СССР в Пакистане А. Везиров. По вопросу Нагорного Карабаха Лигачев на пленуме заявляет, что вопрос закрыт, исчерпан и никогда не будет рассматриваться. Погосяну, первому секретарю обкома Карабаха, который присутствовал там, слова не дали. Многотысячный митинг в Баку с требованиями восстановить Багирова и лозунгами: «Армяне, русские, евреи – вон из Азербайджана!» Войска вводятся в Степанакерт. Усиливается военный контингент в Ереване. В знак протеста против ввода войск и заявления Лигачева в Карабахе начинается новая забастовка. В мае же в Шуши проходят погромы армян, по инициативе Шушинского районного комитета КПСС проходит депортация практически всего четырехтысячного армянского населения Шуши (в городе после этих событий остается всего около 30 армянских семей). В результате жестоких побоев, нанесенных группой азербайджанцев, в городе Шуши погиб 23-летний житель города Валерий Петросян. Еще одна делегация "Крунка" во главе с Гамлетом Григоряном едет в Москву, но ничего не меняется. 21 мая 1988 г. на Пленуме ЦК КП Азербайджана бывший первый секретарь Сумгаитского горкома КП Азербайджана Муслим-заде публично обвинил в трагических событиях в Сумгаите руководителей республики. Об этом более подробно он выказывался на бюро ЦК КП Азербайджана накануне при рассмотрении его персональной ответственности. 22 мая. Началась третья забастовка в Степанакерте. Она связана со слухами о том, что секретарь ЦК КПСС Е. Лигачев, находясь в Баку, заявил, что вопрос об НКАО решен и больше обсуждаться не будет. Обком партии направил письмо в ЦК КПСС с просьбой подтвердить ранее данные заверения о том, что вопрос Нагорного Карабаха не снят с повестки дня. В газете "Бакинский рабочий" опубликовано постановление ЦК КП Азербайджана "Об ответственности Кеворкова Б. С. и других руководителей за события в НКАО". 26 мая в Ереване начинается сидячая демонстрация с требованием рассмотреть обращение областного Совета Карабаха и дать на него положительный ответ. Демонстрация продлилась 21 день. 27 мая. Бюро обкома партии и исполкома областного совета, первые секретари райкомов партии, председатели рай- и горисполкомов (кроме Шушинского) направили письмо в Политбюро ЦК КПСС с просьбой с учетом сложившейся тяжелой ситуации в области до окончательного решения статуса области временно вывести НКАО из подчинения Аз. ССР с тем, чтобы в спокойной обстановке глубоко и тщательно разобраться в проблеме Нагорного Карабаха и принять справедливые решения. 28 мая в день Первой республики в Ереване впервые вывешивается запрещенный флаг - красно-сине-оранжевый триколор. 29 мая. Состоялась встреча руководителей парторганизаций Азербайджана (А. Х. Везирова и В. Н. Коновалова) и Армении (С. Г. Арутюняна и Ю. П. Кочеткова), которые посетили районы двух республик (Иджеванский и Казахский) и рассмотрели вопросы, связанные с усилением экономических и культурных связей. В мае руководителей комитета "Карабах" (З. Балаяна, И. Мурадяна и др.) заменяют новые имена: Левон Тер-Петросян, Вазген Манукян, Бабкен Араркцян, Амбарцум Галстян, Рафаэл Казарян, Ашот Манучарян, Вано Сирадегян, Самвел Геворкян, Давид Варданян, Самсон Казарян, Алексан Акопян.
-
Начало современного этапа карабахского конфликта принято связывать с 20 февраля 1988 г., когда сессия облсовета НКАО приняла безобидное по последующим меркам решение: обратиться к Верховным Советам СССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР с просьбой о передачи автономии из состава Азербайджана в состав Армении. Острейшая реакция на это решение облсовета явилась показателем разлома эпох - хотя тогда об этом и никто не мог предполагать, заканчивался этап существования СССР и начинался период его распада. Одним концом этот акт был обращен в прошлое и апеллировал к системе, в которой некий партийный орган мог в течение суток принять решение об оставлении Нагорного Карабаха в составе Армении, а затем - о включении его в состав Азербайджана. Решение облсовета продолжало семидесятилетнюю традицию закрытых и открытых писем в ЦК КПСС, петиций и резолюций трудовых коллективов, просивших верховную власть пересмотреть статус Нагорного Карабаха. Это было явлением внутрисистемным. Но в решении облсовета было и принципиальное отличие. Прежние формы не нарушали принятых в системе правил: “трудящиеся” обращались с предложениями, не претендуя на участие в решении. Принимать же решения было монополией высших партийных органов, прежде всего - Политбюро. Только после принятия им решения “инициатива трудящихся” могла быть оформлена в виде решений облсоветов, Верховных Советов и т. д. Если демонстрации, митинги и даже забастовки хоть и исключительно редко, но имели место в истории СССР, то несанкционированное решение представительного органа создавало для существовавшей системы опаснейший прецедент. И если в декабре 1987 г. “ходоков” из Нагорного Карабаха, привезших петицию с 80 тысячами подписей достаточно лояльно приняли в ЦК КПСС, то решение облсовета вызвало на Старой площади крайне болезненную реакцию. Сразу же ТАСС распространил сообщение, в котором ничего не говорилось о самой сессии, а происшедшее квалифицировалось так: “В последние дни в НКАО Азербайджанской ССР имели место выступления части армянского населения о включении НКАО в состав Армянской ССР. В результате безответственных призывов отдельных экстремистски настроенных лиц были спровоцированы нарушения общественного порядка”(в дальнейшем выяснилось, что заявление ТАСС повторяло оценку Политбюро). Обвинение в экстремизме было политическим и влекло крайне опасные последствия. Это заявление должно было закрыть вопрос. Но через несколько дней появился дополнительный штрих, свидетельствующий о новых веяниях: обком компартии НКАО позволил себе выразить несогласие с решением Политбюро. В создавшейся ситуации местные функционеры предпочли поддержать требования населения, нежели беспрекословно исполнять инструкции из Москвы. Поскольку при централизованном иерархическом управлении контроль из Москвы осуществлялся через Баку, то, порывая связи с Баку, Нагорный Карабах по сути становился бесконтрольным, и местное руководство предпочло возглавить народное движение, нежели его подавлять (в дальнейшем подобную тактику избрало также руководство Армении и Азербайджана). А миллионные митинги и демонстрации в Армении в поддержку решения облсовета ставили под вопрос возможность компартии Армении управлять ситуацией. Такое в существовавшей системе в самом деле было “нарушением общественного порядка”, не могло быть прощено и подлежало искоренению. И судьба Карабаха оказалась в зависимости от того, насколько жизнестойкой окажется система: сумеет ли она покарать ослушников или же Карабах добьется своего? Центральные власти беспокоил не сам вопрос, а демократические формы его поднятия. Как было сформулировано в Постановлении Президиума Верховного Совета СССР от 23. 03. 1988, “признать недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем давления на органы государственной власти”. Был пущен в ход термин “уличная демократии” (видимо, в противоположность ставшей дозволенной на Старой площади “кабинетной демократии”). Но еще существеннее стала задача дискредитации и подавления демократического движения путем трансформации его в межнациональный конфликт. Это подавление осуществлялось а двух измерениях. С одной стороны, традиционными для советского строя репрессивными методами (введение войск, аресты). Однако на первых порах провозгласивший курс на перестройку коммунистический режим основным средством избрал идеологическое и информационное подавление. А карательно-репрессивное измерение было предоставлено осуществлять “отбросам общества”( слова М. Горбачева о Сумгаитских погромщиках). Воскрешая напряженность в армяно-азербайджанских отношениях, власти Москвы и Азербайджана с самого начала - Сумгаитом и сумгаитами - спровоцировали именно конфликтообразующие компоненты проблемы. Вопрос Карабаха из сферы государственного права государственно организованными погромами был перенесен в кровавую трясину межнациональных отношений, постепенно засасывающую уже весь регион. Эти два якобы отдельно развивавшихся направления дополняли друг друга (погромы использовались для введения чрезвычайных мер, но эти меры использовались не для предотвращения насилия, а для репрессий) и в 1991 полностью слились - депортацию и погромы совместно осуществляли уже не т. н. “отбросы”, а солдаты Советской Армии и отряды милиции особого назначения Азербайджана. Сурен Золян "НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ПРОБЛЕМА И КОНФЛИКТ", гл. 7
-
20 февраля. Под председательством прибывшего в Степанакерт первого секретаря ЦК КП Азербайджана К. М. Багирова состоялось заседание бюро обкома партии, где принято постановление о совещании с частью партхозяйства НКАО для проведения разъяснительной работы. В день проведения областной сессии, на которой должен был решаться вопрос о воссоединении НКАО с Арменией, работники ГАИ, милиция, спецслужбы МВД, добровольцы из азербайджанского населения блокировали все дороги, связывающие Степанакерт с районами, чтобы не допустить на сессию делегатов-армян из глубинки. Объявленная на 16 ч. Внеочередная сессия областного Совета народных депутатов начинает свою работу около 20:00, на четыре с лишним часа позже намеченного срока, в крайне нервной атмосфере. Попытка пригласить в здание обкома партии из зала облисполкома коммунистов-депутатов для "беседы" не увенчалась успехом. Тогда партийные руководители республики и области прибыли в зал заседания сессии облсовета и попытались принудить депутатов отказаться от ее проведения. И это не увенчалось успехом. Уже ночью, обсудив единственный вопрос, включенный в повестку дня, 111 присутствовавших депутатов-армян единогласно проголосовали за резолюцию, призывавшую к воссоединению Нагорного Карабаха с Советской Арменией. Азербайджанские депутаты (39 человек) на сессию не явились. В отчаянной и едва ли не комичной попытке Кеворков попытался выкрасть официальную печать, которой требовалось скрепить текст принятого решения. ---------------------------------------------------------------- РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НКАО XX СОЗЫВА "О ХОДАТАЙСТВЕ ПЕРЕД ВЕРХОВНЫМИ СОВЕТАМИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И АРМЯНСКОЙ ССР О ПЕРЕДАЧЕ НКАО ИЗ СОСТАВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР В СОСТАВ АРМЯНСКОЙ ССР" от 20 февраля 1988 г. Заслушав и обсудив выступления депутатов областного Совета народных депутатов НКАО о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, внеочередная сессия Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов решила: идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.
-
В 1985 году в армянском селе Браджур (26 бакинских комиссаров) Ханларского района армянское население заставили продать свои дома, которые практически сразу были заселены азербайджанцами. С середины 1986 и весь 1987 год в Москву без конца шли телеграммы и заказные письма. Авторы их уже не просили, а требовали решить вопрос Карабаха. Речь о тысячах и тысячах корреспонденций. Подготовленная в августе 1987 года Академией наук Армении петиция, содержавшая просьбу о передаче Армянской ССР Нагорного Карабаха и Нахичевана была подписана сотнями тысяч армян. В 1986 году частично разрушена церковь Хрештакапетац (1816 год) у села Гарнакер Шамхорского района; разобрана на стройматериалы церковь (ХIХ век) села Патишен (Бадакенд) того же района. В 1987 году срыта бульдозером и сброшена в ущелье церковь (IХ-ХI вв.) в 8 км южнее села Бананц Дашкесанского района; "для строительства железной дороги" разрушен взрывом мост "Нерки Анди" (ХII век) того же района. События в Чардахлу в 1987 году: http://sumgait.info/caucasus-conflicts/chardakhlu.htm Конфликт был связан с попыткой районной азербайджанской администрации убрать директора совхоза, противившегося дальнейшему разорению богатого хозяйства испытанными методами властей республики. Здесь было и укрупнение хозяйства путем присоединения к мощному чардахлинскому совхозу убыточных хозяйств удаленных азербайджанских сел, и отрезание от армянского села земель и т. п. С июля по ноябрь 1987 года, первый секретарь Шамхорского райкома компартии М. Асадов, пользуясь безусловной поддержкой партийного руководства республики, проводил политику выживания армянского населения из села Чардахлу. Отчаявшиеся жители села направили в Москву делегацию из 18 человек. Делегация была принята во многих союзных инстанциях, но вмешательство Москвы ограничилось увещевательными звонками в Баку. За продажу 20 тонн ненужной совхозу соломы соседнему хозяйству Асадов отобрал партийный билет и освободил от занимаемой должности директора чардахлинского совхоза С. А. Егияна, предложив ему уехать в Ереван... Народ не согласился с противозаконными действиями Асадова. Последовали оскорбления и угрозы высылкой. За три месяца из района были посланы семь комиссий, чтобы найти компрометирующие материалы против Егияна. Однако, несмотря на тенденциозность проверки, улик не обнаружили. Не установили нарушений и две комиссии из Баку. Но Асадов не унимался. Посланный в Чардахлу секретарь райкома комсомола направил машину на возмущенных женщин, отстаивающих свои права, и нанес им увечья. 11 октября. Группа арцахских интеллигентов направляет заявление Генеральному прокурору СССР М. А. Рекункову, требуя на основе предъявленных ими обвинений, сопровождаемых стопкой документов, открыть судебное дело на Гейдара Алиева (в то время I секретарь ЦК Компартии Азербайджана) и действующие под его руководством власти. Однако адресат, не распечатав конверт, возвращает его обратно отправителю. Такое же заявление против алиевской администрации, согласно уголовному кодексу Азербайджанской ССР по ст.67 о "нарушении национального и расового равноправия", было отправлено главе советского государства М. С. Горбачеву. В заявлении азербайджанским властям и лично их лидеру Г. Алиеву предъявлялись следующие обвинения, касающиеся Нагорного Карабаха и других районов, где исконно проживали армяне: создание невыносимых условий для жизни и выдворение из собственных домов лиц армянской национальности; торможение развития социально-экономических условий; уничтожение и осквернение историко-архитектурных памятников армянской культуры, искажение истории и клевета на армянский народ. 18 октября 1987 г. в Ереване в парке им Пушкина под предводительством Игоря Мурадяна проходит демонстрация протеста в связи с событиями в селе Чардахлу Шамхорского района Азербайджанской ССР, на которую собралось порядка 250 человек. 18 ноября в интервью французской газете "Юманите" академик Абел Аганбегян изложил свою точку зрения на вопрос о Нагорном Карабахе: «Я бы хотел узнать о том, что Карабах, расположенный к северо-востоку от республики стал армянским. Как экономист я считаю, что он больше связан с Арменией, чем с Азербайджаном. В этом плане я внес одно предложение. Я надеюсь, что в условиях перестройки, демократии эта проблема найдет свое решение». 1 декабря 1987 года в 20:00 первый секретарь Шамхорского района Асадов лично, в сопровождении более полусотни сотрудников районной милиции и пожарных машин прибыл в Чардахлу, чтобы провести партийное собрание по решению вопроса о назначении нового директора совхоза. Когда этого сделать не удалось, последовали репрессии. Были избиты и арестованы 30 человек. 1 декабря 1987 г. В Москве делегация карабахских армян передала обращение к властям СССР заведующему приемной ЦК КПСС А. Кригину. Под переданным обращением к властям СССР о передаче Нагорного Карабаха из состава АзССР в состав Армении уже стояли подписи более 75 000 карабахских армян, собранные в течение 1986-1987 гг. Как выяснили имеющие доступ в высшие партийные государственные структуры представители армянской интеллигенции Москвы, документы так и остались в приемной. 7 января 1988 года Игорь Мурадян привозит в Москву большую делегацию из НКАО. Было подготовлено 84 документа исторического, этнографического значения и касающихся экономики и культуры Нагорного Карабаха, и порядка 81 тысячи петиций за подписями народных депутатов областных, районных советов, председателями колхозов. Делегацию принимает заведующий приемной ЦК КПСС А. Кригин. 8 января 1988 г. В Москве два члена очередной делегации карабахских армян - Вазген Балаян (Сос) и Артур Мкртчян (Гадрут) передали обращения, подписи, письма, требования о передачи НКАО в состав Армении кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, 1-му заместителю председателя Президиума Верховного Совета СССР П. Н. Демичеву . Под переданными документами уже стояли свыше 81 000 подписей карабахских армян – в том числе народных депутатов областных, районных советов, председателями колхозов. Демичев сообщил об озабоченности сотрудников ЦК по поводу выдвинутого вопроса, отметив, что после Великой Отечественной войны вопрос этот ставится третий раз. Одновременно он вселил надежду: "В годы застоя не удалось решить этот вопрос, но в условиях перестройки, несомненно, будет вынесено правильное решение". Он подтвердил, что в ЦК проводится изучение архивов и даже думают о создании комиссии по вопросу Нагорного Карабаха. П. Демичев обещал не квалифицировать встречу как визит преследующих националистические цели лиц. Более того, он заверил, что предпримет все меры по пресечению незаконных действий местных властей в отношении лиц, поднявших проблему. Артур Мкртчян показал ему документ о статусе НКАО, в котором об армянах и армянской области не было ни одного слова. Он сообщил Демичеву, что составители данного документа преследовали цель избавления от армянства, и в случае дальнейшего подобного отношения Карабах ждет участь Нахиджевана. 11 января делегации удается встретиться с зав. подотделом межнациональных отношений ЦК КПСС В. А. Михайловым. Ему были вручены третьи экземляры представленных ранее документов, а также несколько сот писем карабахцев. После состоявшейся встречи Михайлов обещал изучить проблему и доложить в секретариат ЦК, добавив, что вопрос Карабаха будет рассмотрен на предстоящей в июне партийной конференции . По его словам, Институту истории и этнографии Академии наук СССР было поручено подготовить соответствующие документы. В течение января-февраля на всех предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах области проходят общие собрания коллективов, первичных парторганизаций, сессии сельских, районных и городских Советов народных депутатов, на которых по требованию трудящихся обсуждается вопрос о воссоединении НКАО с Арменией. И везде единогласно постановляют просить вышестоящие органы решить этот вопрос положительно. Кроме того, в адрес центральных органов из НКАО начинают поступать телеграммы от отдельных лиц и трудовых коллективов с просьбой о воссоединении с Армянской ССР. В Степанакерте собирают подписи под петицией с требованием передать НКАО из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. В начале февраля заведующий подотделом межнациональных отношений ЦК КПСС В. А. Михайлов принимает еще одну делегацию из Арцаха. Эту же делегацию принимает министр иностранных дел СССР А. А. Громыко. В это же время газеты Спюрка регулярно печатают материалы о проблеме Арцаха. Особо выделялись в феврале рамкаварские газеты "Миррор Спектейтор" и "Пайкар", которые издавались в Бостоне. 11 февраля — в Степанакерт для предотвращения в области движения за воссоединение, контроля и дублирования деятельности руководителей партийных и правоохранительных органов выезжает многочисленная группа представителей руководства и Компартии Азербайджана, которую возглавляет второй секретарь ЦК КПАз Василий Коновалов. В группу входят также заведующий отделом административных органов ЦК КПАз (ранее — первый секретарь Шамхорского райкома КПАз) М. Асадов, заместители руководителей республиканских КГБ, МВД, прокуратуры, Верховного суда и обеспечивающие их безопасность сотрудники правоохранительных органов. 11 февраля до начала митингов состоялось совещание. Оно было подобно митингу. Здесь присутствовали 1-й секретарь обкома Б. Кеворков и 3-й секретарь ЦК КП Азербайджана Коновалов, были и другие сотрудники ЦК КП Азербайджана. На собрании выступил Б. Кеворков. Он говорил об имеющемся в последние годы экономическом прогрессе, политических вопросах, дружбе, привел многочисленные цифры из области образования и культуры (в подтверждение, якобы, успешного развития). И когда он закончил свое выступление, В. Григорян (секретарь Аскеранского райкома партии) обратился к сидящим: "Вот видите, все обстоит нормально, чего вы еще хотите?" И неожиданно объявил совещание закрытым. Это вызвало у всех недоумение и после минутного замешательства директор средней школы села Бадара Армен Аванесян смело направился к трибуне. Без всякого страха он представил положение Карабаха, его зависимость от Азербайджана и проводимую последним политику. После него в том же духе выступил редактор газеты "Кармир дрош" Комитас Даниелян, во времы выступления которого Коновалов бросал с места реплики: "Никакой проблемы нет, в Москве никто не будет слушать вас по поводу вашего вопроса". Выступавший еще не завершил свое выступление, как у трибуны оказался преподаватель русского языка и литературы Норагюхской средней школы Джамиль Мартиросян. В своем выступлении он сказал, что заявления Коновалова необоснованны, что он вернулся из Москвы, все обстоит нормально и в Москве обещали рассмотреть наш вопрос в ЦК… Ночь с 11 на 12 февраля — в Степанакерте проходит расширенное заседание бюро обкома КПАз с участием приехавших из Баку руководителей. Первый секретарь карабахского обкома партии Б. Кеворков самонадеянно сообщает, что из Баку пришла официальная информация, в которой подчеркивается: вопрос воссоединения НКАО с Арменией в ЦК КПСС не будет рассматриваться, в Кремле никто не принимает делегаций из НКАО. На бюро принимается решение осудить «националистические», «экстремистско-сепаратистские» процессы, набирающие силу в регионе, и провести 12-13 февраля «партийно-хозяйственные активы» в городе Степанакерте и во всех районных центрах НКАО. 12 февраля — В актовом зале Степанакертского горкома партии проводится городской партийно-хозяйственный актив с участием представителей из Баку, местных партийных руководителей, руководителей государственных учреждений, предприятий, профкомов и парторгов. В президиуме — Василий Коновалов, первый секретарь обкома Борис Кеворков, первый секретарь бюро горкома Завен Мовсесян. Мовсесян и Кеворков, выступая в начале собрания, заявляют, что за событиями в Карабахе стоят «экстремисты» и «сепаратисты», которым не удастся повести за собой народ. Василий Коновалов, продолжая эту мысль, заявляет, что организаторы известны и будут изолированы от общества, сепаратизм должен быть осуждён, а Карабах останется неотъемлемой частью Азербайджана. Первоначально собрание идёт по заранее подготовленному сценарию, и выступающие заявляют о нерушимом братстве азербайджанцев и армян и пытаются свести проблему к критике отдельных хозяйственных недостатков. Через некоторое время, однако, на трибуну прорывается Максим Мирзоян, который подвергает резкой критике Бориса Кеворкова за безразличие и пренебрежение национальной спецификой Карабаха, «азербайджанизацию» и проведение демографической политики, способствующей снижению доли армянского населения в регионе. Это выступление приводит к тому, что собрание выходит из-под контроля партийных руководителей, и члены президиума покидают зал. Известие о провале собрания дошло до Аскерана и Мардакерта, и районные партийно-хозяйственные активы также пошли не по намеченному сценарию. Попытка провести в тот же день партийно-хозяйственный актив в Гадрутском районе вообще привела к стихийному митингу (лишь в Мартуни партхозактив не состоялся из-за неявки прикрепленных лиц). Таким образом, планы азербайджанского руководства сгладить ситуацию оказались сорванными. 13 февраля 1988 года ровно в одиннадцать часов в Степанакерте на площади Ленина состоялся не спонтанный, а заранее организованный первый большой политический митинг - беспрецедентное для Советского Союза мероприятие. Одним из организаторов митинга был Игорь Мурадян. Открыл митинг своим выступлением Григорий Афанасян. На первом митинге собралось около 8 тысяч человек. Митинг продлился более часа. Главное требование - воссоединение НКАО с Матерью-Арменией. Звучали лозунги за перестройку, гласность, дружбу народов, в поддержку Горбачева. На транспарантах, которые несли митингующие, было: "Ленин, партия, Горбачев!" Вот слова одной из выступавших: "Выйдя сюда, карабахцы убили в себе раба". Здесь же впервые прозвучало слово, ставшее символом карабахского движения: "Миацум". К площади прибыла дивизия внутренних войск под командованием генерал-майоров Григорьева и Сафонова. Вечером члены бюро Гадрутского райкома партии были вызваны в Нагорно-Карабахский облкомитет партии, где присутствовали и руководители ЦК КП Азербайджана, которые засыпали районных руководителей обвинениями и упреками, говорили с ними в пренебрежительном и неуважительном тоне, переходя к открытым угрозам. В частности, небезызвестный Асадов попытался надавить на местное руководство НКАО: «Мы превратим Карабах в армянское кладбище». Информация об этом митинге от различных армянских общественных организаций пошла в американские газеты и в Посольство СССР в Вашингтоне. 14 февраля. Зав. отделом административных органов ЦК КП Азербайджана Асадов на совещании в Степанакертском горкоме партии заявил, что ожидается демонстрация азербайджанского населения, проживающего как в области, так и вне ее, и пригрозил: «Сто тысяч азербайджанцев готовы в любое время ворваться в Карабах и устроить бойню». Азербайджанское партийное руководство попыталось обратиться к населению НКАО через областную газету «Советский Карабах» с обращением, в котором происходящие события расценивались как «экстремистские и сепаратистские», инспирированные армянскими националистами. В результате вмешательства Совета директоров обращение так и не было опубликовано. На заседании Союза писателей Армении — одной из наиболее влиятельных общественных организаций республики в поддержку карабахских армян выступила поэтесса Сильва Капутикян. 15 февраля. Степанакертский горисполком и райисполкомы проводят сессии Советов народных депутатов, где принимаются решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. В НКАО вводятся дополнительные милицейские силы из соседних с областью районов. 16 февраля. До этого митинги и демонстрации проводились лишь после рабочего дня, а начиная с этого числа и до 2 марта люди уже не покидали центральную площадь города, и к ним присоединялись посланцы со всех концов области. Так народ Нагорного Карабаха выразил свою волю. Все последующие дни митинги, также, как и первый, проходили без эксцессов - спокойно и дисциплинированно. Тем временем исполнительные власти области оказываются расколотыми и утрачивают контроль над ситуацией. Руководство берет на себя Совет директоров, в который вошли главы крупных предприятий области и отдельные активисты. Совет принимает решение провести сессии городских и районных советов, а затем созвать сессию областного Совета народных депутатов. За несколько дней до знаменитой сессии облсовета в город Капан передислоцируется воинская часть «для предотвращения резни азербайджанцев, назначенной согласно поступившим в Москву сигналам на 20 февраля». В Армению еще в феврале-марте 1988-го введены внутренние войска и милиция, которые были сосредоточены преимущественно в Ереване и крупных городах. 18 февраля в Ереване состоялся митинг протеста против загрязнения окружающей среды. Демонстранты выражали недовольство состоянием озера Севан, экологической опасностью Мецаморской АЭС, химического комбината "Наирит" и т. д. В Баку распространена информация о том, что количество беженцев–азербайджанцев, в результате насильственных действий покинувших Армению, достигло 4-х тыс.человек. 19 февраля 1988 г. 160 военнослужащих специального моторизованного батальона милиции, дислоцированного в Тбилиси, вооруженные пластмассовыми щитами и резиновыми дубинками, по распоряжению министра внутренних дел Александра Власова прибыли в НКАО. Первый молодежный митинг в Баку перед зданием ЦК КПА, организованный активистами неформального кружка «Юрд» (Стойбище). Первая попытка армянского погрома в городе. После телевизионной программы "Время" было передано информационное сообщение Азеринформа о том, что ЦК КПСС никаких территориальных вопросов не рассматривал и рассматривать не будет. 20 февраля. 30-тысячный митинг на Театральной площади Еревана. Вообще, февральские митинги в Степанакерте и Ереване проходили с портретами Ленина, Горбачева и лозунгами «За перестройку, демократизацию, гласность». Ораторы апеллировали к ленинским принципам национальной политики — праву наций на самоопределение.
-
События, предшествовавшие знаменитой сессии областного Совета народных депутатов НКАО: http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=692878
-
На различных армянских (и не только) ресурсах имеются темы под названием "Хронология Карабахской войны". В данной теме будут собираться только документы, факты, публикации, при желании - личные воспоминания очевидцев тех событий. То есть попробуем здесь собрать как можно больше документального материала по теме, из которого в будущем можно будет составить некую летопись противостояния. Офф-топ запрещается и будет безжалостно удаляться.
-
Присоединяюсь к соболезнованиям. Пусть земля будет пухом...
-
Карэн МИКАЭЛЯН Бред без берегов Не так давно к 125-летию Феодосийской галереи, основанной Айвазовским, издательства "Энергия плюс" (Киев) и "Энергия дельта" (Симферополь) выпустили "Воспоминания об Айвазовском" печально известного Н. Кузьмина. Издатели отмечают, что книга впервые вышла в свет в 1901 году, через год после смерти художника. Стало быть, это как бы бесценный литературный "памятник". Литературные памятники издают, только снабдив их серьезным научным аппаратом, новейшими данными, исследованиями и т. п. В случае с кузьминским опусом издатели тиснули старую книжку без раздумий, один к одному, только отметили, что автор — "современник и преданный друг" прославленного мариниста. Специалисты, хорошо знающие всю "айвазовскиану", в частности искусствовед Шаэн Хачатрян, считают, что труд преданного друга полон грубейших ошибок, искажений и прочего брака. Особенно когда речь идет о происхождении художника. "...в жилах Айвазовского текла турецкая кровь, хотя его принято было у нас почему-то до сих пор считать кровным армянином", — печально констатирует Кузьмин. В достаточно ловко написанной книжке он рассказывает, как художник "вспоминал однажды в кругу своей семьи достоверное предание". Рассказ этот якобы был "первоначально записан с его слов и хранится в семейных архивах художника". Как оказалось, такого документа в архивах семьи отродясь не было. Так вот, Айвазовский якобы рассказал, что в 1770 году, при осаде русскими Бендер, в числе жертв оказался и секретарь бендерского паши, заколотый русским гренадером. Секретарь, сжимая в руках своего младенца, просит спасти его от русского же штыка. В последнее мгновение некий армянин удерживает руку со штыком и с криком "Остановись! Это сын мой! Он христианин" спасает дитя. Это-то и был, оказывается, отец художника, которого потом усыновляет благородный спаситель. Между тем книга рождений и крещений феодосийской церкви Сурб Саргис сохранила запись, сделанную 17 июля 1817 года, о рождении "Ованеса, сына Геворга Айвазяна". Буквально черным по белому. Имя мариниста было уже известно всему миру, когда в журнале "Русская старина" в 1878 году появилась беллетризованная биография художника, написанная П. Каратыгиным, на основании личных бесед между ними. Жуткий эпизод из осады Бендер там выглядит иначе. А именно — "Покойный отец художника рассказывал ему, что дед его при взятии Азова (18 июля 1696 года) был спасен..." — далее следует та же душераздирающая сказочная сцена. Эту липу далее повторила графиня Блудова, ссылаясь на некую старинную книгу. И пошло и поехало. Особенно расстарался Кузьмин, который не только перекантовал старую сказку, но и придумал, что благородный армянин назвал "отца" художника Константином и дал фамилию Гайвазовский от турецкого слова "гайзов" — секретарь. Фальсификатор Кузьмин не знал, что такого слова в турецком языке нет. И не было. И фамилии еще такой не было. Потому что, как пишет брат художника Габриэл, их с братом отец "по дороге из Молдавии в Россию взял имя Константин Григорьевич, а фамилию Айваз или Гайваз изменил на Гайвазовский, поскольку в России уже были другие Айвазовы..." Кузьмин (кстати, ничем другим как биографией Айвазовского не прославившийся) не только радикально изменил фабулу "плутовского романа", но и хорошенько переписал весь текст Каратыгина, добавляя нужные и убавляя не нужные ему куски. Иначе говоря, он полностью выкинул из биографии классика все армянское, сведя к неприличному минимуму. (Об отношении Кузьмина к "близкому другу" говорит такой характерный отрывок из его текста. "Со свойственным ему юмором он (Айвазовский — К. М.) рассказал забавный анекдот из своей жизни о том, как во время недавней резни турками беззащитных армян он, пламенея ненавистью к ним,.. отправился на берег Черного моря и бросил торжественно в воду ленту, турецкие ордена и звезду Османии..." Смелую гражданскую акцию Кузьмин превращает в этакий веселый пустячок.) Между тем сам художник никогда не забывал, кто он есть, и всю свою достаточно долгую жизнь оставался патриотом своего народа и исторической родины. Никаких старинных книг с упоминанием об отце-турке или деде-турке Айвазовского нет. Да и откуда было взяться в некоей книге такому эпизоду — достаточно незаметному в контексте войны? И почему никто об этой загадочной книге не знал, даже Габриэл Айвазян? Дальнейший ход событий ясен. С параноидальной последовательностью и упрямством — это мягко говоря — ошибка мелькает в каких-то текстах, в телепередачах, даже весьма компетентной "Культуры", совершенно не сочетаясь с действительностью. И вообще, как-то стараются совсем не упоминать, кто такой есть Ованес-Иван Айвазовский. Ни слова не говорится об армянской составляющей его жизни и творчества. Нелепая книжка недобросовестных издателей — характерный пример такого отношения. Почему именно в России, а теперь уже и в Украине так неровно дышат и напрягаются, когда речь заходит о национальности великого мариниста, трудно сказать. В конце концов, он ведь действительно принадлежит двум культурам — русской и армянской. И смешные политигры тут совершенно неуместны. Не за горами 200-летие художника, и хорошо бы, чтобы его имя к тому времени было очищено от спекуляций на тему. И именно мы должны сделать это.
-
отец Иоанн Марк История моей жизни отрывки из книги ДАЧА В АДЖИНЕ Родился я 26 января 1899 года в Киликии, в городе Османе, где отец мой был пастором евангельской церкви. В тот же год он переехал в Каре-Базары и начал там пасторское служение. Мои первые смутные воспоминания начинаются с двухлетнего возраста. Помню, однажды вечером мама одела меня в пижаму, приготовляя ко сну, но я никак не желал идти в кровать, так как знал, что к нам приедут гости и, значит, я лишусь лакомств и фруктов, которыми их будут угощать. Видя мое сопротивление, мать уложила меня спать. Я рассердился, встал, вышел на балкон и лег там на полу, лицом вниз. Мать снова отнесла меня на кровать. Когда я и в третий раз сделал то же, мать громко сказала: — Если хочешь простудиться и умереть, можешь оставаться на балконе. Мать ушла. Умирать я, конечно, не хотел, но мне стало холодно, а гордость не позволяла мне самому встать и лечь в постель. И я подумал: если мать еще раз придет за мной, я больше не вернусь на балкон. Но она не приходила. И я пошел на хитрость: начал умышленно храпеть, притворившись спящим. Мать решила, что я действительно уснул, подошла тихо ко мне, осторожно взяла на руки и отнесла на кровать. А я про себя смеялся, что так хитро вышел из трудного положения. Мать не могла представить, что ее двухлетний сынишка уже способен обманывать. Но такова греховная природа человека. Не случайно псалмопевец Давид произнес слова: “Во грехах родила меня мать моя...” Летом мы часто приезжали в город Аджин, на родину моего отца. У нас была там прекрасная дача. Помню, как умерла там моя младшая сестра, по этому случаю собралось много народа, и одна девушка носила меня на руках и, плачущего, успокаивала. Вспоминаю еше одну поездку на дачу. Лил сильный дождь, мы промокли насквозь. Ехали на лошадях до местности, которая называлась Сахал Тутан (хватающий за бороду). Там часто разбойники нападали на людей и грабили их, но нас Бог хранил. В пути мать рассказала нам, детям, об одном храбром водителе каравана по имени Назар. Он долго боролся с напавшим черкесским разбойником, но в конце концов тот вонзил в живот Назара кинжал, и тот умер. Этот рассказ меня очень огорчил, и я думал, что если бы был взрослым, то не успокоился бы до тех пор, пока не нашел этого разбойника и не отомстил за Назара. Я помню также и тот молитвенный дом, где часто проповедовал мой отец, в городе Хаджет, и ту семью, которая пригласила нас к себе в гости. Перед началом обеда невестка с прикрытым лицом подошла к отцу, сняла его носки, вымыла ему ноги и надела новые носки. Это был добрый старый обычай, сохранившийся еще в семьях города Аджин. Запомнились и красивые виноградники с громадными гроздьями. Туда мы ездили к друзьям отца, они угощали нас хлебом, сыром, виноградом и холодной водой из источника. Природа в тех местах очаровательна. Когда мы возвращались из Аджина караваном на лошадях по каменистой дороге через лес до города Сие, я не отводил глаз от роскошных деревьев, лужаек, равнин и думал: “Как красиво все устроено на земле!” ВОСПОМИНАНИЯ О КАРЕ-БАЗАРЕ Каре-Базар в те времена был маленьким городком в Киликии, населенным армянами и турками. Армяне жили в отдельной части города очень дружно. К нам почти каждый вечер и даже ночью без приглашения приходили гости. В праздничные дни близкие родственники и друзья посещали друг друга с утра до поздней ночи, угощались сладостями, и нас, детей, это очень радовало. В ночь перед Рождеством дети ходили по домам и пели рождественские песни. За это они получали вознаграждение: фрукты, сладости, а иногда и деньги. А в рождественское утро все шли в церковь еще при свете свечей. Дети с нетерпением ожидали Рождества, одевались в новую одежду и спешили в церковь, чтобы петь там праздничные хоралы. В нашей евангельской церкви сбор пожертвований по случаю праздников производили дети. В это время они пели по-турецки короткую песню, повторяя ее несколько раз. В переводе на русский она звучала так: “Пусть падают, падают лепты во славу Иисуса Спасителя”. Однажды на Пасху дошла очередь и до меня собирать пожертвования. Мне было около четырех лет. Когда я с пением шел по рядам с тарелкой, заметил богатого человека — он был единственным в городке торговцем солью — и, подойдя к нему, я изменил слова и пропел: “Пусть падают, падают золотые монеты во славу Иисуса Спасителя”. Купец понял, что песня обращена к нему. Он вытащил из кошелька золотую монету и положил ее на тарелку. Моей радости не было предела. Пасхальный праздник продолжался три дня. После утреннего богослужения нищим раздавали обеды, катали яркие крашеные яички. Иногда, чтобы доставить удовольствие публике, молодые люди устраивали состязания по борьбе. Недалеко от города протекала река Саврын с кристально чистой водой. Шестилетним мальчиком я часто ходил с отцом за водой, а позднее привозил воду на осле самостоятельно, и это доставляло мне истинно детскую радость. Я охотно ухаживал за ослом и лошадью, любил их и долго плакал, когда наша лошадь сдохла. В то время жены из бедных семей стирали на берегу реки белье и там же сушили. Молодые женщины покрывали свои лица паранджой и не разговаривали с мужчинами, даже со свекрами, а на их вопросы отвечали кивком головы. Все их поручения выполняли беспрекословно. Таков был обычай, и он свято соблюдался. Однажды к нам в гости пришла семья, и среди них была молодая женщина. Отец попросил ее принести воды. Она принесла, он выпил, поблагодарил и сказал женщине: — Скажи “на здоровье”. Она движением головы ответила отрицательно. Отец несколько раз повторил просьбу, но та каждый раз качала головой. Отец возвратил ей стакан, и женщина, опустив голову, удалилась. Я с любопытством наблюдал за ними и понял, что моему отцу не нравились традиции, унижающие женское достоинство. Армянская семейная жизнь в те времена была исключительно высокоморальна. Об изменах и разводах не могло быть и речи. Юноши и девушки до бракосочетания не осмеливались даже смотреть в лицо друг другу. Понятно, что из таких семей происходили честные и нравственные люди. НАША СЕМЬЯ Мой отец Маркар Галустян обратился к Господу в юношеском возрасте и перенес гонение за веру. После окончания Библейской школы в Мараше он женился на девушке по имени Турчи Элважян, а позже служил пастором в Хасане, затем в Каре-Базаре. Он был истинным христианином и образцовым отцом. Несмотря на маленькое жалованье, мог кормить и одевать свою семью. Мы ежедневно утром и вечером имели короткие семейные молитвенные собрания и воспитывались для благочестивой жизни. Отец учил нас любить друг друга, почитать старших, подчиняться им. Отец никогда не вступал в спор с матерью, она почитала его подобно библейским женщинам. В то же время я был очень шаловливым ребенком и потому чаще, чем другие, бывал наказан. Но каждый раз, совершив тот или иной плохой поступок, я тяготился совестью и часто унывал. Мой старший брат не имел особой страсти к учению и предпочел обучиться сапожному ремеслу. А старшая сестра Огнив из-за слабого зрения не могла продолжить образование и помогала матери по дому. Гулица и Елена, младшие сестры, после окончания городской школы продолжали образование в американской школе для девочек в городе Адане. В середине лета мать отправилась в Мараш, чтобы увидеться с родителями, братом и сестрами. Отец не хотел ее отпускать — мать была беременна, — но, уступив просьбам, нанял лошадь и отправил ее вместе со мной. Родные, которые давно нас не видели, встретили с радостью, но, увы, радость была недолгой. Вскоре мама заболела, слегла в постель и уже больше не вставала до самой смерти. Ее отправили в больницу. Главный врач, близкий друг отца, сделал ей операцию, но напрасно. Через два года она умерла, и я остался сиротой в городе Мараше. Дедушка и бабушка, а также тетя заботились обо мне, любили меня, но материнской любви заменить они не могли. По окончании лета отец увез меня в Каре-Базар. Я был обрадован, увидев знакомый город, но в то же время сердце наполнялось скорбью. После похорон матери наш дом опустел и стал для меня пустыней. Тоска не проходила. Отцу посоветовали жениться. После смерти матери прошел год. Однажды отец собрал детей и спросил каждого: “Хотел ли бы ты, чтобы я привел новую маму?” Все отвечали: “да”. Когда очередь дошла до меня, я смело сказал: “нет”. Все удивились, отец смутился моим неожиданным ответом, но ничего не ответил. Теперь я представляю его смущение и боль души в то время. Вскоре после этой беседы отец поехал на евангельский съезд в город Адана и женился там на вдове. ПОГРОМ 1909 ГОДА Это было в субботу. Я работал у брата. Недалеко от нас находилась базарная площадь. Нашими соседями-лавочниками были два турка. Во время обеда я пошел домой, принес обед для себя и для брата. После обеда я приступил к работе, но в это время соработник брата попросил меня пойти к нему домой и отвезти на осле мешок зерна на мельницу. Я с удовольствием согласился. Но как только вышел из мастерской, услышал выстрелы на площади и крики: “Татун! Татун!” (“Лови! Лови!”). Из любопытства я побежал в сторону крика, но на пути встретил знакомого молодого человека, с двухлетним братишкой бежавшего навстречу. — Что случилось? — спросил я его. — Спасайся! Резня! Я видел, как армяне с ужасом на лицах бежали в сторону нашей улицы, а за ними гнались турки с обнаженными кинжалами. Вместе с молодым армянином мы добежали до нашей улицы, бросились во двор одного богача-армянина и остановились, прислушиваясь к душераздирающим крикам. Позднее я узнал, что турки зарезали отца этого молодого человека, а сам он чудом спасся бегством. Я прибежал домой. Мачеха гладила белье, не зная, что творится на улице. Рассказал ей, что турки могут ворваться к нам. Мачеха вынула из сундука хранившиеся там деньги, взяла младшего брата, мы побежали к церкви и закрылись там на замок. Было очень страшно и тревожно. Рядом с нашим домом жила большая семья, четверо женатых братьев. Двоих не было дома, двое других, имея оружие, охраняли дом. Когда настал вечер, они пригласили нас под свою защиту. Напротив нашего дома жил богатый портной. Он строил рядом новый дом, с ним были мастера и работники, молодые армяне. Хозяин вооружил их и приготовился к самообороне. Там же собрались ближайшие соседи. Ночью они перевели нас к себе, считая, что у них более безопасно. Окна дома смотрели на площадь, что облегчало наблюдение за турками. Третья сторона дома выходила на двухэтажный дом богатого турка, где тоже сидели вооруженные люди и время от времени перестреливались с нами. Два дня прошли спокойно. Мы не выходили из дома. Но на третий день турки прибегли к хитрости. После обеденной молитвы они вышли из мечети большой толпой, остановились против нашего дома и начали кричать: — Хорошая новость. Вы получили прощение султана, поэтому мы не будем нападать на вас. Если вы принимаете прощение, то повесьте белый флаг. Люди по наивности поверили туркам и вывесили белый флаг. Те тут же окружили дом, начали биться в двери. Прощение и заключение мира были лишь уловкой. Турки стали ломать двери, наши выстрелили залпом и убили нескольких погромщиков. В момент перестрелки комната наполнилась дымом. Я начал просить мать уйти из дома. Сестра Гулица одела меня в женское платье, повязала платком, как девочку, и мы вышли. Женщин турки в тот момент еще не убивали. Так как улица была наполнена вооруженными людьми, мы вышли через сад и остановились у дома знакомого турка. Увидев нас издали, турки, размахивая оружием, закричали: “Женщины, идите сюда, вам опасность не грозит”. Мы молча прошли сквозь их ряды. Я был самым последним. Вдруг один высокий араб схватил меня и сказал: “Это мальчик!” Он тут же хотел пристрелить меня, но в этот момент подошел турок, вырвал меня из его рук и повел к себе домой. Это был Мамед-ага, которому я давал лекарство в аптеке. В пути я сказал ему: — Мамед-ага, ты помнишь, как я давал тебе лекарство, а теперь ты хочешь убить меня? — Нет, мальчик, я хочу спасти тебя от неминуемой смерти. Он привел нас в свой дом, принес хлеб и сыр, велел не выглядывать на улицу и не выходить со двора. У Мамед-аги мы пробыли около часа. Там я преклонил колени и молился: “Господи, если ты избавишь меня от рук турок, я буду служить тебе всю жизнь”. А в это время жены Мамед-аги поставили условие моей мачехе и сестрам и еще одной женщине: “Если вы примете магометанство, мы накормим вас и спасем от гибели”. Мачеха и сестры безбоязненно ответили, что они не могут отречься от Христа, если даже им угрожает смерть. А другая женщина от страха приняла предложение турчанок, и ее покормили. Мамед-ага позаботился, чтобы нас перевели на французскую фабрику. Пришли жандармы и повели нас под охраной на фабрику, которая была под опекой правительства. На этот раз я не укрывал себя покрывалом, но был в женском платье. По дороге жандарм сказал мне: — Девочка, пройди на ту сторону. Я был рад, что меня снова приняли за девочку. НА ФРАНЦУЗСКОЙ ФАБРИКЕ На фабрике было два отделения: первое — ткацкое, второе — мукомольное. Хозяином этой фабрики был француз. Он был добрым человеком, приютил у себя сирот и вдов и, хоть и скудно, кормил нас во время резни, которая продолжалась почти три недели. На фабрике собралось более двухсот человек, но мы жили как одна семья — в любви и согласии. Горе сплотило людей. На фабрику привели раненую армянку, жену того портного, в доме которого мы прятались два дня. Она рассказала, что турки, окружив дом, подожгли его, а выбегающих из дома расстреливали и резали без разбора. Она смогла выползти из горящего дома и упала без сознания. Ее подобрали жандармы и привели на фабрику едва живую, обгоревшую. За три недели почти все армяне-мужчины в городе были убиты, а многие женщины изнасилованы. В то время мне было трудно разобраться, что происходит, чтобы видеть Божье предопределение в отношении меня и нашей семьи. Позже, размышляя обо всем происходившем во время резни, я увидел руку Божию, три раза избавившую меня от смерти. В тот же день привели на фабрику знакомого аптекаря, раненного в голову. Он рассказал о мученической смерти моего отца, и каждое его слово осталось в памяти до сего дня. Перед началом резни отец и 12 членов церковного комитета собрались в аптеке для обсуждения вопроса о предстоящем церковном съезде. Как только началась резня, мой отец вместе с церковным комитетом пошли к городскому голове, чтобы ходатайствовать о прекращении злодеяний. Отец осмелился взяться за это дело, так как градоначальник его уважал и даже за несколько дней до резни приходил к отцу поздравить его с днем Пасхи. Он сказал отцу, что не может остановить погромы, так как приказ пришел от самого султана. Единственным путем спасения от смерти могло быть принятие магометанства. Впрочем, это и было, кажется, главной целью погрома. Отец решительно отклонил это предложение и сказал, что он не может отречься от своего Спасителя. После этого градоначальник передал делегацию в руки головорезов. Они выстроили в один ряд 10 человек и одного за другим умертвили путем отсечения головы. Когда очередь дошла до моего отца, он попросил, чтобы ему дали время для молитвы. Получив разрешение, он преклонил колени и сказал: “Господи, прости им, ибо не знают, что делают. А я предаю душу в Твои руки”. Когда отец закончил молитву, турки ему, связанному, отрубили голову. Затем очередь дошла до аптекаря. Вдохновленный смелостью и молитвой моего отца, он тоже решил принять смерть, но не отрекаться от Господа. Палач взмахнул мечом, но в эту минуту подбежал другой турок и, вырвав у палача меч, крикнул: — Что ты делаешь? Это же не армянин, а грек! И он тут же обвязал аптекарю голову красной тряпкой (в отличие от армян грекам было приказано повязывать голову красной тряпкой). Так аптекарь оказался на французской фабрике. После этих ужасных событий к нам прибыли миссионерки, и нас группами повезли в Адану. Моих сестер поместили в приюте для девочек, а меня взял к себе дядя Арменак. К тому времени мой дедушка уже умер, а дядя был женат и имел двух дочерей. Все они любили меня. Я много времени проводил с дядей в его винограднике и старательно помогал ему при сборе винограда. В ГОРОДЕ МЕРСИН Вскоре среди армян разнесся слух, что турецкое правительство намерено устроить новую резню и что английские и французские корабли посланы к городскому причалу в Мерсин для защиты армян. Армяне начали спешно перебираться туда. Во избежание грозящей опасности мы с сестрой также решила ехать в Мерсин. Прибыв в Мерсин, я встретил на станции молодого армянина. Он оказался земляком, хорошо знавшим моего отца, и предложил остановиться на его квартире. Гостиницы в это время были переполнены беженцами. Рано утром я решил пойти на поиски работы, чтобы не быть обузой этому человеку. В городе я встретил друга детства. Встреча была неожиданной и радостной. В тот же день я устроился помощником официанта в кафе. В то время мне было 13 лет, и несмотря на безработицу, я всегда находил работу. Я работал в кафе несколько месяцев, но как только опасность погрома миновала и беженцы начали возвращаться в Адану, я также вернулся в город, к которому уже привык. --------------------------------------------------------- Автор книги “История моей жизни” - священник Иоанн Марк (Галустян). Он прожил долгую жизнь, был свидетелем резни 1909 года и прошел через нелегкие испытания по городам и весям Турции, Кавказа, России (включая Колымский край, где провел в лагерях шесть лет), Польши, Германии, Ливана, Америки. Он до последнего дня — умер в 1987 году — оставался верен Спасителю и своему народу.
-
Генеральной репетицией катастрофы 1915-го, некой пробой сил стала резня 1909 года в Киликии, в городе Адане и его окрестностях. К этому времени в Киликии проживали чуть менее 300 тысяч армян. Это была единственная область Малой Азии, где христианское население составляло большинство. Киликийские армяне особенно раздражали турецкую буржуазию, которая не выдерживала живой конкуренции. Высшей турецкой власти мерещилось даже восстановление армянского Киликийского государства. Очевидно, это и было главной причиной задуманного локального истребления армян Киликии. Вначале армян обвинили, что они в Аджине припасли оружие и готовятся напасть на турок Аданы. Потом пошла череда провокаций, муллы начали озвучивать призывы "Гявуры — змеи. Пока мы, мусульмане, не размозжим им головы — не успокоимся. Вскоре чернь, в том числе более 500 преступников, выпущенных из тюрем, "ограбила" военный склад. Резня началась 1 апреля 1909 года. Людей убивали на улицах, в домах, в магазинах. Помещения разграблялись и предавались огню. Армяне оказывали сопротивление, но силы были слишком неравны. Параллельно с Аданой начался разгром и армянских сел вокруг города. Кровопролитие продолжалось три дня, потом несколько успокоилось. В город прибыли войска якобы для восстановления порядка, но 12 апреля начался второй вал более масштабной резни при непосредственном участии регулярных войск. Людей не просто убивали, а пытали и истязали самыми жестокими и изуверскими способами. Через три дня резня прекратилась. 19 апреля на заседании турецкого парламента обсуждался вопрос "погромов" в Адане. Вскоре эту позорную страницу турецкой истории успешно закрыли, закамуфлировав пустыми словами и обещаниями. Никто из организаторов и палачей не был привлечен к ответственности... Летом 1909 года русский генерал-майор Юденич (временно исполняющий обязанности начальника штаба российской армии в Грузии) пишет: "Складывается такое впечатление, что это армяне уничтожили 30 тысяч безоружных мусульман и сейчас их наказывают. Армянских свидетелей шантажируют, следственная комиссия им не верит, магометанин во время очной ставки с христианином всегда остается правым". Всего в несколько апрельских дней 1909 года были убиты около 30 тысяч армян, из коих двадцать тысяч в вилайете Адана, в городе и армянских селах. Только в Адане было сожжено почти 1200 домов, 6 церквей, 16 школ, более пятисот магазинов и т. д. По приблизительным подсчетам стоимость движимого и недвижимого имущества, потерянного армянами, составила около 100 миллионов турецких золотых лир. После резни в Адане ряд армянских деятелей получили угрожающие письма. "Мы советуем больше не говорить об армянских преобразованиях... дело осложнится, и мы уничтожим вас — от мала до велика. Последние погромы покажутся вам благом..." Свое обещание они выполнили через шесть лет. На фоне последующих событий резню в Киликии мы несколько подзабыли, хотя она аргумент весьма серьезный. Ведь если геноцид 1915 года турки оправдывают Первой мировой войной, то в 1909-ом никаких военных действий не было вообще.
-
Сюзи Кентикян: Я хотела завершить поединок нокаутом Елены Рид 21.03.2009 Армянская боксерша, чемпионка мира в наилегчайшем весе среди женщин-профессионалов по версиям WBA и WIBF Сюзанна Кентикян (Killer Queen) после успешной защиты своих титулов в 10-раундном поединке против американки Елены «Куколки» Рид, известной двумя упорными боями против легенды женского бокса Регины Хальмих, отметила, что хотела бы завершить поединок нокаутом. «Я добилась победы благодаря моей скорости и постоянного давления на Рид, я подходила близко и наносила точные удары. У меня было преимущество. Я хотела нокаутировать Елену, но немного не хватило”, - сказала Кентикян. Рид, в свою очередь, отметила, что ее подвела выбранная тактика. «Я знала, что будет жесткий бой. Я ожидала большего от самой себя. Я не расчетливо провела бой моя тактика - держать Сюзи на дистанции - не сработала”, - сказала американка По словам тренера Кентикян Магомета Шабурова, армянская боксерша должна еще немного поработать над собой. «Для идеальной спортивной формы нам немного не хватает. Над этим мы сейчас усердно работаем», - отметил Шабуров. Промоутер Кентикян Дитмар Пожва, в свою очередь, отметил, что становится все труднее найти для Сюзи соперницу. «Становится все труднее найти для Сюзи соперницу. Сегодня был ее лучший бой за свою профессиональную карьеру. Она нанесла много травм Рид. И я уверен, что если бы Рид не была ветераном, то все равно от Сюзи получила бы те же травмы, - сказал Пожва, - Елена Рид является одной из лучших боксеров в наилегчайшем весе. Сейчас мы планируем организовать бой с боксершой одной весовой категорией выше Сюзи», - добавил он.
-
ГУРГЕН КАРАПЕТЯН ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТУМАНЯНА Он не жил - горел. К тридцати годам он уже совсем поседел, выглядел ранним стариком. Огромным костром полыхала эпоха, судьбоносные события стремительно сменяли друг друга, мелькали, словно фигуры калейдоскопа. Испытаний, лишений и трудностей, выпавших на долю Туманяна, с лихвой хватило бы на несколько человеческих жизней. В его творческой биографии преломилась, отразилась вся история армянского народа первых десятилетий двадцатого века. Через сердце поэта прошли три революции, мировая война, геноцид армян, гражданская война, лишения и разруха... Первая русская революция откликнулась в Восточной Армении межэтническими столкновениями. Кавказские татары, которых позднее назовут турками-азерами, устроили погромы и резню армян в Баку, Гандзаке, Шуше, Казахе... Огонь межнациональной войны распространялся, охватывал новые территории и перекинулся в Лори, Тифлис... Растерянному народу нужен был предводитель, патриарх, мудрый старейшина. И тяжелую ношу этой важнейшей миссии взвалил на свои хрупкие плечи тридцатишестилетний Ованес Туманян. Время выбрало его, потому что он оказался именно тем человеком, который мыслил масштабно, общенациональными категориями, и пользовался непререкаемым авторитетом не только среди армян, но и татар. К тому времени он уже имел серьезные проблемы со здровьем, у него были слабые легкие, его терзала жестокая хроническая бессонница. Болезни сопровождали Туманяна на протяжении всей его жизни. Первый предупредительный «звонок» прозвучал летом 1888-го года, когда он, горя решимостью поехать в Западную Армению и присоединиться к национально-освободительному движению армянского народа, продал свое пальто и купил на вырученные деньги пистолет. Однако провидение позаботилось о том, чтобы пистолет этот в то время так и остался невостребованным, не выстрелил. Воплощению этого дерзкого и непродуманного (чтобы не сказать опрометчивого) замысла помешала очередная горячка, высокая температура, на долгое время приковавшая поэта к постели. Его друг и единомышленник, горячий патриот Александр Голошян, вместе с которым поэт собирался воевать против янычаров, был убит по дороге в Ван весной 1889-го года. Конечно, все перечисленные испытания и удары судьбы по своей пагубности не могут сравниться с разрушительной Первой мировой войной и геноцидом армян в Османской империи, с потерей двух братьев и, особенно, сына Артика в 1918-м году... В конце 1921 года здоровье Туманяна резко ухудшилось. Врачи заподозрили желтуху, но затем пришли к заключению, что необходимо сделать операцию в области печени и желчного пузыря. Врач Тер-Нерсисян настаивал на незамедлительной отправке больного в Берлин, однако созванный 26 февраля 1922 года расширенный консилиум врачей решил оперировать поэта в Тифлисе. Операция, проведенная 9-го марта 1922 г., выявила доброкачественную опухоль, препятствующую протоку желчи из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку. Хирурги сочли опухоль неоперабельной и сделали анастамоз, позволявший желчи беспрепятственно циркулировать в организме. На некоторое, к сожалению, довольно непродолжительное время самочувствие поэта улучшилось. Летом 1922 г. состояние Туманяна вновь стало быстро ухудшаться. Вновь обрела актуальность идея отправки поэта в Берлин (через Москву) для рентгенотерапии и, по необходимости, для операции. Дочь поэта Нвард обратилась за содействием к комиссару народного просвещения Армении Погосу Макинцяну, но получила отказ с оскорбительной мотивацией: «Он и без того нам слишком дорого обходится». «Слишком дорого обходился» человек, всего лишь полгода назад организовавший международную финансовую и гуманитарную помощь Армении и поехавший с этой миссией в Константинополь. В помощи отказали человеку, который, находясь в крайне бедственном материальном положении, продал авторские права на свои произведения и полученные 30 тысяч рублей передал армянским сиротам, горийцам, пострадавшим от землетрясения, и голодающим россиянам... Между тем состояние больного продолжало ухудшаться. Во второй половине ноября 1922 г. был созван очередной консилиум врачей. Девять врачей настоятельно предлагали грязевые ванны. Против этого был только Мкртич Меликян. Он же первым высказал предположение, что доброкачественная опухоль, как это нередко бывает, трансформировалась в злокачественную. Как выяснилось впоследствии, он был прав. Подтвердить или исключить этот диагноз можно было только с помощью рентгена, но в те годы в Тифлисе соответствующего оборудования не было. Горячие грязевые ванны еще более усугубили и без того тяжелое состояние больного, пагубно отразились на его сердце. 23-го декабря 1922 г. Туманян вместе с сыном Арегом и дочерьми Ашхен и Нвард отправился в поезде в Москву - с тем, чтобы немного укрепить здоровье для дальнейшей поездки в Берлин. В эти дни, отмечает в своих воспоминаниях Нвард Туманян, поэт воспрянул духом, к нему вернулась надежда на выздоровление. В Москву поезд прибыл в 11 часов утра 29-го декабря. Поэта на машине скорой помощи переправили в клинику профессора Спижарно. Исследовав больного, профессор нашел его состояние очень тяжелым, а предстоящую поездку в Берлин счел ненужной. 1-го января 1923 года Туманяна перевезли в больницу имени Остроумова, где ему была назначена рентгенотерапия. Там же был окончательно подтвержден диагноз неизлечимой болезни. И вновь - в который раз - после длительного обсуждения принимается решение переправить поэта в Берлин. Это было трудное решение, поскольку изнуренное сердце поэта могло просто не выдержать нового пятидневного путешествия, к тому же в Германии повсеместно проходили забастовки, не говоря уже о том, что возвращение из Берлина в Тифлис было сопряжено с определенными проблемами. Перспектива поездки в Берлин обрадовала Туманяна. Он сказал: «На Пасху, наверно, я буду дома, буду здоров, с детьми, все вместе усядемся за стол». Увы, ни поездки в Берлин, ни вожделенного выздоровления так и не суждено было осуществиться. В середине марта 1923-го года поэт окончательно отчаялся, потерял последнюю надежду на выздоровление. До этого он не переставал надеяться на благополучный исход, напрямую и всецело связывал свое исцеление с поездкой в Берлин, где применялась рентгенотерапия. Но он был настолько слаб, что московские врачи наотрез отказывались дать добро на эту поездку. В глубине души с ними был согласен и сам поэт: «Как я могу поехать в Берлин в таком состоянии? Я умру в дороге, на руках у сына», - сказал он дочери Ашхен. Говоря это, он имел в виду Арега, который в то время поехал из Парижа в Берлин и с нетерпением ожидал прибытия отца. Между тем боли все усиливались, становились нестерпимыми, и ему каждые шесть часов делали болеутоляющие инъекции с применением сильных наркотических препаратов. 17-го марта Туманян поделился с неотлучно дежурившими у его больничной койки дочерьми Ашхен и Нвард горьким признанием, что его стали покидать последние силы, а на следующий день то и дело вспоминал беззаботные и счастливые дни своего детства. «Как было хорошо, как было замечательно!...», - вздыхал он печально. В это же время поэта охватила острая тоска по родному дому. «Я так соскучился по дому! Не знаю почему, но мое сердце рвется в Ереван, в нашу страну», - эту ставшую навязчивой мысль он повторял неоднократно и в разных вариациях. Туманян снова и снова повторял: «Не знаю, эти последние два дня моя вера в выздоровление исчезла». В глазах Ашхен он увидел страх смерти, и вспомнил строки своего четверостишия: «Я знаю: в мире смертны все, придет и мой черед, И смерти страх в груди моей, в моем печальном сердце». 18-го марта выдался погожий солнечный день. Туманян с утра вспоминал отца, свое детство, родное Лорийское ущелье, горы и леса. Он обратился к Ашхен с неожиданным вопросом: «Как ты думаешь, что тяжелее: потеря отца или сына?». И, выслушав невнятный ответ дочери, сказал: «Я очень любил отца, очень... Его смерть причинила мне очень большое горе, но смерть Артика была еще большей утратой...». В тот же самый день, 18 марта, был созван экстренный консилиум врачей, которые были единодушны в своем заключении: ситуация совершенно безнадежная, истощенный, ослабленный болезнью организм не выдержит хирургического вмешательства, не говоря уже о том, что опухоль практически не операбельна... Дальнейшее пребывание поэта в клинике представлялось нецелесообразным, потеряло всякий смысл, и они посоветовали ему вернуться на родину. Эту горькую пилюлю они попытались подсластить беспомощной и неуклюжей «ложью во благо»: дескать, дома, в кругу семьи и при неусыпном и заботливом уходе домочадцев здороье больного быстро пойдет на поправку... Так уж устроен человек, что цепляется за самую иллюзорную надежду до самого последнего мгновенья. Туманян в этом отношении не был исключением. Он искренне пытался уверить себя, что живительный воздух родного края, лорийского ущелья, Дсеха и Тифлиса, станет панацеей, принесет ему выздоровление, исцеление... Весна прогоняла прочь мысли о смерти. «Сейчас наши лорийские ущелья пробуждаются, оживают - нет чтобы и мне послать этого воздуха... чтобы я тоже ожил...», - говорил он. Точно так же его литературный герой Гикор, умирая, все не мог утолить жажду и просил дать ему воды из родника его родного села... («Апи, я хочу воды из нашего родника...»). Поэт ощущал и сознавал близость смерти, понимал, что счет уже пошел не на месяцы и даже не на недели, а на дни. Он обратился к Ашхен и Нвард со словами: «Я так скучаю по вам, хотя вы рядом, и я очень скучаю по тем, кто далеко...». И когда Нвард попыталась обнадежить, подбодрить его, сказав, что скоро они вернутся в родной Тифлисский дом и вновь соберутся все вместе большой и дружной семьей, он с неизбывной грустью сказал: «Да, поедем... соединимся...». Сказал - и отвернулся. Он считал, что сделал для своего народа недостаточно много, во всяком случае, неизмеримо меньше того, что мог бы и обязан был сделать. Он был озабочен тем, что оставались незавершенные дела, недописанные произведения, неосуществленные планы... Жестокая болезнь не сделала Туманяна капризным и эгоистичным. Он не замыкался на себе, на своих физических страданиях. Все время думал о дальнейшей судьбе своих детей, хотя только младшие - Седа и Тамар - были несовершеннолетними. Тем не менее, он считал себя обязанным защищать их в этом суровом, жестоком и несправедливом мире. Утром 21-го марта Туманян попросил перенести кровать в середину комнаты, чтобы можно было видеть небо. Его пульс был учащенный, неровный. А вечером сказал: «Это последняя ночь... До конца марта не дотяну...». Последней оказалась не эта, а следующая ночь. 23-го марта с шести утра пошел снег. Последний снег в его жизни. Казалось, московская зима вернулась, чтобы проститься с поэтом. Арег приехал в половине первого и едва застал отца в сознании. Он привел к отцу народного целителя, знахаря, который, как утверждали, вылечил с десяток безнадежных раковых больных. Туманян разговорился с ним и спросил: «Да что такое человек?». Знахарь, желая угадать ожидаемый ответ, сказал: «Ничто». Но Туманян поправил его: «Человек - это все...». Это сказал умирающий поэт, в упор смотревший в глаза смерти, находившийся в шаге от бездны небытия. В час пополудни поэт попрощался со всеми, поцеловал детей. Последними словами Туманяна было обращение к детям: «Крепитесь». Затем он потерял дар речи и впал в забытье. Началась предсмертная агония. Сердце перестало биться, но дыхание еще не покинуло его. Смерть настигла поэта в девять часов десять минут утра. На календаре было 23-е марта 1923 г. Это был последний день земной жизни великого писателя. Впереди была вечность, категория, ставшая единственным мерилом его творческой биографии, впереди было бессмертие его произведений, его литературных героев, богатого и гениального художественного наследия. Для того чтобы заполучить вагон для отправки тела поэта в его родной Тифлис, потребовалась целая неделя. Траурный поезд выехал из Москвы в последний день марта. По пути его следования чуть ли не на каждой станции по требованию местного армянского населения делались остановки и устраивались панихиды. Особенно длительные остановки состоялись в Харькове, Ростове, Армавире, Дербенте, Баку. Поезд прибыл в Тифлис 7-го апреля. Похороны поэта состоялись 15-го апреля на кладбище Ходживанка.
-
НЕ В СВОЕ ВРЕМЯ, НЕ В ЛУЧШЕМ МЕСТЕ Мы ходили на лекции в политехнический, декан Арташес Сенекеримович рассказывал про «рыжую молекулу», сдавали экзамены и зачеты, поедали пончики в «пончиканоц»-e, болели за футбольную команду «Арарат», гуляли по вечернему Еревану, засиживались в пушкинском садике, выбрав лавочку поукромнее. И был кинозал КГБ. Более надежного, спокойного и благодатного места, чтобы смотреть кино вдвоем, в Ереване не было. Близость пресловутых подвалов КГБ обязывала. И «Тени забытых предков» на экране кинозала КГБ! А затем - и «Цвет граната»! С экрана с нами говорили языком, которого мы не могли знать, никогда не слышали. Но мы понимали, прекрасно все понимали. И сидели, раскрыв глаза в абсолютной, звенящей тишине зала - ни вздоха, ни шороха, ни шепота. Апогей застоя, кинозал КГБ, фильмы Сергея Параджанова. Сам Параджанов лучшего эпатажного коктейля не смог бы придумать. В 2009 году Сергею Параджанову исполнилось бы 85 лет. 2009 год ЮНЕСКО объявило годом Параджанова. Выдающийся кинорежиссер… Гигант… Титан… Гений. Любое определение легко согласуется с личностью Параджанова, фильмы которого вошли в двадцатку лучших за всю историю мирового кино. И ничто человеческое Параджанову не было чуждо. Он был весь соткан из парадоксов, эпатажей, вызовов обществу и власти. Ему было скучно быть как все. Близкие и родные умоляли его остановиться, не дразнить «дракона»… Тщетно. В 1968 году ему принесли роковое письмо в защиту украинских «националистов», он согласился подписаться при условии, что его фамилия будет стоять первой среди 139 подписавшихся украинских интеллектуалов. Вовсе не из-за особого рода принципиальности или амбициозности, но, пожалуй, больше из баловства, духа противоречия. Эдакого опасного для жизни «хулиганства»… В 1965-68 гг. Параджанов подписал массу писем и заявлений вместе с другими деятелями украинской науки и искусства в различные партийные и советские органы, протестуя против массовых политических арестов на Украине. А ведь настоящим, идеологическим борцом с советским режимом Параджанов никогда не был. И диссидентом никогда не был. Просто он был другой, из других миров, из других времен. В конце концов случилось то, что и должно было случиться, когда слишком долго дразнишь «дракона». 17 декабря 1973 года Сергей Параджанов был арестован и направлен в Лукьяновскую тюрьму Киева. Предъявленные обвинения не имели значения, сказалась подпись номер один под заявлением в защиту украинских «националистов». Несколько игральных карт с обнаженными девицами (принадлежали приятелю режиссера Валентину Паращуку), ручка с корпусом в виде женского торса, показания коммуниста Воробьева… и готово дело по обвинению в распространении порнографии по статье 211. Приспособили и дело по обвинению в гомосексуализме и дело по торговле иконами. Но время уже немножко изменилось. И сорокалетний режиссер Параджанов после выхода «Теней…», романтической сказки по произведениям М. Коцюбинского проснулся знаменитым. За несколько лет фильм собрал 30 призов на международных фестивалях в 21 стране. Имя Параджанова встало в один ряд с именами Феллини, Антониони, Годара, Куросавы. Репутация кинематографического гения окончательно закрепилась за Параджановым сразу же после выхода фильма «Цвет граната» (оригинальное название «Саят-Нова», 1967-1969). Поднялась международная кампания протеста. Обращения в защиту Сергея Параджанова подписали Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Роберто Росселлини, Микеланджело Антониони. Сергей Параджанов был освобожден 30 декабря 1977 года. Ввиду запрета жить на Украине Параджанов поселился в Тбилиси. Обиднее всего, что в результате всей этой политической кутерьмы ему удалось снять всего-то несколько фильмов. Дело еще и в том, что он не был правозащитником типа генерала Петра Григоренко, в защиту которого подписывал письма и обращения. Сам Григоренко, «полечившись» несколько лет в советских психушках, был отпущен в США, где мирно дожил свой век, пописывая книги. В 1977 году Григоренко переехал в США, Параджанов продолжал мотать срок по советским лагерям и тюрьмам. Свой индивидуальный стиль Параджанов нашел только в ленте «Тени забытых предков» (1965 г.). Фильмы, снятые Параджановым после «Теней…»: 1965 - «Тени забытых предков» 1966 - «Киевские фрески» 1968 - «Дети - Комитасу» 1969 - «Цвет граната» 1969 - «Акоп Овнатанян» 1984 - «Легенда о Сурамской крепости» 1986 - «Арабески на тему Пиросмани» 1988 - «Ашик-кериб» Однако подлинный масштаб этого уникального дарования был оценен много позже. Фундаментальные исследования кинематографического мира Параджанова, у которого нет аналогов, появились уже после его смерти: за Параджанова всерьез взялись культурологи и философы, киноведы и теоретики кино. Иными словами, открытие Параджанова - художника и мыслителя - еще впереди. Пожалуй, в других странах понимают это лучше, чем в Армении, Грузии, на Украине. Выдающийся иранский режиссер Мохсен Махмалбаф считает себя учеником Параджанова. «Габбех», один из шедевров Махмалбафа, явно навеян «Саят-Новой». Трансцендентное путешествие Параджанова продолжается. Оставляя зарубки, в частности на современном иранском кино, одном из самых значительных явлений в современном киноискусстве. Скончался Сергей Параджанов 21 июля 1990 года в Ереване. Похоронен «армянин, родившийся в Грузии и сидевший в русской тюрьме за украинский национализм» в пантеоне парка им. Комитаса. В 1991 году в Ереване открылся дом-музей Сергея Параджанова. Основу собрания составляют более 600 работ Параджанова. Экспозиция музея включает более 250 произведений, документы, фотографии. Большой интерес представляет собой художественное творчество режиссера: коллажи, керамика, куклы, рисунки, ассамбляжи, эскизы к фильмам... Недавно я узнал, что великий режиссер обращался с просьбой к К. Демирчяну, тогдашнему руководителю Армянской ССР, разрешить ему снять эпос «Давид Сасунский». Еще очень хотел Параджанов поработать над фильмом «Ара Прекрасный». Однако Демирчян в просьбе отказал. Меченый он был, Параджанов, отмечен ЦК КПСС и КГБ. С 1969 по 1984 годы великому режиссеру не давали снимать. И Демирчян отказал. А в результате армянская культура не досчиталась двух шедевров мирового класса. КАРЕН ТОРОСЯН
-
Не было бы сегодня среди приговоренных к смерти Арсена Арцруни и Арменака Мнджояна, если бы правоохранительная машина Тер-Петросяна функционировала эффективно. Я спросил Арцруни о мотивах ликвидации его организацией Гагика Саакяна, почившего ныне в ранге героя в Ераблуре, на что он ответил, что это был акт возмездия за убийство Артура Мкртчяна, руководителя Карабаха, осуществленного Саакяном в 1991 г. И добавил, что незачем было бы ему восстанавливать правосудие, если бы этим занялось государство, возглавляемое Тер-Петросяном. Парадокс в том, что об истинных причинах убийства Мкртчяна общественное мнение не имело ни малейшего понятия. Часть населения до сих пор видит заказчиком Тер-Петросяна, часть - Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна, другая часть валит вину на всех троих. А то, что Артур Мкртчян стал жертвой междашнакских распрей, мало кому известно. Как видим, государство приговаривает к высшей мере наказания граждан, которых само и провоцировало на совершение правонарушений вследствие собственной неэффективности, подталкивая к политической деятельности за пределами правового пространства. Следовательно, осуждение этих граждан есть еще и политическая акция, помимо чисто правовой. А это означает, что вопрос приговоренных к высшей мере наказания членов военизированных политических формирований остается открытым: он должен найти разрешение в рамках нравственности и справедливости, являющихся по существу фундаментальными ценностями государства. Артем Хачатурян ----------------------------------------------------------------------------------------- В азербайджанских верхах всегда придерживались того мнения, что необходимо через генерала Грачева дать Вазгену взятку и таким способом прибрать к рукам всю армянскую армию. Этого они, по всей вероятности, в конце концов, и достигли. Об этом красноречиво говорят события вокруг Арцвашена и перемирие, заключенное спарапетом Вазгеном без каких-либо предварительных условий с проигравшей войну азербайджанской армией. Ряд высоких офицерских чинов Генштаба РФ свидетельствует, что турки пытались в первый раз купить Вазгена Саркисяна, когда появились у Грачева с предложением обменять Арцвашен и Нювади. Грачев, в конце концов, через Саркисяна этот план осуществил. Для осуществления данного обмена Саркисяну нужно было продемонстрировать, что он не жалеет сил для снятия осады. К несчастью, он недооценил дух парней из Масиса, воюющих в отрядах «Зоравар Андраник» и «Грер», которые освободили три «турецких» села, находящихся между Арцвашеном и Красносельском, в результате чего осада Арцвашена была ликвидирована. Между тем опытных военных через несколько дней заменили полком новобранцев из Кировакана, не имеющих никакой подготовки, и отрядом езидов из Арагаца. Едва полк занял позиции и не успел как следует ознакомиться с местностью, как началось широкомасштабное наступление турок. И наши понесли довольно большие потери. Было так много жертв, что после сдачи Арцвашена почти полностью потерявший свой отряд командир езидов поднялся на машину «УАЗ», стоящую напротив гостиницы в Красносельске, и покончил жизнь самоубийством. Между тем уставшие бойцы, сдавшие Кироваканскому полку позиции, узнав о случившемся, немедленно возвращаются к границе, однако им запрещают переходить в контратаку. И даже в 1994 г., когда на этом направлении уже не было ни одного наемника азеров, спарапет запрещал предпринимать какие-либо военные действия в направлении Арцвашена и Дашкесана. Подробности о совместном бизнесе Саркисяна и Грачева - вне рамок этой статьи, но самые главные их соглашения, которые для Москвы секретом не являлись, были суммы, полученные за то, чтобы не занимать Кельбаджар, из-за которых потом происходили крупные споры, поскольку командир Варденисского полка Овсеп отказался подчиниться подобным приказам - не освобождать страну. И, в частности, освобождать Мир-Башир, что было спланировано Генштабом ВС РФ и не осуществлено только лишь благодаря усилиям национального героя - спарапета. АРМЕНАК МНДЖОЯН, осужденный на смертную казнь по делу АРФД «Дро»
-
ЦВЕТАНА ПАСКАЛЕВА: 17 ЛЕТ НА ПЕРЕДОВОЙ "Самая большая победа и гордость армян нашего времени – это карабахская победа, она впишется золотыми буквами в историю армянского народа", - сказала на встрече со студентами Российско-Армянского (Славянского) университета автор 7 документальных фильмов о карабахской войне 90-х годов Цветана Паскалева. Это была ее четвертая встреча со студентами РАУ. За два с лишним часа они посмотрели два ее фильма – "Раны Карабаха" и "Солдаты своей земли", получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, узнали о творческих планах и личной жизни гостьи. Пророчество Католикоса Болгарская тележурналистка-документалист Цветана Паскалева еще только 4 месяца, рискуя жизнью, занималась карабахской проблемой, но уже успела подготовить серию репортажей о насильственной депортации мирного армянского населения Геташена, Мартунашена и Шаумяна, вызволила из азеровского плена оператора Вартана Оганесяна и заканчивала монтаж своего первого фильма о карабахской войне, когда получила приглашение в резиденцию Католикоса Всех Армян Вазгена Первого. - Это был официальный прием, - вспоминает Паскалева. – Тяжело больной Католикос величественно восседал на патриаршем троне с жезлом и при всех регалиях. Прежде я никогда не видела столь одухотворенной личности. На встрече он произнес слова, глубочайший смысл коих мне удалось постичь спустя годы. Он сказал: "Спешу вас благословить, поскольку не знаю, сколько мне осталось жить. У вас миссия на нашей земле, особая миссия... Вы неспроста приехали сюда и навсегда останетесь на этой земле. Я должен вас благословить, чтоб Бог оберегал вас". И преподнес свой портрет со словами благословения. Все так и вышло. Почти пятнадцать лет поддерживается режим прекращения огня, но Цветана Паскалева как бы привязана к нашей земле, к ее долгой и непростой истории, к героическому и трудолюбивому народу, покорившему ее чуткое сердце. Вот уже 17 лет она живет в Армении, живет надеждой, что справедливость восторжествует, что скоро увидит она и дипломатическую победу любимого ею Карабаха... Аспирантка ВГИКа в тот памятный день не подозревала, что это было "пророчество святого" и вскоре круто изменится ее судьба: она добровольно оставит работу над диссертацией и поставит себе цель озвучить на Западе правду о кровоточащей ране Карабаха. В ее сердце уместился Карабах Вооруженная камерой, эта отважная женщина шла через войну вместе с фронтом, выдавая западным и российским телекомпаниям репортажи с поля боя, проливающие свет на суть карабахского освободительного движения и меняющие международное общественное мнение: была нарушена информационная блокада, утверждалась альтернатива азербайджанской версии происходящего. Ей верили – это была точка зрения европейского журналиста, знакомого Западу по репортажам и документальному фильму о грузино-югоосетинском конфликте 1990 года. Цветана Паскалева, всем сердцем принявшая боль и чаяния карабахцев, отстаивавших право на независимость и оказавшихся наедине с хорошо вооруженной азербайджанской армией, очень скоро, говоря об армянах, карабахцах, невольно аргументировала: мы!... И в ответ слышала – наша Цветана... Объектив ее камеры фиксировал чудеса героизма защитников Карабаха, и она их делала героями своих фильмов, делилась кровью с ранеными. Была ранена сама, потеряла от снайперской пули свое мирное оружие – камеру. - Я всегда хотела представить, как в Великую Отечественную войну люди бросались на вражеские танки, и это я увидела в Карабахе в реальных боях - защитники Карабаха были настоящими героями, их действия были осознанны... Наши отряды были невелики по численности, было мало оружия, мало боеприпасов, никакого сравнения с возможностями азеров... И при этом мир называл карабахских защитников агрессорами. Я показала в своих фильмах, кто на самом деле эти солдаты и за что воюют, пытаясь объяснить миру, почему армяне – люди мирных профессий - взяли в руки оружие, почему ход военных событий вынудил их пойти вперед и создать пояс безопасности вокруг Карабаха. Серьезным упущением того времени, когда Азербайджан, заметно ослабев, был заинтересован в перемирии, Цветана Паскалева считает неподписание документа, юридически закреплявшего историческую победу карабахцев. По ее словам, сейчас ситуация изменилась, Азербайджан экономически окреп, страх азербайджанцев притуплен, и потому все слышней воинственная риторика, угрозы решить проблему военным путем... Она уверена, что вести переговоры по мирному урегулированию карабахско-азербайджанского территориального конфликта необходимо, но при этом следует неуклонно укреплять боеспособность карабахской армии, быть готовыми в любой момент защитить свои границы. - Карабах – это национальный, общеармянский вопрос, перед которым безоговорочно должны отступать все межпартийные и иные разногласия. Ибо без единства взглядов и подходов, без сплоченности и патриотического настроя народа все усилия политических лидеров могут оказаться напрасными, - считает Паскалева. – Извините, если мои слова кому-то покажутся бестактными, но я живу в этом обществе и моя гражданская позиция выстрадана. Возвращение на армянское ТВ Цветана Паскалева рассказала, что в декабре 2008-го ей была оказана честь посетить Болгарию в составе официальной армянской делегации, возглавляемой президентом РА Сержем Саргсяном. Впервые за 17 лет на родине Паскалевой из уст главы Армении на встречах с первыми лицами Болгарии, с представителями болгарских СМИ и армянской общины Болгарии прозвучала высокая государственная оценка ее деятельности на армянской земле, был подчеркнут ее вклад в летопись современного Карабаха. - Это был достойный дипломатический шаг, было верно выбрано место – моя болгарская земля. Слова благодарности от имени всего армянского народа прозвучали с высокой трибуны, и Болгария их услышала, - взволнованно произнесла Цветана Паскалева. Она также сообщила, что близка к завершению книга ее воспоминаний о карабахской войне, что она готовится приступить к съемкам нового документального фильма с привлечением хроники и участием политических и военных лидеров 90-х годов, взявших на себя ответственность за судьбу Карабаха, – Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Самвела Бабаяна, Вазгена Саркисяна и Вазгена Манукяна. Студенты аплодисментами приветствовали новость о том, что Цветана Паскалева после 8-летнего перерыва возвращается на Армянское телевидение – канал "Арарат" - с новой авторской программой. "Мое богатство – это благодарность, любовь и добрая память обо мне армянского народа", - сказала Цветана Паскалева – первая иностранка, получившая вид на жительство в постсоветской Армении, обладательница медали "За отвагу" и почетного звания полковник Карабахской армии. Лиана ХАЧАТУРЯН
-
Арис КАЗИНЯН Деблокада коммуникаций – не доблесть ТУРЦИЯ ДОЛЖНА ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ Армяно-турецкая граница, о разблокировании которой нынче так часто говорится, реально исчисляется не в пространстве, а во времени. Это не пара сотен километров, отделяющих одну часть исторической Армении от другой, а несколько чередующихся столетий, в течение которых в отношении армянского населения было реализовано много разных изуверских проектов, в том числе Геноцид. Именно в ходе Геноцида и были в основном очерчены контуры и протяженность нынешней армяно-турецкой границы. Таким образом, говорить о ее разблокировании - значит говорить о разблокировании накопленных во времени исторических, правовых, культурных и нравственных вопросах, которые разделяют Армению и Турцию куда в большей степени, нежели пара сотен меридианальных километров. В зависимости от конъюнктуры современного политического рынка можно признавать такую данность, а можно и отвергать ее - суть дела от этого не меняется. Заинтересованные стороны прекрасно понимают, что все на самом деле обстоит именно так, и яснее всех это осознает сама Турция. Вот и пытается она ограничить сущность "армяно-турецкой границы" узкими пространственными рамками, предлагая за каждый разблокированный километр пересмотреть или, что хуже, предать официальному забвению тот или иной исторический эпизод. По ее понятиям, сумма подобных эпизодов и составляет протяженность армяно-турецкой границы. Это именно то, что называется турецкими предусловиями. Вообще степень целесообразности разблокирования этого крошечного отрезка армяно-турецкой истории - величина непостоянная, и отражается она не только экономическими и политическими показателями, но и зависит от условий разблокирования. Например, какие именно международные структуры или страны будут выступать гарантами беспрепятственного железнодорожного сообщения Армении с европейским субконтинентом, и будут ли вообще обозначены эти стороны. Подобных вопросов очень много, причем нынешняя Армения может быть и не готовой к определенным развитиям, которые могут носить даже вполне объективный характер. Ведь каждый из вопросов в свою очередь предполагает множество разных перспективных сценариев. В целом Турция всегда плевать хотела на международное мнение, на робкие попытки представляющих это мнение "влиятельных структур" убедить ее разблокировать Армению. Она откроет границу исходя из тех же соображений, по которым однажды и перекрыла ее, – только когда посчитает это нужным. Региональный Гринвич давно уже проходит по меридиану Анкары, а посему время тоже работает на Турцию. Нынешнее армянское общество разительно отличается от того, каким оно было в период войны и первые послевоенные годы. Частнособственнические настроения также мало-помалу начинают доминировать в психологии масс, сами массы становятся более маргинальными. Власти в свою очередь демонстрируют поразительную готовность к контактам, а общественные организации то и дело проводят свои пацифистские форумы… Поэтому вполне возможно, что в обозримом будущем Турция действительно посчитает нужным разблокировать границу. Конечно, взамен на эпизоды. Турецкая дипломатия, безусловно, сумеет преподнести этот свой шаг в качестве жеста доброй воли, чем удовлетворит задетое мощной "босфорской слюной" самолюбие международных структур. Анкаре, конечно же, будет высказано большое общеевропейское спасибо, и в течение долгого времени никто уже не будет теребить ее по "армянской линии". К сожалению, сложилось так, что от нашей страны сегодня вообще мало что зависит, а посему необходимо как-то готовиться к открытию этой пресловутой границы. Возможно, в сознании многих отечественных чиновников подобная готовность ассоциируется с приведением "в соответствие с международными стандартами" контрольно-пропускных пунктов, через которые к дешевым турецким базарам и хлынут толпы челноков. Впрочем, едва ли стоит обременять себя излишними размышлениями, тем более что сами турки позаботятся об отлаженной работе "великого челночного пути", да еще и на льготных для армянских лавочников условиях. Единственный расклад, при котором Армения может каким-то образом повлиять на развитие событий и стать фактором региональной игры, - это вынос на международную политическую трибуну самых элементарных истин. Причем необходимо осуществлять курс, известный в дипломатии под названием "стратегия испорченной пластинки". Иными словами, денно и нощно повторять одно и то же: а) Блокада армянских коммуникаций со стороны Турции и Азербайджана – это совместный проект, направленный на окончательное изживание последнего островка армянской государственности в регионе. б) Блокада установилась не вследствие итогов навязанной армянскому народу войны, а в 1989-1993 гг., в период активных боевых действий; следовательно, она неотъемлемый элемент этой войны. в) Блокада армянских коммуникаций – беспрецедентное явление на всем пространстве Совета Европы, ибо сразу два полноправных члена СЕ блокируют третьего полноправного члена Совета Европы. г) Разблокирование армяно-турецкой границы не может считаться жестом доброй воли, если Турция не компенсирует совокупный ущерб, умышленно нанесенный Армении за весь блокадный период. д) Компенсация ущерба должна иметь материальное и политическое отображение. Турция должна восполнить финансовые потери Армении в экономической сфере и отказаться от предусловий (в контексте установления двусторонних дипломатических отношений) в сфере политической. е) Турция должна быть осуждена морально. Абсолютно не склонны полагать, что перечисленные положения являются идеальными. Вопрос именно в том, что они как раз и есть тот минимум, который определяет крайний рубеж целесообразности дальнейшего углубления армяно-турецких контактов на современном этапе.
-
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ Об этой древней мудрости не следует забывать посредникам МГ ОБСЕ Итак, свершилось. 18 марта в Азербайджане прошел референдум по поправкам в Конституцию, которые получили одобрение подавляющего большинства избирателей. Референдум, признаться, во многом примечательный. Но, конечно же, не своими зеркальными цифрами - 29 поправок и 92% избирателей, проголосовавших за внесение изменений в Основной Закон страны. Последняя "советская" цифра, отражающая "единую волю и единодушное мнение" азербайджанского электората, давно уже не вызывает удивления у тех, кто более или менее знаком с реалиями Азербайджана – советского или постсоветского. Значимость прошедшего референдума заключается в том, что одобренные им конституционные коррективы практически радикально меняют политический строй в этой стране. Невзирая на внушительное число поправок, самая главная и важная из них все же состоит в том, что "народным волеизъявлением" отменена такая конституционная норма, как запрет на избрание президентом страны более чем на два срока подряд. В принципе, ради именно этой поправки и затевался нынешний референдум. Иными словами, действующий глава государства Ильхам Алиев получил право оставаться на посту главы государства столько президентских сроков, сколько он пожелает и сколько позволит отпущенный ему Всевышним земной срок. Ибо нет сомнения, что на последующих президентских выборах традиционную "убедительную победу" он со своим кланом обязательно обеспечит. А значит, можно констатировать, что Азербайджан плавно трансформируется в конституционную монархию, а еще точнее – в восточную деспотию с семейной династией. Можно ли произошедшее назвать сенсацией? Скорее всего – нет. Подобное развитие событий легко прогнозировалось с учетом политических процессов, начавшихся еще при Алиеве-старшем. Ведь именно Гейдар Алиев, предчувствуя свою близкую кончину, спешно передал бразды правления кронпринцу Ильхаму, который стал на пространстве бывшего СССР единственным президентом, унаследовавшим власть. И можно не сомневаться, что ее он более из рук не выпустит и, более того, будет восседать в президентском кресле до тех пор, пока не подрастет второй кронпринц семейного клана Алиевых – сын Ильхама Гейдар-младший. То есть обеспечит преемственность власти – азиатско-монархической, завуалированной европейско-демократическими словесными кружевами. Разумеется, внесение поправок в Конституцию и определение путей своего развития – суверенное право любого государства и его народа. И вмешиваться во внутренние дела Азербайджана никто не вправе. Не намерены делать это и мы. Однако в контексте карабахского урегулирования не можем не задаться рядом вопросов, адресованных международным посредникам в процессе разрешения проблемы. Скажем, насколько нынешняя практическая легитимизация престолонаследия в Азербайджане согласуется с международными нормами и принципами или теми же европейскими ценностями? И будут ли посредники и далее с подачи Баку вопреки здравой логике настаивать на возвращении Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана с его монархическим режимом? Мы не станем сейчас апеллировать к историко-правовым аргументам карабахской стороны, которые однозначно подтверждают законность провозглашения Нагорно-Карабахской Республики и ее право на государственную независимость. Речь сейчас о другом. Хотелось бы узнать: осознают ли те, кто ратует за сохранение пресловутой территориальной целостности Азербайджана при очевидном игнорировании очевидных же фактов, что Нагорный Карабах и Азербайджан живут в совершенно разных цивилизационных системах ценностей? У каждого – свой путь. И если азербайджанский народ сделал выбор в пользу такой шкалы ценностей, предусматривающей, в частности, безграничное президентство Ильхама Алиева, переписавшего под себя Конституцию, то это – его право, которое следует если и не уважать, следуя европейской шкале ценностей, то во всяком случае признать как таковое. Однако при этом необходимо признать и тем более уважать и право народа Нагорного Карабаха, который азербайджанскую систему ценностей не приемлет и сделал осознанный выбор в пользу независимости. Карабахцы также провели конституционный референдум, но не с целью узурпации власти одной личностью, а для принятия Конституции, первая статья которой гласит, что НКР – суверенное, демократическое, правовое, социальное государство. И которая, по примеру цивилизованных стран, ограничивает количество сроков пребывания одного и того же лица на высшем государственном посту. Все познается в сравнении, говорили древние. Непредвзятый наблюдатель, проведя несложный сравнительный анализ, легко убедится, что по уровню развития государственности и демократических институтов, по степени своей приверженности демократическим ценностям и свободам Нагорно-Карабахская Республика продвинулась дальше Азербайджана. И потому по меньшей мере безнравственно пренебрегать законным и уже реализованным правом народа Нагорного Карабаха на самостоятельную жизнь и пытаться насильно затолкать его в пределы и в административное подчинение государства, живущего совершенно по чуждым карабахцам законам. Об историко-правовом аспекте опять же вспоминать здесь и сейчас не будем. Леонид МАРТИРОСЯН . "ГА"
-
Лилит Мкртчян – серебряный призер индивидуального чемпионата Европы 21.03.2009 Завершилась тай-брейк партия между представительницей Армении Лилит Мкртчян и россиянкой Екатериной Ковалевской. Армянская шахматистка белыми проиграла представительнице России Екатерине Ковалевской, уступив ей в сумме двух решающих партий за титул чемпионки Европы. Таким образом, Лилит стала серебряным призером ЧЕ. Почетный титул чемпионки Европы завоевала Екатерина Ковалевская. Бронзовым призером стала российская шахматистка Наталья Погонина, выигравшая у грузинки Маи Ломинеишвили. Напомним, что Мкртчян в последнем 11 туре индивидуального чемпионата Европы среди женщин одержала важную для себя победу над россиянкой Мариной Романько. В итоге Мкртчян и Екатерина Ковалевская набрали по 8,5 очков и разыграли почетный трофей в тай-брейк партии.
-
[url="http://www.day.az/news/politics/150915.html"]http://www.day.az/news/politics/150915.html[/url]
-
Проблемой церкви Норашен в Тбилиси заинтересовалось посольство США в Грузии Вечером 19 марта стало известно, что крест на заборе вокруг церкви Св. Норашен в Тбилиси, форма которого характерна исключительно для символики Грузинской Православной Церкви, изменил свой облик, а именно, - его крылья теперь не опущены, а расположены перпендикулярно вертикали креста. По поводу реконструкции забора или изменения формы креста на нем Патриархия ГПЦ никаких официальных заявлений не делала. Глава епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии епископ Вазген Мирзаханян в данном действии видит шаг в положительную сторону. Он также подтвердил отсутствие каких-либо официальных заявлений по этому поводу в адрес епархии со стороны Патриархии Грузии. На вопрос, является ли, согласно его мнению, изменение формы креста лишь «отводом глаз» от реальной проблемы, епископ ответил отрицательно, более того, подчеркнул, что этим вопросом занимаются местные власти, от которых епархия ААЦ получила поддержку. Помимо этого, данной проблемой заинтересовалось посольство США в Грузии, посол этой страны в курсе дела относительно спорной церкви. Сотрудники посольства также посетили прицерковную территорию и на месте ознакомились с ситуацией. Резюмируя вышесказанное, глава епархии ААЦ в Грузии отметил, что на данный момент есть реальные предпосылки для разрешения этого вопроса в скором будущем. PanARMENIAN.Net
-
Объединил. И заодно сменил заголовок на более общий.