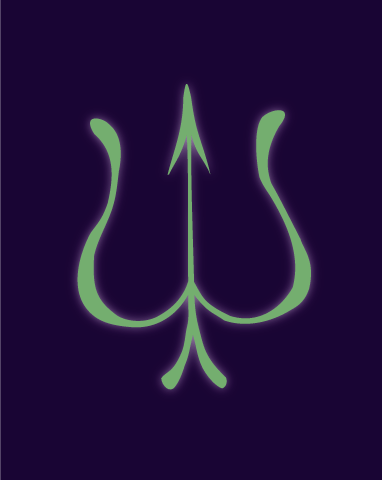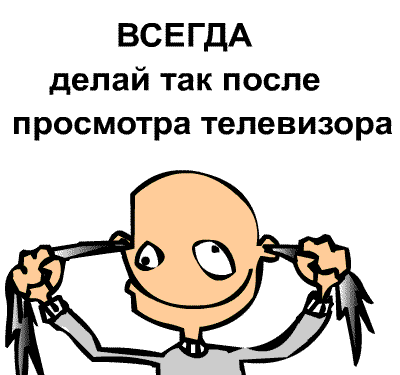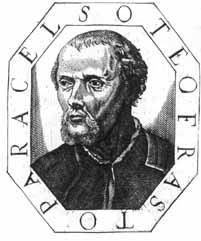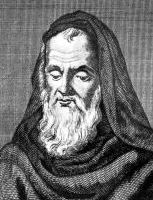-
Posts
4,666 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
2
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Tereza
-
Наставление о Брахмане Это Бесконечное – внизу, оно наверху, оно позади, оно спереди, оно справа, оно слева, оно – весь этот мир. А теперь наставление о самом себе: я внизу, я наверху, я позади, я спереди, я справа, я слева, я – весь этот мир. А теперь – наставление об Атмане: Атман внизу, Атман наверху, Атман позади, Атман спереди, Атман справа, Атман слева, Атман – весь этот мир. Поистине, тот, кто видит так, мыслит так, познает так, имеет наслаждение в Атмане, удовольствие в Атмане, сочетание с Атманом, блаженство в Атмане. Он сам становится владыкой, во всех мирах он способен действовать, как пожелает. Те же, которые полагают иначе, имеют над собой других владык, достигают гибнущих миров; во всех мирах они неспособны действовать, как пожелают. Чхандогья упанишада, гл 25
-
Спасибо Harib. И пример замечательный... Действительно многому научила Пиаф, своему "армянскому бродяге"… И самое главное - в любой ситуации быть самим собой... Однажды она сказала : "Ты станешь знаменитым, когда у тебя начнут брать деньги в долг. Звездой - когда тебя будут откровенно грабить мнимые друзья!" Есть разные грани дружбы, отличные от тех, которыми обычно мы пользуемся… И, пожалуй, я соглашусь - сердцевиной дружбы, тем, что в ней по-настоящему пульсирует и бьется наружу, все-таки является искренность, но, ни в коем случае сомнение.
-
"...Никто не может любить другого, если до этого он не полюбил себя... Никто не может никого ненавидеть, если до этого он не возненавидел себя". "...Иногда хорошо любить - значит хорошо ненавидеть, а праведно ненавидеть - значит любить". "...Именно смешные повадки людей делают жизнь приятной и связывают общество воедино". Эразм Роттердамский Когда в тебе бурлит сарказм И ты от гнева возбуждён, Ты просто вылитый Эразм, Что в Роттердаме был рождён. Александр Кушнер А Луврский светильник, напоминает вот этот символ… «Целитель»
-
Андреас Везалий (1514–1564) Андреас Везалий справедливо считается создателем современной анатомии и основателем школы анатомов. Он пользовался успехом и как врач-практик. Андреас Везалий родился в 1514 году в Брюсселе в семье потомственных медиков. Врачами были его дед и прадед, а отец служил аптекарем при дворе императора Карла V. Интересы окружающих, несомненно, повлияли на интересы и стремления юного Везалия. Учился Андреас сначала в школе, а затем в университете города Лувена, где получил разностороннее образование, изучил греческий и латинский языки, благодаря чему мог знакомиться с трудами ученых уже в юные годы. Очевидно, он прочел о медицине немало книг древних и современных ему ученых, так как труды его говорят о глубоких знаниях. Везалий самостоятельно из костей казненного собрал полный скелет человека. Это было первое анатомическое пособие в Европе. С каждым годом все больше проявлялся страстный интерес Везалия к изучению медицины, к анатомическим исследованиям. В свободное от учения время он у себя дома тщательно препарировал тела животных: мышей, кошек, собак, изучая строение их организма. Стремясь совершенствовать свои знания в области медицины, особенно анатомии, Везалий в возрасте семнадцати лет направился в университет Монпелье, а в 1533 году впервые появился на медицинском факультете Парижского университета, чтобы слушать лекции прославленного анатома Сильвия. Юный Везалий уже мог критически подойти к методу преподавания анатомии. В предисловии к трактату «О строении человеческого тела» он писал: «Мои занятия никогда бы не привели к успеху, если бы во время своей медицинской работы в Париже я не приложил к этому делу собственных рук... И сам я, несколько изощренный собственным опытом, публично провел самостоятельно треть из вскрытий». Везалий задает на лекциях вопросы, которые свидетельствуют о его сомнениях в правоте учения Галена. Гален — непререкаемый авторитет, его учение следует принимать без всяких оговорок, а Везалий доверяет больше своим глазам, чем трудам Галена. Ученый справедливо считал анатомию основой медицинских знаний, и целью его жизни стало стремление возродить опыт далекого прошлого, развить и усовершенствовать метод изучения анатомии человека. Однако церковь, препятствовавшая развитию естественных наук, запрещала вскрытие трупов человека, считая это кощунством. Много трудностей пришлось преодолеть молодому анатому. Для того чтобы иметь возможность заниматься анатомированием, он использовал любую возможность. Если заводились в кармане деньги, он договаривался с кладбищенским сторожем, и тогда в его руки попадал труп, годный для вскрытия. Если же денег не было, он, прячась от сторожа, вскрывал могилу сам, без его ведома. Что делать, приходилось рисковать! Везалий так хорошо изучил кости скелета человека и животных, что мог, не глядя на них, на ощупь назвать любую кость. Три года провел Везалий в университете, а потом обстоятельства сложились так, что он должен был покинуть Париж и снова отправиться в Лувен. Там Везалий попал в неприятную историю. Он снял с виселицы труп казненного преступника и произвел вскрытие. Лувенское духовенство потребовало строжайшего наказания за такое кощунство. Везалий понял, что споры тут бесполезны, и счел за благо покинуть Лувен и отправился в Италию. После получения в 1537 году докторской степени, Везалий стал преподавать анатомию и хирургию в Падуанском университете. Правительство Венецианской республики поощряло развитие науки о природе и стремилось расширить работу ученых в этом университете. Блестящий талант молодого ученого привлек внимание. Двадцатидвухлетнего Везалия, уже получившего за свои труды звание доктора медицины, назначили на кафедру хирургии с обязанностью преподавать анатомию. Он с вдохновением читал лекции, которые всегда привлекали много слушателей, занимался со студентами и, главное, продолжал свои исследования. А чем глубже изучал он внутреннее строение организма, тем большое укреплялся в мысли, что в учении Галена немало весьма значительных ошибок, которых просто не замечали те, кто находился под влиянием галеновского авторитета. Четыре долгих года работал он над своим трудом. Он изучал, переводил и переиздавал труды ученых-медиков прошлого, своих предшественников-анатомов. И в их трудах он нашел немало ошибок. «Даже крупнейшие ученые, — писал Везалий, — рабски придерживались чужих оплошностей и какого-то странного стиля в своих непригодных руководствах». Ученый стал доверять самой подлинной книге — книге человеческого тела, в которой нет ошибок. Ночами при свече Везалий анатомировал трупы. Он поставил целью решить великую задачу — правильно описать расположение, формы и функции органов человеческого тела. Результатом страстного и упорного труда ученого явился знаменитый трактат в семи книгах, появившийся в 1543 году и озаглавленный «О строении человеческого тела». Это был гигантский научный труд, в котором вместо отживших догм излагались новые научные взгляды. Он отразил культурный подъем человечества в эпоху Возрождения. Книгопечатание быстро развивалось в Венеции и в Базеле, где Везалий печатал свой труд. Его книгу украшают прекрасные рисунки художника Стефана Калькара, ученика Тициана. Характерно, что изображенные на рисунках скелеты стоят в позах, свойственных живым людям, и пейзажи, окружающие некоторые скелеты, говорят более о жизни, нежели о смерти. Весь этот труд Везалия предназначался к пользе живого человека, изучению его организма, чтобы сохранить его здоровье и жизнь. Каждая заглавная буква в трактате украшена рисунком, изображающим детей, изучающих анатомию. Так было в древности: искусство анатомирования преподавалось с детства, знания передавались от отца сыну. Великолепная художественная композиция фронтисписа книги изображает Везалия во время публичной лекции и вскрытия трупа человека. Труд Везалия взволновал умы ученых. Смелость его научной мысли была настолько необычна, что наряду с оценившими его открытия последователями у него появилось много врагов. Немало горя и разочарования испытал великий ученый, когда его покидали даже ученики. Знаменитый Сильвий, учитель Везалия, назвал Везалия «Везанус», что означает — безумный. Он выступил против него с резким памфлетом, который назвал «Защита против клеветы на анатомические работы Гиппократа и Галена со стороны некоего безумца». Он не погнушался тем, чтобы обратиться к самому императору с требованием примерно наказать Везалия. «Я умоляю Цезарское Величество, — писал профессор Якоб Сильвий, — чтобы он жестоко побил и вообще обуздал это чудовище невежества, неблагодарности, наглости, пагубнейший образец нечестия, рожденное и воспитанное в его доме, как это чудовище того заслуживает, чтобы своим чумным дыханием оно не отравляло Европу...» Везалий предвидел, как обернутся события после опубликования его трактата «О строении человеческого тела». Еще раньше он писал: «...мой труд подвергнется нападкам со стороны тех, кто не брался за анатомию столь ревностно, как это имело место в итальянских школах, и кто теперь уже в преклонном возрасте изнывает от зависти к правильным разоблачениям юноши». Большинство именитых медиков действительно стало на сторону Сильвия. Они присоединились к его требованию обуздать и наказать Везалия, посмевшего подвергнуть критике великого Галена. Такова была сила признанных авторитетов, таковы были устои общественной жизни того времени, когда всякое новшество вызывало настороженность, всякое смелое выступление, выходившее за рамки установленных канонов, расценивалось как вольнодумство. Это были плоды многовековой идеологической монополии церкви, насаждавшей косность и рутину. Вскрыв десятки трупов, тщательно изучив скелет человека, Везалий пришел к убеждению, что мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин, совершенно неверно. Но такое убеждение выходило за рамки медицинской науки. Оно затрагивало церковное вероучение. Не посчитался Везалий и с другим утверждением церковников. В его времена сохранялась вера в то, что в скелете человека есть косточка, которая не горит в огне, неуничтожима. В ней-то якобы и заложена таинственная сила, с помощью которой человек воскреснет в день страшного суда, чтобы предстать перед господом богом. И хотя косточку эту никто не видел, ее описывали в научных трудах, в ее существовании не сомневались. Везалий же, описавший строение человеческого тела, прямо заявил, что, исследуя скелет человека, он не обнаружил таинственной косточки. Везалий отдавал себе отчет, к каким последствиям могут привести его выступления против Галена. Он понимал, что выступает против сложившегося мнения, задевает интересы церкви. А как поступают с такими дерзкими одиночками, он хорошо знал. Ученый продолжал преподавать в Падуанском университете, но с каждым днем атмосфера вокруг него накалялась все больше. Ему было горько расставаться с Падуей, с университетом, прерывать свою работу, исследования. Но иного выхода он не видел. Как раз в это время он получил приглашение испанского императора Карла V занять место придворного лекаря. Двор императора находился в то время в Брюсселе. Карлу служил еще отец Везалия, и молодой профессор принял предложение императора. Конечно, в Брюсселе у него не будет кафедры, он не сможет заниматься со студентами. Но зато императорский двор послужит для него надежным укрытием от преследований церкви, оставляя возможность заниматься анатомией. Таким образом, место придворного лекаря, хотя оно было и не по душе Везалию, имело свои преимущества. И все-таки трудно было найти более неподходящую должность для Везалия. Он был ученым, исследователем. Теперь же ему надо было усваивать весьма далекие от науки принципы, умение угождать своим знатным пациентам, улавливать их мысли, участвовать во всех придворных церемониях. Но и в этих условиях он не прекращал той работы, которой посвятил жизнь. Все свободное время Везалий отдавал трактату «О строении человеческого тела». Вносил поправки, дополнения, уточнял то, что казалось ему не совсем убедительным. Используя любую возможность, он занимался анатомированием. Но мысль, что он оторван от научных центров, что исследовательская деятельность стала для него побочным делом, угнетала Везалия. Он мечтал вновь вернуться на научную кафедру. Но реально Везалий даже помышлять не мог о том, чтобы оставить Брюссель и перебраться в иное место, где смог бы заняться работой по душе. Стоило ему оставить императорский двор, как инквизиция вновь проявила бы к нему интерес. Вот почему в самые тоскливые минуты жизни Везалий убеждал себя в том, что надо примириться с обстоятельствами. Ему удалось вторым изданием выпустить в свет свой трактат «О строении человеческого тела». Это было лишь короткое счастливое мгновение за все эти годы, а потом все пошло по-прежнему. Потянулись длинной чередой один за другим однообразные дни. Но вот пришел конец пребыванию Везалия при императорском дворе. Его покровитель Карл V отрекся от престола, удалился в монастырь и вскоре умер. На престол вступил Филипп II — желчный и злой человек. Он не любил Везалия и открыто выказал ему свою неприязнь. Этим поспешили воспользоваться многочисленные завистники и недруги придворного лекаря. Отношение нового императора к Везалию ухудшилось еще более. Везалий чувствовал, что ему надо как можно быстрее уехать из Брюсселя. Он сделал попытку вырваться из-под власти нового императора, обратился с просьбой отпустить его в Италию. Но своенравный Филипп категорически воспротивился этому. При Филиппе суровые запреты церкви анатомировать трупы вновь коснулись Везалия. Нарушить их значило вступить в открытый конфликт с церковью. Везалий с горечью писал об этом времени: «Я не мог прикоснуться рукой даже к сухому черепу и тем менее возможности я имел производить вскрытия». Но как ни старался Везалий не давать повода церкви для каких бы то ни было обвинений, это оказалось не в его силах. На Везалия вновь полились потоки клеветы. В довершение всего ему было предъявлено ложное обвинение в том, что он анатомировал живого человека. Везалий пытался доказать свою невиновность, но все было тщетно. Он должен был повиноваться. Приговор церкви был категоричен: придворный медик Андрей Везалий должен был во искупление грехов своих отправиться на поклонение в «святые места» к Гробу Господню... В 1564 году Везалий с женой и дочерью покинул Мадрид. Оставив семью в Брюсселе, он один отправился в далекий путь. По дороге в Иерусалим ученый остановился в любимой им Венеции, где он провел лучшие годы своей творческой жизни. Везалия не оставляла мысль о возвращении к занятиям любимой наукой. Существует предположение, что сенат Венеции предложил ему снова занять кафедру в Падуанском университете. Но мечта ученого вернуться к науке не осуществилась. На обратном пути из Иерусалима при кораблекрушении больной Везалий был выброшен на остров Занте (Греция), где в 1564 году и умер. Нам неизвестно место его погребения, но лучшим памятником ученому, борцу за прогрессивную науку служит его великий труд о строении человеческого тела.
-
А я завтра...
-
С вашего позволения, давайте перейдем к обзору исторических фактов, свидетельствующих о способности женщин к философии... Такой обзор был сделан, например, Ж.Менажем, опубликовавшим в 1660 г. "Historia mulierum philosopharum" . В 1692 г. было опубликовано второе издание этой работы, где к описаниям деяний шестидесятипяти женщин-философов добавилось еще пять. Книга Ж.Менажа, посвященная Анне Л.Десиэр, состоит из одиннадцати глав: "Женщины-философы неопределенного направления", "Платоники", "Академики", "Диалектики", "Киренаики", "Мегарики", "Киники", "Перипатетики", "Эпикурейцы", "Стоики", "Пифагореянки". "Так велико количество женщин-писательниц, - пишет Ж.Менаж в предисловии, - что их имена могут заполнить большой том, но большинство из них увлечены такими приятными занятиями, как риторика, поэзия, история, мифология.Значительное число, однако, уделяет свое внимание определенным дисциплинам философии". Последним, оказывается, и до Ж.Менажа посвящалось несколько специальных сочинений древними авторами. Один из них - Апполон-стоик. Но более обстоятельным было более позднее сочинение немецкого исследователя этой же темы J.C.Poestion`а "Griechischen Philosophinen" (Греческие философини, 2-е изд. - 1885). До девятнадцатого столетия участие женщин в философии было курьезом, который к тому же и довольно быстро забывался даже теми, кто был его свидетелем или узнавал о нем из различных письменных источников. Было участие женщин, но не было выдвинуто ими, ни одного нового принципа. Более серьезную роль в историко-философском процессе они начинают играть в конце девятнадцатого - начале двадцатого столетий, чему в немалой степени способствовало развитие женской эмансипации. Посмотрим же теперь на историю всемирной философии в хронологическом порядке с точки зрения участия в ней женщин. С первыми опытами философствования женщин в Др.Греции мы встречаемся в то время, когда женские роли в театре играли только мужчины. Дочь богатых родителей прекрасная Гиппархия, сообщает Диоген Лаэртский в своих жизнеописаниях знаменитых философов, полюбила не только речи безобразного на вид философа-киника Кратета, но и его образ жизни. Отвергая предложения многочисленных "добропорядочных" женихов, она пригрозила своим родителям наложить на себя руки, если они не позволят ей жить с Кратетом. Расстроенные родители пригласили к себе самого Кратета, чтобы он отговорил их дочь от столь "безумного" шага, однако философ не смог достичь поставленной цели. Тогда он встал перед Гиппархией, сбросил с себя всю одежду, и сказал: "Вот твой жених, вот его добро, решайся на это: не быть тебе со мною, если не станешь тем же, что и я". Гиппархия сделала свой выбор: оделась также небрежно, как Кратет, и стала сопровождать его повсюду, ложиться с ним для любовных утех невзирая на любопытствующие взгляды обывателей и побираться по чужим застольям. Так на одном из них она сокрушила софизмом Феодора, который, не найдя ничего возразить, просто-напросто разодрал на ней плащ. Когда же Гиппархия не проявила при этом женского смущения, Феодор с целью морального осуждения процитировал: "Вот она, что покидает свой станок и свой челнок!" На это Гиппархия ответила: "Да, это я, Феодор; но разве, по-твоему, плохо я рассудила, что стала тратить время не на станок и челнок, а вместо этого - на воспитание?". Поступок Гиппархии привел в изумление самого Диогена, который удостоил ее своим письменным посланием: Я восхищен, женщина, твоей страстью к философии и тем, что ты примкнула к нашей школе, суровость которой даже многих мужчин отпугнула. Постарайся же и конец сделать достойным начала. Я уверен, что так оно и будет, если не отстанешь от своего супруга Кратета и нам, учителям философии, будешь почаще писать. Однако переписка между Кратетом и Гиппархией свидетельствует о том, что в какое-то время она изменила принципам школы, вернулась в отчий дом. Так в одном из посланий Кратет укоряет ее: До сих пор вместе со мной ты следовала киническому учению и пользовалась уважением, благодаря нашему супружеству и бедности, а теперь тебе не стыдно изменить своим убеждениям и повернуть с середины пути назад? В ответ на это он получает от нее роскошный плащ, за который делает ей выговор, ибо она нарушает принципы кинического образа жизни. Кратету кажется, что Гиппархия разуверилась в своих силах, а потому в одном из писем он подбадривает ее следующим образом: оставайся со мной и продолжай разделять со мной кинические взгляды (ведь от природы ты ничуть не хуже меня, подобно тому как суки не слабее кобелей), и все это для того, чтобы с помощью природы стать свободной, в то время как все находятся в рабстве у закона или порока . Из последующих же писем выясняется причина того, почему Гиппархия прервала кинический образ жизни - она родила мальчика... Так, что, дружить с женщинами предопределено, еще...
-
На одном из европейских средневековых соборов был поставлен вопрос: "Человек ли женщина?"... "Способна ли женщина к философии?"... Вопросы, который часто задают мужчины-философы и просто мужчины... На публичном диспуте 1738 г. Гаэтана Аньези в числе 191 философского тезиса защищала также и тезис о способности женщин к наукам. Отцы вышеупомянутого собора разделились на две партии. Победила же та из них, представитель которой выступил со следующим силлогизмом: "Иисус Христос называется в Евангелии сыном человеческим, но на земле он был только сыном Девы Марии, женщины, следовательно, женщина - человек"...
-
Неопровержимый факт!
-
О да Mr. Almi Hevaii, ведь именно безвременной смерти Софии Шарлотты, (если не ошыбаюсь) Лейбниц посвятил ее памяти знаменитый трактат «Теодицея». «Женский фактор» - как таинственная нить, нанизывает судьбы различных философов и их творений... Даже сварливая жена Сократа - Ксантиппа…
-
That does surprise you Mr.Almi Hevaii?
-
Майже зрозуміла дорогий Aragami, тільки останню пропозицію переклади на російський будь ласка.
-
Уважаемая Вэл, попробуйте начать с этого: "Спас " Муку растереть с яйцом. Мацун развести водой из расчета 1:1 (вместе с отваром пшеничной крупы). В яично-мучную смесь, все время помешивая, влить разведенный водой мацун. Кастрюлю со смесью поставить на небольшой огонь и, непрерывно помешивая, довести до кипения. Добавить варенную крупу вместе с отваром, мелко нарезанный и обжаренный репчатый лук, кинзу или мяту, перемешать и довести суп до кипения. Вместо мацуна можно использовать - свежую пахту. Ингредиенты : На 200 гр. мацуна или 500 гр. пахты: 6 гр. муки, 25 гр. репчатого лука, 10 гр. топленого масла, 45 гр. пшеничной крупы, 6 гр. мяты или кинзы, 1\4 яйца; соль по вкусу. Приятного аппетита!
-
За кулисами: Одна из самых стаpых pелигий говоpит: "Человечество идет ко Мне pазличными путями, и по какому бы пути ни шел человек, на том пути Я пpиветствую его, ибо все пути Мои". А наиболее молодая pелигия говоpит :"Мы не делаем pазличия между пpоpоками". И затем: "Пути к Богу столь же многочисленны, как дыхания детей человеческих". Не все люди одинаковы... То, что для одних пища, утоляющая голод, для дpугих не возбуждает даже аппетита. Пусть каждый пpиемлет Хлеб Жизни под тем именем и в той фоpме, котоpые ему нpавятся больше всего. На pеку выносят сосуды pазных фоpм, но вода, наполняющая каждый из них, все та же, хотя она и пpинимает фоpму содеpжащего ее сосуда. Пусть каждый пьет духовную воду из того сосуда веpы, котоpый он пpедпочитает; один будет пить из гpеческой вазы нежного изящества, дpугой - из сосуда с более суpовыми египетскими очеpтаниями; один будет пользоваться чеканным золотым кубком импеpатоpа, дpугой - гоpстью нищего. Какое это имеет значение? Лишь бы пеpесохшее гоpло освежалось пенящимся потоком. Зачем нам споpить о фоpме и матеpиале сосуда, если Вода Жизни во всех одна и та же?
-
Теофраст Парацельс (1493–1541) В XVI веке на небосклоне западной науки между алхимией и медициной возникает новая фигура: Парацельс — удивительный врач и алхимик, хирург, задира и дуэлянт, одинаково хорошо владеющий как ланцетом, так и шпагой. «Настоящая цель химии заключается не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств!» — эти слова определили жизненное кредо Парацельса. Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, по прозванию Парацельс родился 10 ноября 1493 года близ поселка Эйнзидельн (кантон Швиц, Швейцария). По примеру своего отца Парацельс довольно рано начал изучать медицину в Германии, Франции и Италии. Уже в годы учения Парацельс заинтересовался химией. Он не только делал опыты, но и работал на рудниках и горных заводах. Но самое большое значение Парацельс придавал применению химии в медицине. Когда Парацельс был студентом, в университетах химия как отдельная специальность не преподавалась. Теоретические представления о химических явлениях рассматривались в курсе философии в свете общих представлений о возникновении и исчезновении веществ. Экспериментальной же работой в области химии занимались многочисленные аптекари и алхимики. Последние, делая опыты по «трасмутации» металлов, не только открывали новые способы получения различных веществ, но и развивали натурфилософские учения древнегреческих философов Аристотеля, Эмпедокла, Левкиппа, Демокрита. Согласно этим учениям, все вещества в природе состоят из более простых частей, называемых элементами. Такими элементами по Левкиппу и Демокриту были атомы — мельчайшие частицы бескачественной первичной материи, различные только по величине и форме. В 1515 году Теофраст получил во Флоренции степень доктора медицины. Но приобретенные знания не удовлетворяли Парацельса. Наблюдая, как часто оказываются бессильными у постели больного врачи с их знаниями, довольно мало изменившимися со времен античности, Парацельс решил усовершенствовать эту область, введя в нее новые представления о болезнях и методы лечения больных. При создании новой системы медицины Парацельс опирался на знания, полученные им во время путешествий по разным странам. По его словам, он слушал лекции медицинских светил в крупнейших университетах, в медицинских школах Парижа и Монпелье, побывал в Италии и Испании. Был в Лиссабоне, потом отправился в Англию, переменил курс на Литву, забрел в Польшу, Венгрию, Валахию, Хорватию. И повсюду прилежно и старательно выспрашивал и запоминал секреты искусства врачевания. Не только у докторов, но и у цирюльников, банщиков, знахарок. Он пытался узнать, как они ухаживают за больными, какие применяют средства. Затем Парацельс практиковал, апробируя все то, что узнал во время своих поисков. Служил некоторое время лекарем в армии датского короля Христиана, участвовал в его походах, работал фельдшером в нидерландском войске. Армейская практика дала ему богатейший материал. В 1524 году Парацельс решил, наконец, прекратить странствия и поселиться в Зальцбурге; однако, уже через год ученому пришлось срочно покинуть этот город, так как поддержка им борьбы крестьян против феодалов навлекла гнев городских властей. 1526 год ученый провел в Страсбурге, а в следующем году он был приглашен на должность городского врача в крупный швейцарский торговый город Базель. Парацельсу удалось вылечить одного богача, которому не смогли помочь лучшие лекари города. Его пригласили занять кафедру медицины в Базельском университете. На первой же лекции он перед глазами изумленных студентов сжег сочинения Галена и Авиценны и заявил, что даже завязки его башмаков знают больше, чем эти древние мокротники. В городском университете Парацельс впервые стал читать лекции студентам-медикам на немецком языке вместо традиционной латыни. Так новый профессор боролся против догматической медицины средневековья, тесно связанной с теологией. Философские взгляды Парацельса, изложенные им во многих трудах, сводились к следующему: между природой и человеком должна существовать гармония. Необходимым условием создания разумного общественного строя являются совместный труд людей и их равноправное участие в пользовании материальными благами. В философских работах Парацельса приводятся также основные доводы против богословской, враждебной естествознанию идеологии средневековья, дается резкая критика общественных отношений во времена феодализма и эпохи раннего капитализма. В 1528 году Парацельсу пришлось тайком покинуть Базель, где ему угрожал суд за вольнодумство. Он вынужден скитаться в горных районах Ашенцелля, переходя из деревушки в деревушку, изредка врачуя крестьян. Парацельс хотел остаться в Кольмаре, заняться врачебной практикой. Но задержался там всего на полгода. Он не мог смириться с невежеством, шарлатанством лиц, облаченных в докторские мантии, и в Кольмаре остался верен себе. В Кольмаре о Парацельсе заговорили как об искуснейшем враче. Ему удавалось поднимать на ноги больных, которых другие врачи считали безнадежными. Популярность его росла. Однако его независимое поведение, резкие суждения о собратьях по цеху, отказ от слепого преклонения перед авторитетами пришлись по нраву далеко не всем. К тому же Парацельс занимался алхимией, усердно изучал труды восточных магов и мистиков. Человек увлекающийся, пытливый, он проявлял интерес ко всему, где, как ему казалось, можно открыть что-то новое. Он заблуждался, нередко попадал в плен суеверных представлений, терпел неудачи, но продолжал поиски. Все это давало пищу для разных домыслов о том, что Парацельс вступил в сношения с самим дьяволом. Положение усугублялось тем, что в Кольмаре продолжали сохранять свои позиции католики. Они-то ревностно следили за тем, чтобы никто не осмеливался выступать с суждениями, шедшими вразрез с установившимися представлениями. Только каноны, освященные католической церковью, признавались действительными, любая попытка подвергнуть их пересмотру объявлялась кощунственной. Парацельсу в любую минуту могли предъявить обвинение в ереси и учинить над ним расправу. Из Кольмара путь скитальца лежал в Эслинген, а потом Парацельс перебрался в Нюрнберг, где он надеялся издать свои сочинения. К тому времени он написал немало. В его дорожном багаже лежало несколько сот страниц сочинений. Записывал свои наблюдения, делал выводы, высказывал собственные суждения. Он был необычайно работоспособен. Сохранились свидетельства о том, что Парацельс порой проводил за письменным столом по нескольку дней кряду, почти без сна. Наконец ему улыбнулось счастье. Одну за другой ему удалось издать четыре книги. Но затем неожиданно последовало решение городского магистрата о запрещении дальнейшего печатания его произведений. Причиной тому было требование профессоров и докторов медицинского факультета Лейпцигского университета, возмутившихся сочинениями Парацельса. Они не могли принять новшеств Парацельса, ибо находились во власти сложившихся представлений, которые воспринимались как истина. И тогда в отчаянии он бросил все и покинул Нюрнберг, направившись в Инсбрук, надеясь заняться, наконец, постоянной врачебной практикой, по которой изрядно истосковался. Но бургомистр не поверил, что появившийся в Инсбруке человек в оборванном платье и с грубыми, как у простого мужика, руками — врач. Он велел самозванцу покинуть город. Случайно узнав, что в Штерцинге эпидемия чумы, Парацельс идет в этот город. Обходя дома больных, приготовляя свои лекарства, он настойчиво пытался понять, в чем причины этого страшного заболевания, как можно предотвратить эпидемии, какими средствами следует лечить больных. Но когда кончилась эпидемия, Парацельс оказался не нужен и в Штерцинге. Он вынужден был опять бродить по дорогам, меняя город за городом, надеясь, что в каком-нибудь из них городские власти все-таки удостоят его вниманием. Но даже там, где власти были бы и не прочь пригласить Парацельса, решительно возражало католическое духовенство, да и протестанты всегда считали Парацельса нежелательным лицом. И вдруг ему неожиданно вновь улыбнулось счастье. В Ульме, а затем в Аугсбурге напечатали его труд «Большая хирургия». И эта книга сделала то, чего много лет добивался Парацельс. Она заставила заговорить о нем как о выдающемся медике. Подобно алхимикам, Парацельс исходил из представления, что все вещества состоят из элементов, способных соединяться друг с другом. При разложении веществ элементы разъединяются. Но в отличие от алхимиков Парацельс подчеркнул вещественный характер трех начал: «серы» — начала горючести, «ртути» — начала летучести, «соли» — начала огнепостоянства. Считая, что каждый из четырех элементов Аристотеля должен состоять из этих начал, Парацельс писал: «Каждый элемент состоит из трех начал: ртути, серы и соли». Существенно новым в учении Парацельса было то, что он таким же образом рассматривал состав всех тел, включая и человеческий организм. Человек, считал Парацельс, образован духом, душой и телом. Нарушение взаимного равновесия главных элементов ведет к болезни. Если в организме избыток серы, то человек заболевает лихорадкой или чумой. При избытке ртути наступает паралич. А слишком большое обилие солей вызывает расстройство желудка и водянку. Задача врача — выяснить отношение между основными элементами в теле больного и восстановить их равновесие. Следовательно, это нарушенное равновесие можно восстановить при помощи определенных химических препаратов. Поэтому первоочередной задачей химии Парацельс считал поиск веществ, которые могли быть использованы как лекарственные средства. С этой целью он проверял действие на людей различных соединений меди, свинца, ртути, сурьмы, мышьяка. Особую славу приобрел Парацельс, весьма успешно применяя ртутные препараты для лечения широко распространенного в то время сифилиса. Парацельс много занимался химическими опытами, Он составлял лекарства, экспериментировал и диктовал результаты секретарю, который записывал их и переводил на латынь. Многие из его мыслей были перевраны при переводе, а потом еще раз испорчены врагами. Парацельса обвиняли в том, что «он превратил живые тела в химические лаборатории, где различные органы, подобно перегонным кубам, печам, ретортам, реактивам, растворяют, мацерируют (размачивают — авт.), возгоняют питательные вещества». Сегодня бы сказали, что Парацельс моделировал интересующие его процессы. Его химическая модель жизнедеятельности организма была грубой, но материалистической и прогрессивной для своей эпохи. Итак, после выхода книги положение доктора Парацельса счастливо переменилось. Его принимают в лучших домах, к нему обращаются знатные вельможи. Он лечит маршала королевства Богемии Иоганна фон Лейпника. В Вене его удостаивает вниманием сам король Фердинанд. Получивший признание вечный скиталец использовал это для того, чтобы наверстать упущенное. Опять дни и ночи просиживает он за столом, записывая свои мысли, стремясь успеть поведать людям о том, что узнал за свою жизнь, поделиться с ними своим опытом. Он верит, что выработанные им приемы лечения некоторых заболеваний, впервые введенные в лечебную практику лекарства, методика хирургических операций, которую он разработал, окажут немалую помощь медикам. Он словно чувствовал, что жизнь его клонится к закату. Годы скитаний, напряженнейшего труда, постоянной борьбы с недругами подорвали его организм. Последнее его пристанище — Зальцбург. Наконец-то он может заняться врачебной практикой и писать труды, не заботясь о там, что завтра, быть может, ему придется перебираться в другой город. У него есть свой маленький домик на окраине, есть кабинет, своя лаборатория. У него есть теперь все, кроме одного — здоровья. Смертельная болезнь подстерегает его в один из сентябрьских дней 1541 года. На могиле Парацельса в Зальцбурге поставили большой камень. Резчик высек на нем бесхитростную надпись: «Здесь погребен Филипп-Теофраст, превосходный доктор медицины, который тяжелые раны, проказу, подагру, водянку и другие неизлечимые болезни тела идеальным искусством излечивал и завещал свое имущество разделить и пожертвовать беднякам. В 1541 году на 24 день сентября сменил он жизнь на смерть».
-
Вот, еще... В 1994 году медики Санкт-Петербурга привезли с международного научного симпозиума загадочную видеокассету. То, что они увидели на экране, не укладывалось в представления о мозге, известные в то время науке. Герой видеосюжета спокоен, неподвижен, но внутри его черепа и около него пульсируют светящиеся волны с частотой сердечных сокращений. Волны пронизывали всего человека и осеняли пространство над его головой. Медики пригласили посмотреть этот видеосюжет академика А. Е. Акимова, который объяснил им, что светящиеся волны — это торсионное поле, которое аппаратура электронного парамагнитного резонанса сделала видимым для всех. Исследования показали, что деятельность мозга совершается в соответствии с квантовыми законами. Как свидетельствуют эксперименты академика Н. П. Бехтеревой, человеческий мозг является органом, который порождает волновые структуры, адекватные формам внешнего мира. Физиолог А. Н. Лебедев выдвинул предположение о записи воспринимаемой информации и ее хранении в памяти в виде устойчивых голографических узоров, образованных разными фазами когерентных незатухающих волн нейронной активности, появляющихся в различных местах мозга. Сами волны представляют собой комбинацию разночастотных колебаний, причем волны одинаковой частоты могут различаться фазами и амплитудами. Всемирно известный нейропсихолог К. Прибрам экспериментально обнаружил, что в мозге, кроме стандартного переноса нервных импульсов между ЦНС и периферическими рецепторами, постоянно существуют медленно-волновые потенциалы между синапсами. Прибрам предположил, что это «параллельное функционирование принципиально важно для организации работы мозга, а взаимодействия двух систем приводят к появлению волновых феноменов, отвечающих голографическим принципам». К. Прибрам и Ф. Вестлейк впервые сформулировали голографическую модель работы мозга. «Источником построения голографической записи являются возникающие в ходе работы нервных клеток волновые процессы и импульсы, информация же кодируется на множестве взаимодействующих друг с другом нейронов. Голографическая модель прекрасно описывает свойства распределенности информации в нейронных сетях мозга». Таким образом, мозг, как и тонкие тела человека, устроен по голографическому принципу. Об этом свидетельствуют многие факты и, в частности, факт мгновенного узнавания. Человек, увидев знакомое лицо, сразу узнает его. Если, например, образ этого человека записан в какой-то одной ячейке памяти, то в других ячейках записаны тысячи других образов. А человек узнает сразу, не перебирая все «фотографии» в памяти. Значит, информация об этом человеке имеется везде, в каждой ячейке. Этот так называемый принцип внутримозгового радио обеспечивает дистанционное взаимодействие между различными системами мозга; он отлично характеризует голографическую природу устройства мозга. Однажды полученная информация фиксируется мозгом навсегда, ибо образы со временем не тускнеют и могут быть воспроизведены через много лет, а волновой принцип кодирования информации позволяет мгновенно извлекать эту информацию из любой ячейки памяти. Только возникает вопрос: каким образом сохраняется информация в памяти во время клинической смерти человека? Ведь физический организм (и мозг в частности) не функционирует, и разность потенциалов клеток равна нулю. Информация, если она хранится в мозге, должна быть стерта. А этого не происходит, и человек после реанимации по-прежнему мгновенно узнает своих родных, друзей и просто знакомых. Оказывается, механизм памяти основывается на тонкоматериальной структуре; хранителем и носителем информации является биополевая система. Так, академик П. П. Гаряев пишет: «ДНК в составе хромосом нейронов головного мозга обладает еще одним существенным свойством, связанным с механизмами корковой памяти. Такая память человека имеет отчетливо выраженную и хорошо изученную голографическую природу». Не менее интересно высказывание доктора философских наук А. К. Манеева: «В данной связи представляется удивительно глубокой мысль Гераклита о том, что "сила мышления находится вне тела", то есть что мышление базируется отнюдь не на физиологических отправлениях белковой телесной организации, хотя как информационный процесс, протекающий в организме, связано с функцией мозга — этого наиболее важного блока в системе приобретения информации и основного рычага управления высокоорганизованной субстратно-вещественной системой организма; непосредственной же материальной структурой, функционирование которой порождает мысль как информационный образ, является полевая формация биосистемы. Например, кровь не менее, чем мозг, необходима для реализации всех функций организма, но ее же не считают органом мысли. А ведь при быстром удалении значительной ее части прекращаются все функции организма (физиологические, биологические, психические), несмотря на временное сохранение структуры всех органов, в том числе и мозга, неизменной. Поэтому мозг нужно рассматривать как блок считывания информации, хранящейся в биополевой системе». Таким образом, комплекс тонких тел не только обеспечивает всю работу организма на физиологическом и психическом уровнях, не только служит хранилищем информации, но и является инструментом мышления. Это положение подтверждает академик В. П. Казначеев: «Думаю, полевое вещество, "поле", не только является основой интеллекта, но и управляет развитием всего живого организма». А мозг — это считывающее устройство, позволяющее черпать информацию из биополевой системы человека и информационного поля Вселенной. По поводу роли мозга исследователь И. П. Шмелев пишет: «...Физическая структура мозга, как и нейрофизиологические импульсы, не формируют психический акт, не порождают мыслительного движения, а лишь отображают развертывание психического акта, протекающего в иной мерностной области: мозг не мыслит, ибо психический процесс вынесен за пределы этого органа». Лауреат Нобелевской премии французский философ Анри Бергсон еще много лет назад писал: «Мозг — не что иное, как нечто вроде центральной телефонной станции, его роль сводится к выдаче сообщения или к выяснению его. Он ничего не прибавляет к тому, что получает. Уже самим своим строением мозг доказывает, что его функция есть превращение чужого раздражения в хорошо выбранную реакцию». Крупнейший ученый В. Ф. Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука) писал о мозге: «Мозг не орган мысли, чувств, сознания, но он то, что приковывает сознание, чувства, мысли к действительной жизни, заставляет их прислушиваться к действительным нуждам и делает их способными к полезному действию. Мозг, собственно, орган внимания к жизни, приноровления к действительности». Последние научные исследования показали следующее. В коре головного мозга не обнаружены центры мышления и памяти и отсутствуют специфические структурообразования, реализующие эти функции. Мышление и долговременная память не могут быть реализованы на путях распространения нервных импульсов по нейронным сетям головного мозга, поскольку скорость перемещения потенциала действия вдоль нервного волокна и время синаптической передачи не обеспечивают реально существующего быстродействия механизмов мышления и памяти. Такое быстродействие при переносе, запоминании и извлечении из памяти ничем не ограниченных объемов информации может осуществляться только на полевом уровне. Биологические системы обладают материальной основой для реализации механизма сознания на полевом уровне, а исходящее от них излучение несет сложную информацию и может иметь торсионную природу. Итак, мозг не имеет никакого отношения к сознанию. Он воспринимает информацию из сферы сознания и формирует ее в последовательность воздействий на нервные центры, а уж они — на мышцы того или иного органа физического тела. То, что мы сегодня называем ИНСТИНКТОМ,— это и есть основной набор функций мозга человека. Сфера сознания осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные процессы в существе человека. Процессы мышления и принятия решений осуществляются вне нашего мозга, вне нашего физического тела, они осуществляются в ином измерении — в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только следствие процесса мышления — его результат. Так что мозг человека — это система управления физическим телом и канал связи физического тела с сознанием человека. Дигениус ван Руллер отмечает, что часть нашего мозга может работать как телевизионные приемник и передатчик, а другая часть может обрабатывать и оценивать информацию. Какие образы телевизионный приемник примет и направит в память, а какие пошлет дальше в виде сигналов, зависит от особенностей данного мозга. Иными словами, от того, на что настроен данный мозг и какая у него антенна. :lol:
-
Pryvit Aragami! Yak spravi?
-
Пользуясь возможностью, я поздравляю всех Адамянцев с премьерами, и шлю свои теплые пожелания... Продолжайте с честью идти по этой дороге, которая, безусловно, еще много раз будет увенчана великими успехами! От всей души поздравляю Вас, Дорогие Друзья, и желаю Вам новых успехов в Вашем благородном служении высокому искусству. Желаю нашему замечательному, потрясающему театру, процветания, радости творчества, бесстрашия в постоянном движении вперёд во имя высокого Искусства и на благо Театральной Культуры! А фотоотчет с премьеры будет?
-
К «хранящему молчание»... Точно так же, как веточки живого дерева, к своим источникам питания - свету и воздуху…
-
Уважаемый Mr. Almi Hevaii, у Жизни много вариантов, разве можно Вас удивить ... Хотя, говорят же, чем меньше ждут от человека, тем ему легче удивить окружающих (шутка)... По сути язык символов разумеется сложен и одновременно прекрасен… В одной и той же фигуре он может быть и скрытым и явным, потому что для мудрого предмет символа ясен, в то время как для невежественного фигура остается не постижимой. Ведь они складывались веками… да, и современность тоже накладывает, освой отпечаток… Но, каждый символ для своего понимания содержит десяток ключей… полностью смысл символа еще только предстоит разгадать, и сложность заключается в правильном подборе ключа к определенной тайне… Крест называют знаком знаков. Хотя, конечно, так его называют только христиане. Основной смысл всех крестов, как мне известно: жизнь. Для алхимиков крест был символом четырех элементов: воздуха, земли, воды и огня. Этот крест мне напоминает: Железный крест, который является самой высшей военной наградой в Германии. В геральдике эта форма называется "форме" или "патте" (по-французски "лапа") из-за своей формы, напоминающей четыре лапы. Больше ничего мне неизвестно, пока. Поищу, возможно, что - то найду. Mr. Almi Hevaii, на роль Мисс Андерсен пока не претендую, Боже упаси, но, узнать древнюю классификацию этого креста хотелось бы. Кто его знает...
-
Наука - ожерелье состоит из множества ученых - жемчугов... И все они держатся - на одной нитке … Нанизывая жемчуг, волнуешься так, чтоб не терять ни одной жемчужины и не выпускать концы нитки из рук.
-
Роджер Бэкон (ок.1214-1292) Роджер Бэкон, вне всякого сомнения, один из самых оригинальных мыслителей XIII столетия. Не много известно о жизни Роджера Бэкона. Прямых свидетельств, которые могли бы точно указать время его рождения, нет. На нынешний момент наиболее вероятной датой его рождения считают 1214 год, хотя были выдвинуты аргументы в пользу 1210 (Ш. Журдэн) и 1220 (Д. Линдберг) годов. Что касается места рождения Бэкона, то достоверно известно лишь то, что он родился в Англии. Семья Бэкона – одна из многих, носивших такую фамилию – была в хозяйственном отношении обеспеченной: Бэкон сообщает, что он мог тратить более двух тысяч фунтов на книги, таблицы, инструменты, и прочие необходимые для его научных работ вещи. Впрочем, поддержка Генри III в борьбе против Симона де Монфора и баронов, по-видимому, привела семью к финансовому разорению и изгнанию, так что в 1266 году просьба Бэкона выслать денег не нашла отклика. Известно, что у Бэкона были братья, один из которых был ученым. Первоначальное образование Бэкон, по-видимому, получил в Оксфорде, хотя в этом вопросе тоже нет никаких надежных свидетельств, на которые можно было бы опереться. Поскольку труды Бэкона изобилуют ссылками на известных оксфордских и парижских профессоров, некоторых из которых, как он утверждает, он видел собственными глазами, то можно сделать вывод о том, что его академическая карьера складывалась в университетах Оксфорда и Парижа. Вероятно, в начале 1240-ых годов Роджер Бэкон переехал в Париж, получив степень магистра искусств то ли в Оксфорде, то ли уже в Париже. По крайней мере, если отталкиваться от его собственных слов о том, что он видел Александра из Гельса, то выходит, что он был в Париже еще до смерти Александра, последовавшей в 1245 году. Несомненно, именно в 1240-ых годах Роджер читал лекции по Аристотелю на факультете искусств в Париже. Запрет на чтение лекций по Аристотелю тогда видимо уже не воспринимался всерьез. По мнению Линдберга, именно в этот период Бэкон составил цикл quaestiones к "Физике" Аристотеля и, похоже, Роджер одним из первых начал читать лекции по libri naturales Аристотеля. Большинство исследователей сходится на том, что примерно в 1247 году или же, по крайней мере, не позже 1250 года Бэкон покидает Париж и возвращается в Оксфорд. Похоже, в это время Бэкон посвящает себя частным занятиям, что сопровождалось малой преподавательской активностью, вызванной по его словам неважным состоянием здоровья. Некоторые исследователи, в частности Линдберг, полагают, что именно в этот период в мировоззрении Бэкона происходит смена мировоззренческих ориентиров, выразившаяся в некотором ослаблении интереса к аристотелевской традиции и обращении к мысли Роберта Гроссетеста и содержанию разнообразных арабских источников. Философия Гроссетеста в этот период занимает все большее место в его мировоззрении. Вероятно, в 1251 году Бэкон снова уезжает в Париж, но не надолго. Предположение о том, что в этот период Роджер Бэкон мог быть учеником Роберта Гроссетеста довольно сомнительно в силу того, что церковные дела и обязанности Гроссетеста, бывшего с 1235 года и вплоть до своей смерти в 1253 году епископом Линкольна, вероятно, отнимали не мало времени и сил, что препятствовало серьезному вовлечению в занятия натуральной философией. Кроме того, не смотря на то, что Бэкон делает частые заявления о том, что знал или видел разных знаменитых современников, и, не смотря на то, что он неоднократно превозносит Гроссетеста, он совершенно не делает никаких заявлений о том, встречался ли он с последним; и, как замечает Истон, было бы совершенно непохоже на Бэкона, если бы он не извлек выгоды из такого события, случись оно в его жизни. Несомненно, Бэкон испытал сильное влияние философии Гроссетеста, но вероятно лишь через его сочинения. Примерно в 1257 году Бэкон вступил во францисканский орден. О причинах его вступления в орден можно лишь строить предположения. Однако с обоснованной уверенностью можно утверждать, что Бэкон рассчитывал на благосклонное отношение орденского начальства и братьев к его занятиям. Как складывалась жизнь Бэкона в ордене – вопрос во многом неясный. Известно, что в какой-то момент отношения Бэкона со старшими и братьями по ордену портятся, однако каковы причины этого – точно сказать невозможно. В жалобах, изложенных Папе, Бэкон обвиняет своих руководителей в том, что они беспрестанно нагружают его разными обязанностями и в том, что он подвергается нападкам с "невыразимой жестокостью"; он сообщает даже следующее: "мои руководители и братья, подвергая меня наказанию голодом, держали меня под строгой охраной и никому не позволяли прийти ко мне…" В 1265 году Бэкон, будучи в Париже, пытается завязать дружбу с кардиналом Ги де Фулькесом, надеясь на то, что тот окажет финансовую и иную поддержку его работам. В ответ кардинал предписал Бэкону прислать сочинение, видимо предполагая, что оно уже готово. Бэкону нечего было посылать, он испытывал острую нужду в средствах - научные разработки потребовали бы покупки книг и оборудования, оплаты работы писцов и ассистентов. Вероятно, в это время Роджер попытался изыскать средства у семьи и друзей, впрочем, с весьма скромными результатами. Часть биографов полагает, что, не смотря на нехватку денег, работа продвигалась быстро, в то время как другие считают, что он почти совсем прекратил работать. В любом случае, обстоятельства драматически изменились в феврале 1265 года, когда Ги де Фулькес был избран Папой под именем Климента IV; человек, который однажды уже проявил интерес к проектам Бэкона, теперь имел гораздо больше возможностей оказать поддержку. Пытаясь максимально использовать удачное стечение обстоятельств, Бэкон предпринимает очередные попытки наладить контакты, пересылая Папе письмо через английского посланника Уильяма Бонекора. Папа ответил в письме за июнь 1266 года, указав Бэкону выслать сочинение, затребованное ранее, а также "раскрыть нам ваши средства решения важных проблем, к которым недавно вы привлекли наше внимание как можно быстрее, и насколько возможно конфиденциально". Бэкону предлагалось изложить свои соображения по вопросам реформирования университетского образования, церковной жизни и т. п. Однако в очередной раз Папа не сделал ничего для того, чтобы продвинуть научные работы Бэкона. Работы Бэкона, адресованные Папе – Opus maius, Opus minus и Opus tertium, охватывают приблизительно один и тот же достаточно широкий круг проблем и написаны примерно в одно время. Opus minus является дополнением к Opus maius, а Opus tertium представляет собой краткое изложение идей, содержащихся в первом сочинении. В качестве приложения к Opus maius и Opus minus Папе был послан также специальный трактат De multiplicatione specierum, в котором находят свое отражение натурфилософские взгляды Роджера Бэкона. Однако смерть Папы, последовавшая в 1267 году, похоронила надежды Бэкона на осуществление его замыслов. О дальнейших примерно двадцати пяти годах жизни Бэкона нам практически ничего неизвестно. Вероятно, в конце 1260-ых он закончил работу над сочинениями Communia mathematica и Communia naturalium. Compendium studii philosophie по всей видимости был закончен примерно в 1272 году. Первые два трактата представляют собой изложение и рассмотрение наиболее общих и базовых вопросов математики и физики соответственно. В Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, есть запись, датированная примерно 1370 годом, где сообщается, что генерал францисканцев Иероним из Асколи по просьбе братии осудил учение брата Роджера Бэкона, магистра священной теологии, за некие подозрительные новшества и по этой причине "этот Роджер" был заключен под стражу. Многие не склонны доверять этому документу, написанному почти сто лет спустя, не только ввиду отсутствия иных подтверждающих свидетельств, но также и потому, что Роджер Бэкон здесь упомянут в качестве "магистра священной теологии", каковым тот точно не был. Как бы там ни было, многое говорит в пользу того, что Бэкон все же был заточен в тюрьму. В этом вопросе сходятся все биографы Бэкона. Различаются лишь оценки длительности заточения. Известно лишь, что в 1292 году Бэкон был на свободе, и работал над сочинением Compendium studii theologie, которое известно в отрывках и, видимо, так и не было закончено. Примерно в 1292 или около того Роджер Бэкон умер.
-
Спасибо Mr. Almi Hevaii! Крукс, который с такими страшными трубками исследовал явление, известное как «темное пространство»... и которое теперь называется «пространством Астона»...
-
О да, мистер Mr. Almi Hevaii, возможно Вы и правы... тем более, что, за 400 лет до открытия туманности Андромеды, Роджер Бэкон узнал о ее существовании с помощью какого-то загадочно вогнутого зеркала… Среди современников он слыл великим магом, но сегодня мы назвали бы его скорее научным экспериментатором, всю жизнь стремившимся к разгадке тайн природы... Пытаясь создать своего рода энциклопедию наук, он старался объединить в единое непротиворечивое целое математику, физику, магию, медицину, этику, мистическое озарение... И, естественно, нажил себе массу врагов среди схоластов — из числа ученых и религиозных деятелей… Вот что, к примеру, пишет один из исследователей его деятельности В. Винтроп: "Он сделал два зеркала в Оксфордском университете: при помощи одного из них он мог в любое время суток зажечь свечу; в другом же вы могли видеть, чем занимаются люди в любом месте земного шара. Экспериментируя с первым, студенты потратили больше времени на воспламенение свечи, чем на изучение книг... Поэтому с общего согласия... оба зеркала были разбиты". Большинство научных работ Бэкона до сих пор не напечатаны, но и то, что сегодня известно, поражает воображение. Непостижимым образом он заглядывал на сотни лет вперед: предсказал изобретение микроскопа и телескопа, автомобиля и самолета, кораблей, приводимых в действие моторами; за двести лет до изобретения пороха Бертольдом Шварцем описал состав и действие этого взрывчатого вещества. Современные исследователи творчества Бэкона считают, что именно благодаря ему в 1287 году в Европе появились очки. Утверждают, что этому ученому было известно о галактиках, о строении клетки и процессе образования эмбриона от слияния сперматозоида и яйцеклетки, что он знал секрет какого-то источника энергии, превосходящей атомную... Откуда все эти сведения у человека, жившего за три века до Джордано Бруно и Галилея и за семь столетий до современных научных открытий? Говорят, были у Бэкона какие-то неведомые ученым того времени инструменты. И среди них — таинственное вогнутое зеркало. Откуда оно взялось и что из себя представляло, остается загадкой и по сей день... Известно только, что это зеркало позволяло Бэкону делать потрясающие открытия. Так, он утверждал, что "увидел в вогнутом зеркале звезду, имеющую форму улитки. Она расположена между пупом Пегаса, бюстом Андромеды и головой Кассиопеи". Поразительно, но именно в этом месте через четыре столетия европейскими учеными будет обнаружена первая внегалактическая туманность — туманность Андромеды... Казалось бы, что особенного, что принципиально нового в вогнутых зеркалах? Точно так же, как плоские, они отражают видимые и невидимые энергии, "тонкие" излучения человека, усиливают их. И все же есть у вогнутых зеркал принципиальная и важная особенность. Это их фокус — то место в пространстве, где пересекаются отраженные лучи. Одними из первых столкнулись с этим эффектом в научном эксперименте флорентийские академики. В 1667 году в объемном коллективном труде — своего рода отчете о научных исследованиях — они описали на первый взгляд странный эксперимент: на значительном расстоянии от двухсоткилограммовой глыбы льда устанавливали вогнутое зеркало и обнаруживали при этом, что в его фокусе температура воздуха заметно снижалась… Свойства фокусов еще до конца не исследованы, но уже сейчас можно предположить, что ученых здесь ожидают большие открытия. Так, есть сведения об экспериментах с двумя поставленными друг напротив друга вогнутыми зеркалами со специально обработанными отражающими поверхностями... Если фокусы этих зеркал совместить с большой точностью, то при определенных условиях небольшие предметы, помещенные в эту точку, вдруг зависают в воздухе, словно на них не действует сила гравитации.