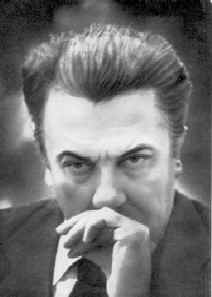-
Posts
14,853 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
8
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Nazel
-
Джульетта Мазина и Федерико Феллини. «Лучший режиссер, но не лучший муж» Они познакомились в 1943 году, Феллини было 23, Джульетта была моложе его на 2 года. Он работал репортером и карикатуристом, а в свободное время писал пьесы для радиосериалов. Мазина, начинающая актриса, получила главную роль в одном из них. Когда Феллини услышал ее голос, он потерял голову. Какой может быть женщина, говорящая на языке русалок? В ней страсть и ранимость, чувственность и невинность сочетаются и существуют в гармонии, чаруя и околдовывая всех, кто ее слышит. Федерико был уверен, что Джульетта — женщина его мечты. А мечтал Феллини о пышнотелых, грудастых блондинках. Каково же было его разочарование, когда он увидел Мазину воочию! Тоненькая, изящная брюнетка с огромными мерцающими карими глазами. Бесспорно, красивая, но совершенно не во вкусе Федерико. И тем не менее они очень быстро сошлись и поженились уже через несколько месяцев после знакомства. Друзья Феллини недоумевали. Чем смогла привлечь столь хрупкая девушка любителя огромных прелестей? Ответ был прост: Джульетта понимала Феллини как никто другой. Она не только выслушивала его бесконечные фантазии, она делала их реальностью. Именно это было нужно Феллини. Друг семьи композитор Нино Рота вспоминал, как однажды во время обеда Федерико окликнул жену: «Помнишь, Джульетта, когда мы были в Австралии…» Все сидящие за столом прекрасно знали, что ни Федерико, ни Мазина никогда не были в Австралии. Но Мазина лишь улыбнулась и кивнула: «Да, милый, там были чудесные артишоки». «ЗАМУЖЕСТВО для Джульетты оказалось не тем, чего она ждала. Оно не принесло ей исполнения заветных желаний. Она ждала от брака детей. Собственного дома. И верного мужа. Я ее разочаровал. Она меня — нет. Не думаю, что мог бы найти жену лучше» — так позже Феллини оценил прожитую жизнь в своих мемуарах. И это соответствовало правде. Джульетта мечтала стать матерью. Ее радости не было предела, когда вскоре после свадьбы она забеременела. Трагедия случилась внезапно: Джульетта упала с лестницы и потеряла ребенка. Она очень переживала из-за выкидыша. Исцелить ее боль мог только другой ребенок, и его надо было поскорее завести. Они не планировали беременность специально, но, когда Джульетта забеременела во второй раз, они оба решили, что проблемам конец и счастье совсем близко. В их жизнь вошел кто-то третий, еще не родившийся, но уже такой реальный и любимый. Они заранее придумали ребенку имя — Федерико, на этом настояла Джульетта. Любимый сын в честь любимого мужа. Роды прошли удачно, но малыш умер, прожив всего две недели. Врачи вынесли Мазине страшный приговор: больше никогда она не сможет иметь детей. Погибший ребенок связал Джульетту и Федерико еще сильнее. «Общая трагедия, особенно пережитая в молодости, устанавливает между людьми прочную связь. Если бездетная пара не распадается, это означает, что связь действительно прочна. У супругов есть только они сами», — вспоминал Феллини. Позже, когда душевная рана перестала болеть так сильно, Феллини предложил жене усыновить ребенка. Но Джульетта отказалась. Она была не готова, у нее уже был ребенок — великий маэстро, чьим капризам она потакала, ради которого она шла на любые жертвы и кому она отдала всю любовь и привязанность, которой не смогла согреть погибшего сына. Феллини прославил Джульетту, дав ей роли в своих лучших фильмах. Это верно, но не менее правдиво и утверждение, что Джульетта Мазина — женщина, которая сделала Федерико Феллини. Она прилагала максимум усилий для того, чтобы талант любимого был реализован и нашел признание. Она устраивала званые обеды для режиссеров и людей, которые были полезны Феллини, именно она настояла на том, чтобы маэстро снял свой первый фильм, и помогла найти средства, обхаживала его коллег, утверждала актеров, выбирала натуру. А Феллини заказывал свои знаменитые красные шарфы у дорогих портных и совершенно не замечал, что у Мазины, в отличие от прочих кинозвезд, нет ни шикарных нарядов, ни драгоценностей. Мазина мечтала о загородном доме, но по прихоти Феллини они обосновались в самом центре Рима. Джульетта не упрекала мужа, не расстраивалась, лишь молча улыбалась. Ради Феллини она была готова на все. Он стал смыслом ее жизни. СМЫСЛ жизни Джульетты Мазины исчез осенью 1993 года. День, когда хоронили Федерико Феллини, стал днем национального траура для всей Италии. В Риме было остановлено движение, телевидение и радиостанции прекратили свою работу. Со всех концов страны в столицу начали стекаться люди, для того чтобы многотысячной толпой проводить великого маэстро в его последний путь. Джульетта Мазина перестала общаться с друзьями, почти не разговаривала. Монотонное повторение одной и той же фразы — единственное, что можно было услышать от актрисы: «Без Федерико меня нет…» Джульетта Мазина пережила Феллини всего на пять месяцев. Она скончалась от рака, уверенная, что была единственной настоящей любовью великого режиссера…
-
есть пословица:поспешишь-людей насмешишь.
-
Простите,но избиваемые виноваты сами,а по поводу камо-а был ли у него выбор,,,,,
-
по-моему,у всех программ уровень не самый высокий,но это требования сегодняшнего телевидения,но я бы не утверждала столь категорично,что у них нет чувства юмора,
-
-
Asatryan,salut,ça va????Tu marches???
-
K сожалению,пропала подборка переводов Манука Жажояна армянской поэзии.Oни,вернее,часть из них была была напечатана в "литературной Aрмении". Может,есть у кого?
-
ну не помню я а лазить в гугл не хочу
-
А БЫВАЮТ ЛИ ЖЕНЩИНЫ УМНЫМИ
-
впечатлила женщина с обнаженной грудью либо ведьма,либо еретичка
-
Манук Жажоян «КАК ПОЗДНО Я К ВАМ ПРИХОЖУ СО СТИХАМИ СВОИМИ...» Я хорошо помню свое первое впечатление от первого знакомства с его поэзией. Четыре строки из стихотворения «Экскурсия в лицей»: И нет причин — а мы с тобою плачем, а мы идем и плачем без конца, что был он самым маленьким и младшим, поди стеснялся смуглого лица...— врезались в сердце и память, ибо ощущались в них не трехаккордная слезность, а воспетая Стерном «милая чувствительность», которая всегда стоит на неуловимой границе с иронией, но которую критики, говоря о Чичибабине, почему-то называют «простодушием», не различая именно иронии (а находя вместо нее какое-то «юродство», «скоморошество») в едкой и часто беззащитной его поэзии... Надо быть именно критиком, и никем больше, чтобы говорить о «простодушии» поэта,— и не обвинения ли в «простодушии» больше всего боится современная русская поэзия, создавая свою приблатненную поэтику (в случае малообразованности), либо прячась за спину модернистской классики, да и то усвоенной все больше в переводах (в случае среднестатистической начитанности). Борис Чичибабин был долгое время лишен критики — его первые книги прошли незамеченными — и, следовательно, свободен от «обязательств» перед новейшими поэтическими веяниями, навязываемыми извне, равно как и от требований посконной «литфондовской» лирики. Его поэзия, постоянно оглядывающаяся на «вечных спутников» (Блок, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова и прежде всех — Пушкин), не желала, не принимала иных влияний... Трудно подсчитать количество упоминаний этих имен в его стихах (а также Данте, Баха, Босха, Моцарта, Сервантеса, Рильке, Чюрлениса), хотя и с недоумением читаются его, мягко говоря, несправедливые стихи о Брод ском, к которому он, впрочем, очень почтителен в своем лучшем эссе «Мысли о главном». Кстати, имена опальных писателей и поэтов (в том числе Солженицына и Галича) мы находим не в поздних стихах Чичибабина, когда они уже не были опальными, но в стихах шестидесятых-семидесятых годов, когда эти упоминания были в лучшем случае нежелательными для советских издателей и небезопасными для писательской «карьеры» (совершенно невозможное в разговоре о Чичибабине слово). А гораздо раньше, в стихотворение 1947 года, он вводит прямую цитату из Георгия Иванова... Конечно же, для поэта из провинции это было одной из немногих возможностей спасти и сохранить культуру — он часто употреблял это слово в своей прозе, употреблял недвусмысленно, без иронической рефлексии и сомнений в ее высочайшей сути, употреблял по-рыцарски, по-донкихотски. В 70-е годы этот харьковчанин писал о Филонове и Нестерове — словно заговаривая их от забвения, мандельштамовскую «мировую культуру» заговаривая... Да, тематика стихов Чичибабина часто была «неосторожной». Вот — из стихотворения 46-го года: Отлучилось семя от родного лона. Помутилось племя ветхого Сиона. Оборвались корни, облетели кроны,— муки гетто, коль не казни да погромы. ................................................................... Не родись я Русью, не зовись я Борькой, не водись я с грустью золотой и горькой, не ночуй в канавах, счастьем обуянный, не войди я навек частью безымянной в русские трясины, в пажити и в реки, — я б хотел быть сыном матери-еврейки. «Еврейскому народу» Эта тема повторится у него почти через полвека, в стихах 1992 года «Земля Израиль», «Когда мы были в Яд-Вашеме». И в замечательных «Псалмах Армении», словно вторя Мандельштаму («младшая сестра земли иудейской»), он пишет: «Армения, горе твое от ума, ты — боли еврейской двойник...». (Меня до глубины тронул и его прозаический набросок «В моем сердце болит Армения».) «Псалмы» (1982—1985) — это стихи о главном событии в истории Армении, геноциде. Вплоть до конца 80-х годов по «негласной инструкции» об этом позволительно было говорить только самим армянам, а литературные сочувствия со стороны русских писателей считались «дипломатически некорректными» (в этом смысле известные страницы из «Уроков Армении» Битова были скорее исключением). В «Мыслях о главном» Чичибабин с грустной иронией говорит о ставшей чуть ли не трюизмом «всемирной отзывчивости» русской души. Но не он ли сам, не его ли неумолкающее чувство вины есть воплощение святой правоты этого «штампа»? Я ведал сам и верил снам, бродя по крестной пуще, что наш восторг ее сынам был оскорбленья пуще. «Литва — впервые и навек» Он требовал от людей чувства вины и, не дожидаясь его, брал ее на себя (за что его, между прочим, обвиняли то в украинском национализме, то в сионизме) — вину перед латышами, евреями, литовцами, татарами, эстонцами. О город готики господней, в моей безбожной преисподней меня твой облик настигал. «Таллинн» О России же писал с блоковской тоской (и ставил над стихами эпиграфы из него) — но едва ли не более острой и жесткой, более безнадежной, ибо писал о «Руси совет ской»: Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю — молиться молюсь, а верить — не верю. Я сын твой, я сон твоего бездорожья, я сызмала Разину струги смолил. Россия русалочья, Русь скоморошья, почто не добра еси к чадам своим? И еще суровее и строже — в позднем стихотворении, открывающем сборник: ...где шумно шагали знамена портяночной славы, где кожаный ангел к устам правдолюбца приник, где бывшие бесы, чьи речи темны и корявы, влюблялись нежданно в страницы убийственных книг. «Я родом оттуда, где серп опирался на молот» Вот эту просветительскую ценность поэзии Чичибабина, этот, без всяких кавычек, гражданский, трагический пафос глубоко лирического поэта следует, я думаю, иметь в виду тогда, когда его стих покажется излишне декларативным, рассудочным и просто элементарным, словно построенным, как лицейское сочинение, по гегелевской триаде: тезис, антитезис, синтез. Нота Чичибабина высока и благозвучна, но мысль часто банальна, и тип поэтической речи — часто человеческий, слишком человеческий. Возможно, самого себя он судил в статье о Мандельштаме: «Все большие поэты XX века при всей их разности пошли путем «обмирщения» поэтического языка, приближения к живому, естественному, доверительному языку, к обиходному словарю улицы, дома, службы, дружбы, любви». Но вот загадка: как при этом Чичибабин умел быть почти всегда оригинальным, всегда узнаваемым и во многих стихах — совершенным. Не последнюю роль здесь сыграла, если перефразировать Пушкина, его физическая способность быть искренним. К искренности в современной поэзии невозможно относиться свысока — это редкость, что из вчерашнего «недостат ка» она становится сегодняшним бесспорным достоинством . У Бориса Чичибабина — достоинством покоряющим. А еще невозможно упустить из внимания его напряженную внимательность к рифме — практически нет досужих и неточных, а это у поэта о многом говорит. Такого обилия интересных, захватывающих рифм я давно не встречал, причем в его работе над рифмой не чувствуется той избыточной и иногда утомляющей изобретательности, какая была, например, у Маяковского и Пастер нака. Кстати, одно из лучших его стихотворений, «Черное море», написано размером «Лейтенанта Шмидта», едва ли не красивейшим в русском стихе: Ну о чем бормотать? Ну какого рожна кипятиться? Я горю на огне. Я роса. Я ничем не гнетусь. Я лежу на рядне. Породниться бы нам, кипарисы! Солнце плавит плоды и колышет в ладонях медуз[1] . «...после меня останется очень мало стихотворений»,— писал он в своей автобиографии-исповеди. Возможно. Он, впрочем, никогда не дорожил славой (включая и посмерт ную), за годы «полного забвения» разучился это делать, а пришла она к нему (хотя даже в последние годы не очень громкая) тогда, когда уже не могла вскружить голову. Нет, и поэзия, которую он ставил превыше всего, не оказалась самым главным. Главным оказалось другое — то, о чем он так пронизывающе тонко писал незадолго до смерти, в «Мыслях о главном»: «Я не знаю, что такое Бог, так же как не знаю, в чем смысл жизни... Просто, как на исповеди, хочу признаться, что для меня Бог начинается не «над», а «в», внутри меня, в глубине моей, но в такой непостижимой, в такой невообразимо сокровенной глубине, когда она, не переставая оставаться моей личностной глубиной, моим невозможно-идеальным, никогда в реальности не осущест вимым, совершеннейшим «я», Божьим замыслом меня, свободным от искажений жизни и судьбы, становится уже и глубиной другого человека, и всех людей, живущих и живших на земле, и не только людей, но и животных и растений, тополя за окном, березки, посаженной Лилей четверть века назад и растущей перед нашим балконом». 1996 г., Париж
-
"Не приведи Господь, если переписывающиеся никогда не виделись… Здесь переписка может принять клинический оборот. Воцарится… тирания слова. Оно заменит собою, заместит лицо и плоть, голос и кровь, пол и характер. В ход пойдет вся разнузданность воображения и домысливания, польются из-под пера "последние тайны" и мистерии, тщательно корректируемые обмолвки и оговорки, куртуазные блики и экслюзивная исповедальность : "Этого я еще никому не говорил(а), слышишь, никому". Сведи их вместе, после, скажем, двухлетней переписки, посади рядом – они и двух слов друг другу не смогут сказать. Это будет самая скованная и дискомфортная их минута. Все, само собой, кончится тем, что они помолчат и разойдутся, обещая друг другу не прерывать той чудной переписки."
-
ПРОИЗРАСТАНИЕ СТИХА ПОД ПРОЗОЙ ВЕТРА Стих все-таки явление органичное, где бы человек ни жил, на каком бы языке ни говорил, вне зависимости от совпадения земли и речи. А может быть, он и есть пересечение и взаимопрорастание речи и земли? Тому найдется много доказательств в судьбах поэтов и певцов. Так ашуг Саят-Нова писал на трех языках, прожив долгую жизнь в Грузии и в Армении… А речь поэта – это земля обетованная, и не только для него одного.
-
«НА СМЕРТЬ ИОСИФА БРОДСКОГО» Он лежал без движенья, у двери, ничком и в очках. Друзья говорят, не ложился, мол, ночью работал. С лицом не Орфея, а больше еврея-врача Он лежал, о движенье нимало уже не заботясь. Не Орфей двуязыкий, не Нобель, а больше Эней, Сердцеед-основатель, а если точнее, Вергилий, Гид по мертвому царству, по дольнему царству теней, Тех, что в зимнем Стокгольме его, говорят, окружили. Хорощо египтянам, у них все идешь и идешь, И у жизни и смерти у них ни конца, ни предела. Все, что нужно для жизни и смерти, с собою берешь, - Нессесер, словари и перо, чтобы темень редела. 31 янв. – 2 февр. 96
-
МОСТ МИРАБО Сена словно уже не течет под мостом Мирабо. Был я здесь болен. Теперь ничего. Мир и любовь. Та любовь прошла, утекла из-под моста. Из-под руки, из-под пера, из-под листа. Четверо статуй живут под мостом, под мостом Мирабо. Пьяные взелень. Пьют «Алкоголь» наперебой. А Сена словно уже не течет, словно стоит, Словно ошибся тогда на мосту тучный пиит. Или, скорее, тайна реки мне невдомек: Сена течет только для тех, кто одинок. авг. 95
-
ЯЗЫК Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть. Ман дельштам Вначале труднейшие звуки Даются легко, но затем Твои опускаются руки, И ты остаешься ни с чем. Уходишь с пустыми руками, Набивши немотою рот. Постылая музыка камня Фальшивые ноты берет. Пустяк. Ведь не всяким же словом, Их уст исходящим, я жив, Но хлебом единым и новым Вином из гамейской лозы. Ты встанешь на крик петушиный, На клекот на галльский, на рык Гортанный – на рынок блошиный, На птичий, мой птичий язык! Я нем, оттого что не знаю, На чьем языке говорю, И чье исповедую знамя, На чьем пепелище горю. Но если все дело в гортани, Что ж, празднуй победу, Париж. Молчу, шепелявый, картавый, И ты, златоустый, молчишь. авг. 95