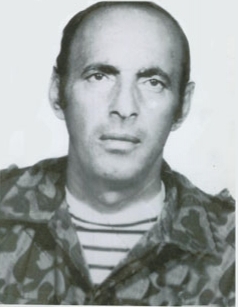-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
К черту степенность! У армянского народа праздник Признаю, восканапатцам редко выпадает возможность совместно провести день. Но и пропустить начало празднования 2795-летия Еревана мы не могли. Все вышло спонтанно и практически экспромтом: Сагател Мамиконович, Пандухт, Айоц и я поехали к месту народных гуляний на улице Эребуни. Хотя «поехали», наверное, громко сказано, ибо нам не дали доехать: улица была перекрыта для автомобильного движения, и всей нашей честной компании пришлось дальше идти пешком, бросив машину в каком-то гостеприимном дворе, по горлышко переполненном автомобилями всех известных в мире марок. Как и ожидалось, Мамиконыч сразу стал ворчать, мол, надо было сказать, что мы из Восканапата, и полиция бы козырнула, да дорогу освободила. Айоц, не в силах понять, шутит наш старик, или говорит серьезно, на всякий случай с недоверием смотрел на него, а Пандухт принялся объяснять, что порядок в городе каждый должен наводить с самого себя. Мамиконыч продолжал ворчать до тех пор, пока мы не вынырнули на Эребуни: здесь даже наш знаменитый скептик понял, что сегодня на этой улице точно не раскатаешься. Улица Эребуни поразила нас огромным количеством людей, еще большим количеством детей с нарисованными на лицах флагами Армении, выстроившимся прямо посередине дороги длинным рядом временных магазинчиков, и многочисленными очагами шашлычного дыма. Мамиконович, единственный из нас не вооруженный фотоаппаратом, моментально сориентировался: «Пандухт, дорогой, запечатлей эти кебабы да шашлыки, помнится, бакинский недоумок, смотревший футбольный матч из Еревана, обратил внимание, что над стадионом не поднимается дым от шашлыка и пришел к выводу, что в Ереване голод. Ударим фотографией по скудным умишкам оппонентов!» Пандухт, кажется, не слышал. С приклеившейся к лицу доброй и немного растерянной улыбкой, он все щелкал и щелкал нарядно разодетых армянских детишек. Пандухту, который уже скоро год, как живет в Армении, нравится в стране все. Ну, или почти все, если не считать наших водителей и привычки некоторых людей бросать мусор точно мимо урны. В связи с этим не могу не вспомнить слова 13-летнего Миши, сына нашего восканапатца РОМа из Америки. Миша, не по годам эрудированный и наблюдательный мальчик, летом гостил в Ереване и незадолго до отъезда сказал поразившую меня своей точностью фразу: «В Армении самый добрый народ в мире. До тех пор, пока не сядут за руль». На вопрос, отношусь ли я к тем, кто звереет за рулем, Миша ответил дипломатично: «В меньшей, чем другие, степени». Но вернемся на Эребуни, тем более что 11 октября там машин не было. Зато там было море добрых людей, гордых сопричастностью к 28 векам истории Еревана и сорока пяти векам истории Армянского государства. Никогда, ни каком «официальном» празднике не приходилось мне видеть такую всеобщую радость: молодые пели и танцевали, детишки бегали вокруг, то тут, то там происходили импровизированные театральные постановки, развевались на ветру флаги Армении, Арцаха, Эребуни… Какая-то гордая и осознанная радость плескалась в глазах у всех встречных. Да и мы, наверное, не были похожи на себя, обычных: Айоц проворно (чуть было не написал - суматошно) бегал от одной веселой компании к другой, Пандухт с блаженной улыбкой бродил среди себе подобных, Сагател Мамиконович, как, впрочем, и я, постоянно пропадал из виду. Часто, заглядевшись на ту или иную сценку, забывали фотографировать, в другом месте неистово наверстывали упущенное. Наконец, после часа с лишним медленного продвижения, дошли до начала улицы, к подножию холма, на котором три тысячи лет назад был заложен Ереван, и где расположен музей Эребуни-Ереван. Перед музеем была сооружена сцена, на которой по очереди выступали представители всех административных районов города: певцы, танцоры, спортсмены. Нам повезло, когда мы подошли, какая-то группа пела старинные армянские обрядовые песни, затем танцевальный ансамбль исполнил наш воинственный танец «Берд». «Берд» (крепость) у Берда Эребуни – символично и красиво. Перед музеем огромная скульптура: царь Аргишти на колеснице. Друзья обращают внимание на его головной убор. Рассказываю, что в древности армянские воины носили длинные волосы, которые перед боем сплетали в косу и поднимали к макушке – в качестве естественной защиты от удара палицей или дубинкой по голове. Головной убор Аргишти, надетый на собранные на голове волосы, подтверждает: царь Аргишти был Воином. Еще одна преемственность, сохранившаяся у армян до наших дней. Рядом с нами оказалась семейная группа – дед, бабушка и внук – одетые в национальную одежду. Дед еще и был вооружен внушительных размеров кинжалом. Неподалеку – два юных брата лет семи-восьми в военной форме, а рядышком – стайка девочек в форме разведчиц. В общем, от обилия людей и персонажей голова идет кругом, поэтому находим спасение в музее. Естественно, центральный экспонат музея – тот самый памятный камень, на котором по приказу урартского (что бы ни говорили ученые, убежден – Араратского. В клинописи гласные не высекались, и кому-то пришло в голову согласные «РРТ» прочитать как Урарту, а не естественное Арарат) царя Аргишти I высечена горделивая надпись: ««Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту мощную крепость построил, установил для нее имя Эребуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеских стран». А вот огромные чеканки, на которых нога Аргишти попирает головы этих самый «вражеских» стран. Одна из них – явно Ассирия, а другая… Нет, не буду называть, ибо с народом, который тогда населял эту страну, мы сегодня дружим. В музее много интересного, подтверждающего преемственность нашей культуры, а огромные карасы вылеплены словно вчера. Можно увидеть боевую колесницу, которой, как минимум, 28 веков, оружие и доспехи того времени, шлем, с высеченной на нем молнией… Словом, вот она – наша история, протяни только руку и открой глаза. По длинной петлящей лестнице поднимаемся к самой цитадели. Радует глаз огромное количество школьников. Заговариваю с учителями, выясняется, что приводят сюда учеников каждый год: «Да они и сами приходят». То, что они «и сами приходят», чувствуется сразу. Ребятишки свободно ориентируются в огромном количестве комнат, залов и иных помещений, в которых мы часто теряем ориентацию. Особенно это касается Сагатела Мамиконовича, который «по секрету» сообщает нам, что может заблудиться и в собственной квартире, если кто-то переставит там мебель. Пандухт находит молельное место, приходим, смотрим, дивимся на удивительно ровную кладку и технику обтесывания камня: явно чувствуется, что камни тесали уже после кладки. Получилось и гладко, и оригинально, и очень красиво. Надо попробовать дома. В самой цитадели археологи оставили нетронутыми на своих местах несколько исписанных клинописью камней. Пандухт и Айоц балагурят: наверное, написано на древнеазербайджанском языке. Мамиконович с серьезным лицом начинает объяснять, что в то время и слова такого не было – «азербайджанцы» - поэтому, скорее всего, надпись сделана на языке одного из огузских племен, волею Тенгри перелетевших сюда из Забайкалья, построивших крепость, сделавших надписи, и улетевших обратно. У него такое серьезное лицо, что мы не выдерживаем, громко хохочем, а Мамиконович «обижается»: «Я вам тему для докторской в Азербайджане дарю, а вы гогочете. Придется поделиться этой идеей с Бахтияром Тунджаем, если Левон Грантович отменит приказ о его ликвидации». Пришлось согласиться: пусть живет и радует нас очередными открытиями. Удивительно, на какие жертвы может пойти Восканапат ради продвижения азербайджанской исторической науки! Быстренько решив вопрос с Тунджаем, мы столь же быстро забыли о самом существовании закавказских турок: нечего омрачать Армянский день. Вообще, гуляя по цитадели Эребуни проникаешься не только величием армянского народа, но и связью времен. Вот-вот, кажется, из-за очередной стены выйдет величественный царь Араратский, сопровождаемый разодетой в драгоценные шелка свитой и одетой в золотые доспехи охраной. Царя с охраной мы так и не встретили, зато увидели множество мальчиков, готовых уже сегодня защитить Родину. Наш Айоц, успевший повоевать в нескольких странах, мыслит по-военному (Иногда мне кажется, что он даже во сне думает о путях еще большего укрепления Армянской Армии). Он смотрит сверху вниз на улицу Эребуни, широким и ровным, как меч, полотном доходящую к подножию холма, и говорит: «Прекрасное место для проведения военных парадов». «А ведь он прав, - думаю я, - и широченная улица восхитительно подходит для этого, и преемственность в наличии». Можно представить, как политическое и военное руководство Армении принимает военный парад там, где восседали наши прославленные предки – цари Урарту – Арарата. - Парад обычно проводят на центральной площади города, - возражаю я Айоцу, больше проверяя свои ощущения. - Центр города там, где военный парад, - отвечает он, чем окончательно разоружает меня. - Отличное предложение, дорогой, и я постараюсь довести ее до нашего руководства. Теперь надеюсь, что эти строки будут прочитаны людьми, принимающими подобного рода решения. Спускаемся с горы и вновь оказываемся в окружении большого количества людей. Вновь танцы, смех, театрализованные сценки, юные спортсмены и дети, дети, дети. На лице Пандухта вновь появляется блаженная улыбка, Мамиконович опять начинает теряться, Айоц уже привычно, но все так же проворно бегает от одной компании к другой, я вначале (тщетно) стараюсь держаться степенно, а потом машу рукой: «Какая к черту степенность? У армянского народа праздник!»
-
Рамиз Мехтиев обвинил американцев в подстрекательстве к преступлениям И озвучил угрозы в адрес Турции Саморазоблачение. Никак иначе невозможно классифицировать заявление Рамиза Мехтиева – главы администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева, «получившего» 85% голосов избирателей на выборах 9 октября. Кажется, академик Рамиз Мехтиев и сам не понял смысла своего сенсационного заявления, сделанного во время интервью ряду азербайджанских СМИ: «Официальные лица из США советовали отдать представителю Национального Совета 25 процентов голосов избирателей, а себе оставить 74-75 процентов – мол, при таком соотношении голосов оценка Государственного департамента США будет сбалансированной. Следуя логике, если мы не следовали бы этому совету, то при всех других случаях оценка гарантировано оказалась бы отрицательной. Результат известен. Как видно, это был не просто дружеский совет, а строгое предупреждение». Что бы ни говорил после этого Рамиз Мехтиев, как бы ни пытался объяснить сказанное, ясно одно: президентские выборы в этой республике фальсифицировались с ведома и по указанию высшей государственной власти. В самом деле, даже разговоры, ведущиеся на тему «кому на выборах сколько процентов голосов «отдать», преступны сами по себе и указывают на коррумпированность государства. Если же они ведутся главой президентской администрации, одним из самых влиятельных чиновников Азербайджана, то ответственность за преступный умысел должно нести само государство. Имея достаточный для выводов практический опыт переговоров с американскими чиновниками различного ранга, могу утверждать: никогда американские государственные лица не скажут слов, приписываемых им главой администрации президента Азербайджана. Это просто исключено. Американцы могут выразить свое мнение или пожелание, воспринимаемое людьми с запятнанной репутацией как указание к действиям, но подобных советов они дать не могут. Именно по этой причине столь резко, без оглядки на возведенную в США в абсолют политкорректность, прозвучал официальный ответ Рамизу Мехтиеву. «Информация, озвученная главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым о том, что США советовали приписать на выборах Джамилю Гасанлы 25% голосов, является ложью», - заявили радиостанции «Свобода» в посольстве США. Обманув по поводу США, Рамиз Мехтиев продолжил лгать и далее. «Выходит, что мы должны были проводить не прозрачные, честные выборы, а фиктивные. И при этом пририсовывать – по желанию наших партнеров – проценты определенным кандидатам в президенты. Разве это не свидетельствует об оскорблении достоинства национальных чувств азербайджанских избирателей, которые сами без чьих бы то ни было вмешательств, определяют – за какую политическую платформу отдать свои голоса?» - юлил глава администрации президента Азербайджана перед журналистами, неоднократно наблюдавшими процесс фальсификации выборов и смотревших многочисленные видеоматериалы, подтверждающие тотальную ложь правящего в этой республике клана. Подобных видеороликов на видеохостинге Youtube – десятки, и многие из них сделаны азербайджанскими журналистами, слушавшими вдохновенную ложь Рамиза Мехтиева. Но задача главы администрации Ильхама Алиева состояла в другом: ему необходимо было убедить читателей разных стран в справедливости и прозрачности выборов в Азербайджане. «Все, кто наблюдал за ходом голосования, кто участвовал в выборах, имели возможность убедиться в том, что политические и демократические институты страны, Центральная избирательная комиссия, структуры гражданского общества сделали все от них зависящее, чтобы выборы соответствовали самым высоким стандартам. И сегодня отрадно отметить, что обстановка прозрачности, соблюдение фундаментальных принципов демократии создали все необходимые условия для свободного волеизъявления». Между тем, одной из редких организаций, безоговорочно признавших президентские выборы в Азербайджане «свободными и справедливыми», явился Американский независимый центр политического мониторинга. Интересно, что эта организация известна в самой Америке как бизнес-компания, специализирующаяся на «успешном прохождении процесса получения визы и вида на жительство» в США. Так, по крайней мере, указано на сайте самого Центра. В свою очередь, радио Свобода выяснило, что организация финансируется из… Украины. Трудно верится, что Украина тратит собственные средства на американскую компанию для мониторинга выборов в США. Поэтому напрашивается вывод: Киев просто выступал в качестве почтальона с немалыми «дивидендами» на пути передачи финансов из Баку в американский штат Оклахома, в котором базируется эта организация. Ради справедливости необходимо указать и другие организации, также признавшие выборы в Азербайджане свободными и прозрачными: Парламентская ассамблея тюркоязычных государств, Организация исламского сотрудничества, депутаты турецкого парламента. Буду откровенен, до рассматриваемой пресс-конференции я был более высокого мнения об умственных способностях Рамиза Мехтиева. Однако его неуклюжая попытка опровергнуть видеоразоблачения выборных махинаций в Азербайджане не выдерживает никакой критики. «9 октября в социальных сетях, и YouTube оппозиционные группы развернули кампанию по дискредитации выборов посредством видеороликов о вбросах бюллетеней в избирательные урны, так называемых «каруселях» и т.д. Однако организаторы забыли о технических деталях, которые и разоблачили фальсификаторов. Ролики были размещены на видеоканале Youtube 8 октября, то есть за день до выборов. Странно, не так ли?» - возмущался глава администрации Ильхама Алиева. Странным является другое. По логике академика Мехтиева, «оппозиционные группы» провели 8 октября целый спектакль «досрочные выборы» с участием членов избирательных комиссий, выборщиков, доверенных лиц, полицейских и массовки, изображающей стоящих в очереди людей. Причем, спектакль состоялся в помещениях, которые обязаны были быть запечатаны и охраняемы. Одно из двух: или сам академик не блещет интеллектом, или журналистов держит за неизлечимых психических больных. Я лично склонен считать, что в данном пассаже Мехтиева сказались оба фактора. Вместе с тем, Мехтиев, упоминая о нагорно-карабахском конфликте и армяно-турецкой границе, банально проговорился: «Наша страна внимательно отслеживает процесс, и в случае, если встанет вопрос об открытии армяно-турецкой границы без его согласования с карабахским урегулированием, реакция Азербайджана будет крайне отрицательной, и в ход пойдут адекватные действия. Мы сделаем все, чтобы не дать случиться армяно-турецкому примирению в одностороннем порядке. Рычагов воздействия у нас достаточно, мы в состоянии повлиять на региональный расклад, чтобы не дать Армении вырваться из изоляции». Более откровенной угрозы в адрес Турции, курдское повстанческое движение на территории которой давно уже регулируется из Баку, трудно было ожидать. Однако надо сказать, что этот пассаж Мехтиева был единственным светлым пятном в его пресс-конференции.
-
Егора Щербакова в Бирюлево убил азербайджанец В ночь на 11 октября в районе Западного Бирюлево (район в Южном административном округе Москвы) было совершено убийство, вызвавшее колоссальный резонанс по всей России. Убитый – 25-летний Егор Щербаков, провожавший подругу – Ксению – на такси домой. Егор и Ксения были соседями. Не успела пара выйти из машины, как на девушку накинулся неизвестный. Как рассказала потом сама Ксения, Егор пытался заступиться за нее, но получил от «нерусского» удар ножом в сердце, после чего преступник сбежал. Известие о смерти Егора, убитого за неделю до свадьбы с Ксенией, всколыхнуло весь район. Ситуация усугубилась еще и тем, что недалеко от места убийства расположена крупная овощная база, находящаяся под полным контролем выходцев из Азербайджана. Как рассказывают люди, азербайджанцы, подкупившие управу и полицию, чувствуют себя в Бирюлево хозяевами жизни, ведут себя нагло, пристают к проходящим женщинам. То есть обстановка в Западном Бирюлево была накалена до предела задолго до самой трагедии, и рано или поздно должна была взорваться. Очередная жертва вконец обнаглевших торговцев овощами и стала пусковым механизмом для массовых выступлений населения района. Министр внутренних дел России В. Колокольцев направил в Южный административный округ Москвы своего первого заместителя А. Горового, по Москве был задействован план перехвата «Вулкан», однако это не помогло остановить массовые беспорядки и найти убийцу. Толпа продолжала громить и рушить принадлежащие «лицам кавказской национальности» ларьки и магазины, пыталась в поисках убийцы ворваться на овощную базу. С целью навести порядок, власть задействовала полицейские силы, в том числе и внутренние войска, задержаны несколько сот возмущенных жителей района, однако полностью взять ситуацию под контроль пока не удается. С обеих сторон есть раненые. Вскоре были обнародованы кадры с видеокамеры, встроенной в двери подъезда дома, в котором жила Ксения. Кадры действительно потрясают неспровоцированной жестокостью. Выяснилось, что преступник вначале преследовал входящую в подъезд девушку. На кадрах видно, как девушка пытается войти в подъезд, но преступник не позволяет ей это сделать, хватает ее за руки и за лицо. Пытается обнять, снять капюшон. Видно, что девушка плачет. Затем каким-то чудом девушке удалось ускользнуть от него, и тогда раздосадованный насильник отходит от подъезда, к которому в этот момент подъезжает такси с Егором и Ксенией. Преступник кидается на новую жертву. На этих же кадрах хорошо видно лицо преступника, и можно быть уверенным, его узнали многие, по крайней мере, члены той этнической общины, к которой он принадлежал. Однако никто из них не захотел «выдать» убийцу и насильника. Влюбленные и убийца В этих условиях ГУВД Москвы объявило о вознаграждении в миллион рублей за данные об убийце, а начальник ГУВД Анатолий Якунин призвал национальные диаспоры помочь полиции в поисках. Как сообщает lifenews.ru, начальник управления МВД по Южному округу рассказал горожанам, что усилены группы патрулирования, а поимкой преступника занимаются лучшие следователи. В самое ближайшее время сотрудники полиции начнут делать поквартирные обходы, чтобы попытаться вычислить убийцу. По их предположениям, он проживает именно в районе, где произошло преступление. Странный поиск, и странные «лучшие следователи», если они, конечно, не принадлежат к числу выпускников Санкт-Петербургского университета МВД России или других подобных групп. Преступника можно было найти за несколько часов, достаточно было слегка надавить на «смотрящих» за овощной базой выходцев из Азербайджана. Подобный подход был бы гораздо эффективнее любого «Вулкана», ибо ради сохранения за собой права беспрепятственно продавать помидоры эта публика выдаст в руки правосудия не только убийцу, но и брата родного. А поимка убийцы способствовала бы спаду накала страстей. О том, что убийца – азербайджанец, догадывались многие, как говорят сами закавказские турки, «Бирюлево – азербайджанская жемчужина Москвы», но, видимо, превратно понимаемая политкорректность (если отбросить подозрения в коррупции) не позволяла сказать это. Но то, чего не сделала московская полиция, сделали сами выходцы из Азербайджана: они признали в убийце своего соплеменника. Хотелось бы сразу пояснить, сделано это было не из человеколюбивых побуждений, а с целью помочь остальным «залечь на дно» и переждать «смутное время». Так, администраторы крупнейших групп азербайджанцев в ВКонтакте – Нагорный Карабах (надо же уязвленное самолюбие потешить) и Аzerbaijani armed forces в ночь на 14 октября опубликовали записи о том, что несостоявшийся насильник и убийца Егора Щербакова – азербайджанец. Администраторы групп призывали своих соплеменников соблюдать осторожность, не вступать в перепалки и не выходить без особой нужды из жилищ. При этом также было указано, что убийца – выходец из Шамхора, что однозначно подтверждает: азербайджанской общине в Москве известна личность преступника. Информацию подтверждает некий Рамиль Агаев: «Аслан, что-нибудь известно? Насколько мне известно, он наш, работал на той самой овощебазе». Симптоматично, что на администраторов тут же накинулись участники группы, обвиняя их в том, что они, дескать, выдали соплеменника. А некий Фаррух Сейдмаммедов не удержался от провокации, способной стать причиной нового кровопролития: «Многим и так известно было, можно было это не палить, двоих братьев азербайджанцев уже убили митингующие». Затем он пояснил: «Отец сказал, убили двух братьев. Один сразу умер, другой – в больнице». На этом фоне совсем уже безнадежно выглядит обращение русского парня к азербайджанцам: «Выдайте его сами. Покажите, что вы против преступности. Если вы будете его скрывать или выгораживать, это явным образом покажет, что вы одобряете такое поведение, тем более на чужой земле». А пользователь Чингиз Исмаилов (уже после просмотра упомянутого видео!) пишет: «Не вижу пока нечего недостойного и стыдного в подозреваемом, мы ведь еще не знаем истинных причин, из-за чего, и как, и почему. Я, например, слышал вариант от знакомого, что подозреваемый мстил за убийство своего родственника. Так все может быть, может, убитый сделал еще что-то не простительное и был просто наказан? Никто просто так никого не будет убивать ровно на месте». «Ничего стыдного и недостойного» в поведении нелюди, пытающегося изнасиловать чужих жен и сестер, и убивающего человека только за то, что тот заступился за любимую девушку. «Ничего стыдного и недостойного» в массовых изнасилованиях старушек среди бела дня. Все это – норма поведения закавказского турка – «азербайджанца», которую он желает внедрить и в России, предоставляющей его семье возможность не умереть с голода. События в Западном Бирюлево вновь актуализируют важнейшую проблему армян России: необходимость сохранения армянской идентичности и четкого вычленения армянского народа из общего числа национальных диаспор в России.
-
Да, он Гейдара сын, но это – нашего Гейдара сын Авторство широко известной фразы «Да, он может быть и сукин сын, но это наш сукин сын», сказанной о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе (старшем), принадлежит 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. В случае с Ильхамом Алиевым осторожное определение «может быть» смело опускаем, ибо лично у меня нет никаких сомнений: предыдущий президент Азербайджана является биологическим отцом президента нынешнего. Но это – не суть важно. Важно то, что он сын нашего Гейдара. На размышления по поводу очередного восшествия Ильхама Алиева в президентское кресло Азербайджана натолкнули комментарии некоторых армянских политологов, статьи в СМИ и записи в социальных сетях, в которых чувствуется неудовлетворенность исходом прошедших 9 октября президентских выборов в соседней республике. В этих комментариях можно встретить многое: разочарование от несбывшихся надежд на победу «демократических сил» в Азербайджане, огорчение и насмешку над «отданными» И. Алиеву голосами 85% принявших участие в выборах избирателей, подсчет количества проголосовавших и проживающих в этой республике людей и так далее. Одним словом, в комментариях можно встретить все, кроме ответа на один вопрос: чем нас не устраивает Ильхам Алиев? Когда президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армению устраивает победа Ильхама Алиева на выборах, многие, в том числе и в Азербайджане, восприняли его слова как «черный пиар», мол, в соседней республике прочтут эти слова и проголосуют за его соперников. Между тем, я склонен считать, что президент Армении говорил совершенно искренне: армянские государства устраивает правление И. Алиева – прагматичного и прогнозируемого политика, пекущегося о будущем своей семьи, осознающего цену власти и собственную ответственность за будущее региона. Политику И. Алиева необходимо оценивать не по словам его, а по делам. Разумеется, преисполненные ядом, угрозами и руганью речи Алиева противно читать, а его претензии к территориям обоих армянских государств вызывают сомнения в психической адекватности президента Азербайджана. Вместе с тем, надо отметить, что вся риторика Алиева является отражением выстроенных на менталитете закавказских турок и принятых в Азербайджане правил игры, согласно которой уважением может пользоваться лишь люто ненавидящий армян человек. А играть Ильхам Алиев любит, хотя и не раз терпел на этом поприще оглушительные фиаско. На попытки оппонентов возразить, что сами правила и даже превратившаяся в ритуал арменофобская риторика в Азербайджане насаждены Гейдаром и Ильхамом, отвечу, что закавказские турки исстари относились к армянскому народу, как и ко всем оседлым народам вообще, с ненавистью. «Заслуга» Алиевых состоит лишь в том, что они поощряют закавказских турок вслух говорить то, что десятилетиями прививалось младенцам еще в колыбели. Кстати говоря, выпущенная на волю неприкрытая ненависть закавказских турок к армянскому народу открыла глаза многим нашим доморощенным пацифистам, пребывавшим в постоянном поиске повода для очередного преступного вопля: «Турок уже не тот!». И за это тоже мы должны быть благодарны папаше и сыну Алиевым. Ильхам Алиев – сукин сын, но это наш сукин сын В годы агрессии Азербайджана против Республики Арцах у нас по ту линию фронта не было более надежного и верного союзника, чем Гейдар Алиев. Не вдаваясь в ненужные подробности, перечислю главные его заслуги перед армянским народом. 1. Возглавив в 1990 году Нахиджеван, Гейдар Алиев тут же заключил с Арменией сепаратный мир, что позволило нам высвободить и перебросить в Арцах, в котором шли кровопролитные войны, крупные воинские соединения. 2. В 1993 году, когда в Арцахе наблюдалось относительное равенство сил, и Армянская армия была занята передислокацией подразделений для нанесения разящего удара, Гейдар Алиев организовал вооруженный мятеж Сурета Гусейнова. Сей полковник отвел от Арцаха крупные армейские части и направил их в сторону Баку, обеспечив, таким образом, захват власти в Азербайджане и спокойную перегруппировку армянских войск. 3. Встав во главе Азербайджана, Гейдар Алиев – президент и главнокомандующий вооруженными силами этого образования – несколько раз нарушил достигнутое перемирие что позволило Армии обороны Республики Арцах освободить от турецкого элемента ряд армянских районов: Акна, Карвачар, Варанда, Джракан, Санасар, Ковсакан (Агдамский, Кельбаджарский, Физулийский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангиланский). Вам нужны нигде и никогда не публиковавшиеся аргументы? Можно, но только спустя несколько лет, когда это никак не повлияет на благополучие семейки Алиевых. Пока же можно говорить лишь об одном, без содействия армянской стороны в мае-июне 1993 года у Гейдара Алиева не было никаких шансов захватить власть в Азербайджане. Поэтому прошу пока поверить на слово: Ильхам Алиев – наш сукин сын. Будем откровенны, нынешний президент Азербайджана повязан армянскими государствами, вернее, имеющимися в распоряжении армянских спецслужб документами. Это, конечно, не означает, что он является нашим другом или агентом. Данное обстоятельство налагает на него обязательство не преступать некую красную линию, после которой его просто накроет вал разоблачений, способных уничтожить не только самого Ильхама, но и его предков и потомков. То есть Ильхам работает в режиме строжайшей самоцензуры и жесточайшего самоконтроля. Любой человек, способный не предвзято проанализировать десятилетие правление Ильхама Гейдар оглу в Азербайджане, может убедиться в этом. И дело, как легко понять, не в наворованных им средствах: как раз в этом плане руки у Ильхама полностью развязаны. Как и у его клана, разумеется. Иное дело – азербайджанская оппозиция. Вся она, без исключения, куплена и «повязана» разными государствами: от Турции, как, например, Национально-демократическая партия (Серые волки), до США. Некоторые из них – Народный фронт Азербайджана, например, – служат нескольким господам сразу, среди которых, к сожалению, нет Армении. Интересно, что большинство «оппозиционных» партий Азербайджана, в том числе Социал-демократическая или Демократическая партии Азербайджана, умудряются еще и кормиться из рук нашего сукина сына. Тем не менее, среди оппозиционных партий Азербайджана существуют и достаточно автономные организации, в числе которых правильно было бы назвать движение Реальный Азербайджан и молодежное объединение NIDA. Не случайно накануне президентских выборов в Азербайджане именно эти организации подверглись жесточайшему разгрому. Отдельной статьи требуют и религиозные движения в этой республике – как суннитского, так и шиитского толка. Большинство из них действительно настроены против Ильхама Алиева, которого они называют муртадом. Но, надо признать, что эта публика совершенно не устраивает нас в качестве соседей. Самым неприятным во всем этом нагромождении карманных и действительно оппозиционных партий и движений Азербайджана является их непредсказуемость. Как уже было сказано, большинство из них являются марионетками в руках спецслужб третьих государств, что значительно затрудняет контроль над их деятельностью. Читатель может заметить, что в статье нет ни слова об автохтонных народах Азербайджана. Естественно, это сделано намеренно. В конце концов, Ильхам Алиев, хоть и наш, но все же – сукин сын. А автохтонные народы этого образования являются нашими историческими соседями и друзьями.
-
Он ушел в неполные 46 К 110-летию генерал-лейтенанта Г. А. Тер-Гаспаряна Среди военачальников времен Великой Отечественной войны есть имена тех, кто известен не столь широкому кругу людей, несмотря на заметный вклад в победу над врагом. К ним принадлежит и генерал-лейтенант Геворг Андреевич Тер-Гаспарян. Родился он 10 октября 1903 года в семье служащего в Нахиджеване. Окончив городскую школу, юноша в 1920 году вступил в ряды Красной Армии. Далее было Ереванское военное училище им. Александра Мясникяна и Армянская горнострелковая дивизия, где Тер-Гаспарян служил до 1935 года. В 1938 году он с отличием заканчивает в Москве Академию им. Фрунзе и назначается начальником штаба одной из дивизий на Дальнем Востоке, где принимает непосредственное участие в столкновениях с японскими войсками у озера Хасан. 55-я Курская стрелковая дивизия им. К. Е. Ворошилова, начальником штаба которой был подполковник Тер-Гаспарян, участвовала в Великой Отечественной войне с первых дней. Боевое крещение дивизия приняла на Слуцком направлении в Беларуси 24 июня 1941 года. После того как 25 июня погиб командир дивизии полковник Д. И. Иванюк, в командование вступил начальник штаба Тер-Гаспарян (официально назначен командиром дивизии 14 июля 1941 года), награжденный к тому времени орденом Красного Знамени. 55-я стрелковая дивизия действовала в составе 4-й и 13-й армий Западного, затем Центрального, Брянского и Юго-Западного фронтов. 2 октября 1941 года полковник Тер-Гаспарян назначается уже командиром 227-й стрелковой дивизии. В 1942 году дивизия Тер-Гаспаряна участвовала в Харьковской операции. За успешные действия в боях летом 1942 года Тер-Гаспаряну было присвоено звание генерал-майора, и он был выдвинут на должность начальника штаба 60-й армии Центрального фронта, которой командовал тогда еще генерал-лейтенант И. Д. Черняховский. Прорвав вражескую оборону южнее Севска Брянской области, армия повела стремительное наступление, уничтожив 13634 солдат и офицеров противника, большое количество техники и вооружения, освободив сотни населенных пунктов, а также города Глухов, Рыльск, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин… Успешным действиям армии способствовала слаженная работа штаба армии, возглавляемая генерал-майором Тер-Гаспаряном, который обеспечил проведение в жизнь решений командования армии и умелое взаимодействие всех родов войск. В составе 60-й армии генерал-майор Тер-Гаспарян принимал самое активное участие в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях, в ходе которых были освобождены сотни городов и населенных пунктов Правобережной Украины. В январе 1943 года Тер-Гаспарян становится начальником штаба одной из армий Воронежского фронта, участвует в уничтожении крупной немецкой группировки, в форсировании реки Десны, за что получает орден Суворова 2-й степени. 17 октября за форсирование Днепра выше Киева он награждается орденом Суворова 1-й степени. К окончанию войны армия прошла путь по освобождению Киева, Белоруссии и Прибалтики до Нижней Силезии, форсировав Вислу, Западный Буг, Одер. В 1945 году, после победоносного окончания войны генерал-майор Г. Тер-Гаспарян был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Киевского военного округа, одного из первых (1862г.) военных округов в России. 11 мая 1949 года по представлению командующего Киевским военным округом А. А. Гречко ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. В аттестации командующего округом отмечалось, что "Тер-Гаспарян имеет достаточную оперативно-тактическую подготовку, опыт в руководстве штабами в масштабе армии-округа,.. правильно организовывает взаимодействие между родами войск,.. исполнительный, энергичный, инициативный и волевой генерал. Заслуженно пользуется авторитетом среди личного состава округа". Геворг Андреевич Тер-Гаспарян был направлен на учебу в Военную академию Генерального штаба Советской Армии, но состояние здоровья не позволило закончить учебу. После тяжелой и продолжительной болезни 31 августа 1949 г. перестало биться сердце боевого генерала Геворга Тер-Гаспаряна, одного из активных участников освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Генерал-лейтенант Тер-Гаспарян был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Родина достойно оценила заслуги известного военачальника, наградив его орденами Ленина, Суворова 1-й и 2-й степеней, Богдана Хмельницкого, двумя - Красного Знамени, многочисленными медалями. Геворг Андреевич трижды избирался депутатом Верховного Совета Украины, а также депутатом Киевского городского совета. Имя нашего соотечественника генерал-лейтенанта Геворга Андреевича Тер-Гаспаряна занимает достойное место в списке военачальников Великой Отечественной. Михаил Степанян, полковник, заместитель председателя Объединения ветеранов РА
-
С какой целью Храмчихин культивирует среди союзников недоверие к России? 7 октября на сайте «Русская планета» была опубликована статья заместителя директора Института политического и военного анализа (Россия) Александра Храмчихина «Сил у ЮВО для обороны — с избытком, для наступления — недостаточно». Мы бы не обратили внимания на очередную публикацию Храмчихина, если бы не ажиотаж, поднятый вокруг нее азербайджанскими и, к сожалению, некоторыми армянскими и российскими СМИ. Не исключаю, что А. Храмчихин писал эту статью из благих побуждений, желая, так сказать, предупредить Москву о нарастающей огневой мощи Азербайджана, уже не считающего нужным скрывать свои претензии на некоторые южные регионы России, в частности, Дербентский район Республики Дагестан. Но даже если это и так, то следует признать, что у физика по образованию просто не хватило военных знаний. Вообще, биография и деятельность Храмчихина предоставляют серьезные основания для сомнений в его компетентности в качестве военного аналитика. А наиболее известный его анализ военной ситуации прозвучал 7 августа 2008 года, за день до начала войны в Южной Осетии. А. Храмчихин тогда заявил, что исключает сценарий вооруженного конфликта: «Никакого грузинского наступления не будет, это абсолютно исключено… Никакой войны не будет ни в коем случае», - писал он. Щадя автора, не буду приводить примеров, связанных с китайской угрозой России или, например, датой авианалета Израиля на Иран, равно как с угрозой военной агрессии Украины против России. Между тем, военная аналитика – серьезная наука, требующая не только академических знаний, но и, что не менее обязательно, практического опыта. К сожалению, у А. Храмчихина отсутствует и первое, и второе. Вместе с тем, нельзя не отметить его стремление «предупредить» Кремль о надвигающихся гипотетических и реальных опасностях с тюркского юга России (Турция, Азербайджан). Весь вопрос в том, не перебарщивает ли Храмчихин в своих пессимистических выводах относительно Вооруженных сил России вообще, и их Южного военного округа (ЮВО), в частности? И еще вопрос, прямо исходящий из предыдущего: с какой целью Храмчихин, перечисляя весьма внушительное вооружение ЮВО, умолчал о некоторых видах оружия? Исходя из множества публикаций в российской прессе, а также на сайте самого ЮВО, не думаю, что это было сделано в целях дезориентации возможного/потенциального противника. Несмотря на то, что у нас существуют некоторые вопросы и относительно сделанного Храмчихиным анализа российско-грузинских отношений, этого вопроса в данной статье я касаться не буду. Но вот что касается потенциальных военных действий между Азербайджаном и армянскими государствами с возможным вмешательством России и Турции, здесь нам действительно есть о чем поговорить. Мне, например, странно было читать российского военного аналитика, считающего, что «потенциала ЮВО, скорее всего, не хватит на то, чтобы пробиться через Азербайджан на помощь Армении». Еще более удивительной выглядит следующая фраза: «Если только ВС самой Армении не выбьют то, что их союзник (имеется в виду Россия – Л. М.-Ш.) поставил их противнику». Не буду комментировать эти фразы, скажу о другом. Кто и как скоро «выбьет» то, что Россия продала Азербайджану, зависит от политических, а не военных целей, ибо в военном отношении это способны сделать и армянские, и российские войска. Я имею в виду даже не разницу в огневой мощи между ЮВО и вооруженными силами Азербайджана (приведенные Храмчихиным неполные данные подтверждают это), а также Армянской армии и ВС Азербайджана. Российскому аналитику следовало бы обратить внимание на весьма важное обстоятельство: Азербайджан в случае военных действий будет лишен возможности возобновлять потерянное вооружение, в то время как Россия обладает возможностью беспрестанного (и нарастающего) снабжения войск вооружением и боеприпасами, и не только за счет Западного и Центрального военных округов. Что это означает в условиях интенсивных военных действий, объяснять, думаю, нет необходимости. А. Храмчихин, напомнивший об известной шутке «генералы всегда готовятся к прошлой войне», показал пример того, что некоторые аналитики также грешат этим. Так, в свое время Советский Союз начисто проигнорировал этнические и религиозные противоречия населения Афганистана, даже не попробовав использовать этот фактор в собственных интересах. Сегодня российский аналитик повторяет ту же ошибку. Между тем, весь север современной Азербайджанской республики – единственный возможный путь для вторжения Российской армии в это образование – населен автохтонными и дружески настроенными к России лезгинами и аварцами, около века пребывающими на положении изгоев в собственной стране. Эти народы (а лезгины - это и цахурцы, и рутульцы, и удины, и крызцы, и хиналугцы, и будухцы…) давно мечтают об освобождении от ига закавказских турок – «азербайджанцев», и фактор военного противостояния России с Азербайджаном будет воспринят ими как сигнал к вооруженной национально-освободительной борьбе. Не будут воевать против российских войск и талыши, другой коренной народ Азербайджана, испытывающий все прелести тюркского засилья на своей Родине. Наконец, стоит упомянуть и тот немаловажный фактор, что общее количество талышей, лезгин и аварцев в Азербайджане превышает два миллиона человек. Сказанное отнюдь не означает, что уроками прошлого можно пренебрегать. В качестве примера можно напомнить ввод подразделений Красной Армии в Азербайджан в 1920 году. Происходил он в условиях повсеместного поражения азербайджанских войск в войне с Арменией и вооруженных столкновениях с талышскими, лезгинскими и аварскими повстанцами. Ввод ХI Армии вооруженных сил России привел к моментальной сдаче Азербайджана, большинство руководителей которого за одну ночь перекрасились из мусаватистов в большевиков. Война – не только пушки, которых, кстати, у России, в том числе в ЮВО, несравнимо больше, чем у Азербайджана, но и столкновение этнических психологий. В этом плане преимущество России над Азербайджаном просто не поддается учету. России не придется «пробиваться через Азербайджан», ибо психологии и этническому менталитету закавказских турок – «азербайджанцев» не присуща идея сопротивления сильному. «Руку, которую не можешь отрубить, поцелуй и приложи ко лбу» - данная пословица закавказских турок как нельзя лучше отражает их менталитет, в чем российские войска имели возможность убеждать неоднократно, в том числе и в упомянутом 1920 году. Сказанное отнюдь не означает, что армянский народ уповает на Россию в отражении возможной новой агрессии. Так может думать, вернее, уверять в этом население Азербайджана его президент – Ильхам Алиев. Более трех лет назад А. Храмчихин считал, что «если бы протоколы (Бишкекское Соглашение о прекращении огня между Республикой Арцах и Азербайджаном – Л. М.-Ш.) не были подписаны в мае 1994 года, то война в Карабахе все равно бы рано или поздно «заглохла». В худшем случае было бы вмешательство третьих стран, так как я думаю, что лучше подготовленная в военном плане Армения, в конце концов, добилась бы большего результата, разрезав Азербайджан фактически пополам». И было бы ошибкой считать, что в этом отношении что-либо сильно изменилось. Меня, однако, интересует другое. Уже несколько лет, как Храмчихин регулярно выступает со статьями, заявлениями и комментариями, в которых пытается убедить нас в ненадежности России как стратегического союзника. Примеров тому – великое множество. Фраза «Россия свои обязательства перед Арменией по ОДКБ проигнорирует и участия в войне не примет» активно тиражируется Храмчихиным в различных интерпретациях. Сложно считать, что российский военный аналитик печется об армянских государствах больше, чем о самой России. Однако, в таком случае, еще сложнее понять, какие цели преследует Храмчихин, культивируя среди союзников недоверие к стране, гражданином которой он является? И армия у Россия слабая, и союзник она негодный. Не хотелось бы лепить ярлыки, но слишком похоже на подрывную деятельность. Тем не менее, российский военный аналитик может быть уверен: с Россией или без нее, Армянская армия способна не только «выбить» проданное Азербайджану оружие и вновь разгромить агрессора, но и политически грамотно использовать плоды победы. В отличие от некоторых военных и политических аналитиков, мы обладаем возможностью совершенствоваться и учиться не только на своих, но и на чужих ошибках. P. S. На сайте Института политического и военного анализа существует рубрика «О нас пишут, на нас ссылаются». Интересно, появится ли в этой рубрике данная статья, или Храмчихин «не заметит» ее?
-
Последствия незнания Алиевым курдской народной мудрости Перед президентскими выборами в Азербайджане Ильхам Алиев, готовящийся в третий раз занять кресло президента этого образования, встретился с членами своего кабинета. Поскольку в последние годы подобные встречи подельников не отличаются оригинальностью (президент Азербайджана просто копирует изрекаемые им претензии на армянскую землю), я посчитал излишним тратить время и усилия на очередное опровержение очередной глупости Ильхама Алиева. Поэтому предлагаю прочитать статью трехлетней давности. Она будет актуальна до тех пор, пока Азербайджан качает нефть, а во главе этого образования находится сын «общенационального вождя» и «великого лидера» Азербайджана. 20 октября под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание кабинета министров Азербайджана. Упустить подобную возможность выступить Ильхам Алиев, конечно, не мог: как гласит курдская пословица, если лягушка не заквакает – лопнет. А «квакать» президенту Азербайджана на сей раз хотелось больше обычного, после полученной от президента Армении суровой отповеди у него появились выраженные симптомы острого недержания речи. Откровенно говоря, комментировать бредовые речи И. Алиева совершенно неблагодарное дело: страдающий нарциссизмом президент Азербайджана привык слушать только самого себя. По этой причине, и имея в виду странную для нормальных людей особенность этнического курда И. Алиева, видимо, есть необходимость рассмотреть его очередное выступление с точки зрения курдского фольклора. Сообщим для особо непонятливых читателей из политико-географического недоразумения под названием «Азербайджанская республика», что обращение к курдскому фольклору избрано не случайно: хотя и «черный вол шкуру не сменит», существует слабая надежда на то, что абсолютно невосприимчивый к мудростям других народов (что знает осел об этом мире?), Ильхам Алиев окажется более восприимчив к жемчужинам курдской народной мысли. Итак, свою очередную речь Ильхам Алиев, как всегда, начал с безудержного самовосхваления. «Экономика растет, благосостояние населения увеличивается, предпринимаются важные задачи по индустриализации, реализуются крупные строительные проекты…». О торчащем голом шпиле высотой в 162 метра и называемом флагштоком, в ряду «крупных строительных проектов» Алиев естественно не говорил. Как не говорил и о наводнивших Баку тысячах попрошаек. Видимо, предки не рассказали ему о курдской мудрости: «Лги так, чтобы во лжи соль была». «Баку – наша столица, наш любимый город – входит в число красивейших городов мира», - коня подковывали, осел ногу поднял, сказал: «Меня тоже». Оказывается, в «число красивейших городов мира» входит и Баку, из года в год возглавляющий рейтинг самых грязных (и не только в экологическом плане) городов мира. Особую «красоту» Баку приобретает после осадков, когда канализационные люки города повсеместно фонтанируют смердящей смесью из воды и естественных человеческих отходов. Но Бог с ним, с Баку и всякими Евлахами. Послушаем еще Ильхама Алиева. «В следующем году наши общие военные расходы будут на уровне 2 миллиардов 500 миллионов манатов, а это больше 3 миллиардов долларов», - радует Алиев членов кабинета министров, в первую очередь Сафара Абиева, министра обороны Азербайджана и главного, после самого Алиева, пожирателя военного бюджета. При этом ни Абиев, ни Алиев, естественно, знать не ведают о том, что «даже если осла навьючить оружием, все равно его волк съест». Не знает президент Азербайджана и того, что «оружие в руках - лишь половина дела». А для того, чтобы обладать необходимой для успеха второй половиной – воинской выучкой, качеством и боеспособностью вооруженных сил, преданностью Родине, интеллектом офицеров и так далее, закавказским туркам необходимо еще пару тысячелетий пожить оседлой жизнью. Ибо, как писал о кочевниках Р. Шекли в романе «Белая смерть», это люди, «у которых не хватило ума научиться обрабатывать землю, чьи представления о военном деле не идут далее засады, которые торговлю представляют воровством, и культура которых состоит из перевранного Корана». Врать и Алиев горазд: «Потому что это (Арцах – Л. М.-Ш.) наша земля, там все здания разрушены армянами, камня на камне не осталось, разрушены и разграблены все наши исторические памятники, мечети и дома. Все это совершено армянскими вандалами. Все материальные ценности там разрушены и разграблены армянскими мародерами». Недержание речи у Алиева прогрессирует прямо на глазах: «Совершенные на оккупированных территориях преступления демонстрируют звериный облик армянского фашизма». Дурному человеку все равно: что лунная ночь, что темная. Алиев забыл, что перед ним сидят не темные учителя из Евлаха, а люди, хорошо знакомые с реальной обстановкой в Республике Арцах, хотя и вынужденные повторять вслед за ним всякие глупости. Жизнь научила их придерживаться курдской пословицы: с ослами будешь ходить, по ослиному реветь будешь. Перекочевавшие в Арцах пару веков назад тюркские кочевые племена успели построить там пару мечетей и образовать несколько кладбищ, которые до сих пор продолжают оставаться на своем месте. В отличие от воздвигнутых еще в раннем средневековье армянских храмов, разрушенных так и не научившимися строить закавказскими турками. Это в Турции и Азербайджане разрушают «в поисках золота» убитых и депортированных армян церкви и надгробные памятники, роют туннели, копают траншеи… Это азербайджанские генералы и офицеры, в панике покидая Арцах, бросали сотни и тысячи своих погибших и раненых аскеров, но успевали грабить музеи, забирая с собой экспонаты, подтверждающие тысячелетнее проживание армян на всем правобережье Куры. Это вандалы и фашисты разрушали армянское средневековое кладбище в Джуге, с тупой ненавистью турка разрушая ножами бульдозеров тысячи хачкаров, имеющих всемирное значение. Это бакинские людоеды, не удовлетворившись видом страданий мирных жертв – жителей города армянской национальности – жарили и пожирали мясо еще агонизирующих людей. И это Азербайджан сегодня стремится к оккупации Арцаха, чтобы довершить незавершенное в Баку, Сумгаите, Ханларе, Мингечауре. При этом Алиев, не знакомый с фольклором собственного народа (сын волка не станет братом человека), лицемерно обещает армянам «самую высокую автономию». Одновременно лишая еще живущие на своей исторической Родине в Азербайджане коренные народы малейшей возможности самоуправления. Об особенностях Азербайджанской республики можно писать долго, но… пощажу эстетические чувства читателей, ибо чем глубже разгребаешь помойную яму, тем сильнее от нее зловоние. В выступлении президента Азербайджана поражают помпезность и присущая абсолютным неучам безаппеляционность: «Мы не можем позволить, чтобы на исторических землях Азербайджана было создано второе армянское государство. Первое армянское государство было создано в 1918 году на азербайджанских землях – на территориях Иреванского ханства, Зангезурского махала». Курды говорят: малый ум - великая ноша. Способна ли построенная на территориях Бакинской и Елизаветпольской губерний Азербайджанская республика выдержать великую ношу ничтожного ума Алиева? Понимают ли в этой республике, что исторические земли Азербайджана находятся в Иране, а исторический ареал кочевания всех турок – в далеких степях Забайкалья? Или все они являются живым подтверждением курдской пословицы «дурному человеку все равно: что лунная ночь, что темная»? Или они живут сообразно другой курдской пословице: «Лишь бы муж был, пусть хоть муха на стене»? Ильхам Алиев забывает, что это Азербайджан начал агрессию против Республики Арцах. Агрессию, в которой агрессор потерпел логичное поражение, а потом вымолил себе прощение за счет возвращенных исконным хозяевам армянских территорий. Сегодня он, забыв печальный опыт папаши (Что Ходжа-Али, что Али-Ходжа), вновь пыжится и грозится пойти войной на Арцах. Не понимая того (ум то малый), что мазохистское это желание неминуемо обернется уничтожением его наследственного султаната. Как говорят курды, «не садись, старуха, на репейник, и репейник не пристанет к тебе». 21 октября 2010 г.
-
Чума на 10 ваших юрт Сегодня в Азербайджане предвыборный день тишины. 9 октября в этом образовании пройдут «выборы» президента. Слово «выборы» закавычено не случайно, ибо «победа» Ильхама Алиева предрешена наличием мощного карательного аппарата, биологического страха избирателей, насквозь коррумпированного административного ресурса и стремлением каждого главы исполнительной власти (от затерянной в горах деревушки до крупных городов) выслужиться перед правящим в Азербайджане преступным кланом. Существует и небольшая прослойка избирателей, искренне верящих в «президентский талант» Ильхама Алиева. Исходя из всех исходных данных, по нашим приблизительным подсчетам Ильхам Алиев должен «набрать» примерно 90 процентов голосов избирателей, и в третий раз подряд занять кресло президента Азербайджанской республики. Если исходить из логики, то президентские выборы в Азербайджане должны были заинтересовать население армянских государств. Этому способствует и память о недавней по историческим меркам военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, и постоянно озвучиваемые соседним образованием территориальные претензии в адрес армянских государств, и угрозы азербайджанских чиновников всех рангов возобновить агрессию. Однако, несмотря на перечисленные обстоятельства, интерес граждан армянских государств к президентским выборам в Азербайджане ограничился отдельными комментариями политологов. Отмеченное безразличие к выборам главы Азербайджана имеет несколько объяснений, главными из которых являются отстраненность армянского народа от политических процессов в Азербайджане и понимание того обстоятельства, что все зарегистрированные кандидаты в президенты Азербайджана, несмотря на декларируемые противоречия по разным политическим и социальным вопросам, единодушны в одном – желании оккупировать Арцах. Кто же они, кандидаты в президенты Азербайджана? ЦИК Азербайджана зарегистрировал десятерых: Агазаде Игбал (партия «Умид»), Алиев Ильхам (действующий президент), Ализаде Араз (Социал-демократическая партия Азербайджана), Гаджиев Хафиз (партия «Современный Мусават»), Гасангулиев Гудрат (партия «Единый народный фронт»), Гасанлы Джамиль (Национальный совет демократических сил), Исмаилов Ильяс (партия «Адалят»), Гулиев Фарадж (партия «Движение национального возрождения»), Мамедов Сардар – Джалалоглу (Демократическая партия Азербайджана), Орудж Захид (депутат Милли меджлиса). Отметим, что Захид Орудж до недавнего времени был заместителем председателя партии «Ана Ветен», из которой был исключен «за проявление самодеятельности и выдвижение собственной кандидатуры на президентских выборах». В проправительственной партии испугались, что Орудж пойдет против Ильхама Алиева и решили быстренько избавиться от опасного члена. Однако З. Орудж перехитрил собственную партию, и ни разу(!) за всю предвыборную кампанию не предложил избирателям проголосовать за себя. Вся его публичная деятельность свелась к пропаганде Гейдара и Ильхама Алиевых. Думается, что «кандидат в президенты» З. Орудж уже сегодня застолбил за собой место в свите президента Азербайджана, особенно после призыва на теледебатах: «Проголосуйте за Ильхама Алиева – путь Гейдара Алиева». Мы не случайно рассказали казусную историю Захида Оруджа, ибо если он действительно был самовыдвиженцем в пресмыкающиеся, то некоторые из «кандидатов в президенты» были выдвинуты самим Ильхамом Алиевым. Наиболее колоритной фигурой из назначенных действующим президентом в кандидаты в президенты Азербайджана был, без сомнения, Хафиз Гаджиев, тот самый, что предлагал 10 тысяч манатов тому, кто отрежет ухо писателю Акраму Айлисли. Главной его задачей было провоцировать Джамиля Гасанлы на скандалы, призванные уронить авторитет последнего среди избирателей. И, надо сказать, со своей задачей Хафиз по прозвищу «Рыба» справился блестяще. Весьма интересна и личность Араза Ализаде, наиболее, пожалуй, интеллектуально развитого в когорте кандидатов. Однако Ализаде, понимая, что более двух процентов голосов избирателей ему никак не получить, предпочел излить всю накопившуюся желчь на Джамиля Гасанлы и… Арцах. Одновременно А. Ализаде откровенно поддерживал Ильхама Алиева. Вот несколько цитат из его выступлений на теледебатах кандидатов: «Никогда не верьте антинациональным Национальным советам. Джамиль Гасанлы размахивает какими-то бумагами, как документами, ссылаясь на якобы достоверные источники. Он утверждает, что на счетах президента лежат 48 миллиардов. Это ложь». «Сторонники Национального Совета распространяют клевету в мой адрес на Youtube и в Facebook. Считаю, что эти люди пишут слова, достойные их матерей и дочерей». «Обещаю вам (избирателям – Л. М.-Ш.) освободить Карабах военным путем». Согласно социальным опросам, последняя фраза лишила Ализаде шансов набрать хотя бы полтора процента голосов. О Республике Арцах говорили все. Доверенные лица Ильхама Алиева, ни разу не принявшего участия в дебатах, больше говорили о сильном и богатом Азербайджане, способном оккупировать Арцах экономической и военной мощью. «Радикальные» кандидаты, как, например, Гудрат Гасанкулиев, утверждали, что способны оккупировать Арцах военным путем.«Карабахский вопрос мы должны решить сами. В соседней Турции – муллы в галстуках, в Иране – муллы в чалмах. Во время войны Турция направила Армении 5 млн. тонн зерна. Мы должны усилить нашу военную мощь для освобождения оккупированных земель», - это из выступления представителя партии «Единый народный фронт». Ализаде, уже знакомый нам по обещанию оккупировать Арцах военным путем, жаловался на непонимание со стороны оппозиции: «Модель решения карабахской проблемы я подготовил в 90-х годах. Но члены Нацсовета голосуют против этого. Я остался один». Сардар Джалалоглу косноязычно упрекал действующего президента: «Представитель власти говорит, что если Карабах будет отвоеван, будут ли они рады этому? Пожалуйста, отвоюйте, а народ сам даст оценку тем, кто не будет этому рад». Теледебаты кандидатов в президенты Азербайджана в самом деле напоминали зооцирк, как охарактеризовал Милли меджлис Азербайджана наиболее реальный противник Алиева - спрятанный на время выборов в тюрьму лидер движения Реальный Азербайджан Ильгар Мамедов. Подавляющее большинство телезрителей смотрели это бесплатное шоу единственно из желания посмотреть на то, как Рыба Хафиз кидается бутылкой в Джамиля Гасанова, как охранники выволакивают из студии очередного «кандидата» в президенты, и о каких еще семейных тайнах Алиевых расскажет Дж. Гасанов. Все понимали, что этот цирк скоро закончится, и спешили на каждое представление. Тем не менее, на один нюанс предвыборных дебатов следует обратить особое внимание. Джамиль Гасанлы – единственный по-настоящему оппозиционно настроенный кандидат, кажется, ни разу не пообещал избирателям «освободить» Арцах военным путем. Данное обстоятельство способно ввести в заблуждение как азербайджанского обывателя, так и немногочисленных армянских наблюдателей. Однако Гасанлы, идущий на выборы в одной упряжке с лидерами Народного фронта Азербайджана Али Керимли и партии «Мусават» Исой Гамбаром, хорошо знает настроения своих избирателей-соплеменников, для которых пугающе звучит само слово «Карабах». В действительности Гасанлы-Керимли-Гамбар являются ничуть не меньшими врагами армянского народа, чем постоянно кликушествующий Ильхам Алиев. Недавняя история, когда во главе Азербайджана находились фронтисты с мусаватистами, является подтверждением сказанному. А потому отношение наше к президентским выборам в Азербайджане должно быть ровно таким, каким оно есть сегодня. Наше дело: крепить мощь нашей страны. А кто из десяти кандидатов победит в Азербайджане - дело десятое.
-
Родина закавказских турок - юрта, в которой они родились Заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения администрации президента Азербайджана Эльнур Асланов взялся комментировать выступление Президента Армении Сержа Саргсяна на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2 октября. В тщетном стремлении опровергнуть Сержа Саргсяна, напомнившего в своем выступлении о том, что Ильхам Алиев считает всех армян врагами номер один Азербайджана, Асланов банально солгал, приведя в пример «факты». «Азербайджанское общество известно всему миру верностью своим ценностным ориентирам, таким как межконфессиональная толерантность и мультикультурализм», - заявил он. Известно, что «аргумент» «весьмир знает» , давно эксплуатируется азербайджанскими пропагандистами. «Весьмир», возможно, и знает, если из него вычесть автохтонные народы Азербайджана: лезгин, талышей, аварцев, татов… Перед Аслановым проблема: как убедить автохтонные народы республики, что изучение родного языка лишь в начальных классах (в местах их исторического компактного проживания) является подтверждением толерантности и разнузданного мультикультурализма? Как объяснить им, что отсутствие телевидения, радио на родном языке является проявлением этнической толерантности? Как вычистить всемирную сеть от высказываний Ильхама Алиева, в частности, вот этого: «В первую очередь, наши основные враги – мировое армянство и находящиеся под его влиянием лицемерные, погрязшие в коррупции и взяточничестве политики?» Как совместить с «межконфессиональной толерантностью» массовое уничтожение в Азербайджане армянских христианских храмов, церквей, хачкаров (надгробных крест-камней)? «Защитив» «доброе имя толерантного Азербайджана», Э. Асланов, вспомнив о старой лжи азербайджанской пропаганды, ринулся в наступление: «Роберт Кочарян, в недавнем прошлом, будучи президентом Армении, с трибуны в Совете Европы озвучил тезис о «генетической несовместимости азербайджанского и армянского народов... Подобные идеи, к сожалению, и по сей день находят благодатную почву в Армении – именно благодаря стараниям официального Еревана. Если Кочарян заявлял о генетической несовместимости, то сторонники правящего клана в Армении продолжают развивать подобные идеи, заявляя, что между армянами и азербайджанцами существует «этническая, цивилизационная несовместимость», как было указано в газете «Голос Армении» за февраль 2011 года». Проблема в том, что Роберт Кочарян говорил не о генетической, а об этнической несовместимости армянского народа и закавказских турок, и утверждение азербайджанской стороны об обратном является ложью. А об этнической и цивилизационной несовместимости армян и закавказских турок говорит и пишет и автор данных строк, как меня охарактеризовал Асланов: «Сторонник правящего клана в Армении». Прежде чем обосновать свою точку зрения, замечу, что Э. Асланов пытается спроецировать реалии Азербайджана на Армению. Ни при одном из трех президентов суверенной Армении не было кланового правления. Клан – это замкнутая группа людей, объединенных родственными (в Азербайджане еще и племенными) интересами. Так, в Азербайджане, президентом которого является сын предыдущего президента, практически все властные должности заняты родственниками Ильхама Алиева и представителями курдских племен. Чтобы не выглядеть голословным, приведу несколько примеров. Так, жена президента Азербайджана – Мехрибан Алиева – занимает должности заместителя председателя правящей в Азербайджане партии «Ени Азербайджан» (председатель – президент Азербайджана), а также президента Фонда имени Гейдара Алиева, огромные средства которого, сопоставимые с бюджетом республики, формируются из добровольно-принудительных вливаний частного и государственного бизнеса. Вице-президентом Фонда имени Гейдара Алиева является их дочь, Лейла Алиева. Она же возглавляет Фонд в России. Представительством Фонда в США руководит Джамиля Пашаева-Сеидзаде, дочь сестры Мехрибан Алиевой, в девичестве – Пашаевой. Муж Севиль Алиевой – сестры Ильхама Алиева – Махмуд Мамедкулиев – занимает должность заместителя министра иностранных дел Азербайджана, тесть Ильхама Алиева – Хафиз Пашаев – ректор дипломатической академии, сестра Мехрибан Алиевой – Наргиз Пашаева – ректор филиала МГУ в Баку. Супруги двоюродных сестер Ильхама Алиева – Васиф Талыбов и Бейляр Эюбов – занимают, соответственно, должности руководителя Нахиджеванской автономии и начальника службы личной охраны президента Азербайджана. Если Эльнуру Асланову все еще не ясно, что означает клановое правление, то мне придется перечислить всех родственников Алиевых и Пашаевых, «избранных» в парламент Азербайджана, а также принадлежащие Алиевым и Пашаевым банки, страховые компании, авиакомпании, золотоносные рудники, виллы и особняки в известных курортах мира и так далее. Можно назвать и находящихся у власти курдов Азербайджана: Ровнага Абдуллаева, Камалетдина Гейдарова, Гаджибалу Абуталыбова, Арифа Алышанова, тех же Васифа Талыбова и Бейляра Эюбова и многих других, а также их ближайших родственников в Милли меджлисе. Но все это – внутреннее дело Азербайджана, возможно, жителям этой республики нравится быть в рабстве у клана. Мое требование к Асланову – мелкому чиновнику, нанятому кланом для обслуживания собственных интересов, – скромно: перестать проецировать собственное бытие на Армению, это – контрпродуктивно. А теперь о несовместимости Собственно говоря, Эльнур Асланов, упомянув мою статью без точной ссылки, уже подтвердил указанную мной несовместимость, ибо в противном случае ему пришлось бы опровергать то, что априори не может быть опровергнуто. А вот принять позу обиженного существа – это по-эльнуровски. Между тем, в серии статей на эту тему (http://voskanapat.info/?p=1234) (http://voskanapat.info/?p=1254) (http://voskanapat.info/?p=1277), (http://voskanapat.info/?p=1389) мною были приведены многочисленные примеры этой несовместимости, касающиеся всех сторон жизни. Однако Э. Асланов предпочел «не заметить» объяснений в происхождении различий между кочевыми племенами, в том числе турками, и оседлыми народами, и решил высказать свою «обиду» посредством ссылки в никуда. Между тем, Асланову стоило бы заметить, что в указанной им статье о цивилизационной несовместимости кочевых и оседлых народов не проводились различия по дихотомии «хороший – плохой». Асланов имеет возможность вновь перечитать полюбившуюся ему статью, обратить внимание на следующие строки: «Мы – разные. Это – необходимый посыл для правильного понимания межэтнических контактов. Данная аксиома не обязательно требует определения «хороший – плохой», достаточно констатации того, что мы разные… Таковыми нас сделала история. И выжили мы все именно потому, что строго, на протяжении веков и тысячелетий, придерживались выработанными многими поколениями собственной этнической философии, этических норм, единственно приемлемых в условиях тысячелетнего бытия». Несмотря на то, что 25% крови в его жилах является аварской, Э. Асланов живет и мыслит как истинный представитель кочевых племен, и того же требует от банды прикармливаемых им продажных журналистов. Изменить это невозможно, ибо, как уже было сказано, подобное мышление выработано многими поколениями его предков, оно у него в генах. Потому и появляется в подконтрольном ему СМИ «характеристика» подло зарубленного топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна – «бесславно сгинувший». Да, согласно мировоззрению кочевого турка, Гурген Маркарян погиб «бесславно», ибо не запирал на ночь двери на ключ, спал, когда рядом бродил турок, то есть мыслил не по-турецки. Согласно тому же мировоззрению, элитный азербайджанский офицер Рамиль Сафаров совершил эпический подвиг, убил армянского офицера. Неважно, что Гурген спал, а Рамиль с топором в руках трусливо подкрадывался к спящему, для кочевого мышления важен результат – убийство. Спящего или престарелого человека, женщины или младенца. Убил и был награжден воспитавшим его государством. Это и является одним из важнейших составляющих цивилизационной особенности, в этом состоят государственные интересы Азербайджана, и именно это имел в виду Асланов, когда писал: «Азербайджан объявил бой на всех возможных платформах, защищая идеалы и ценности, исторически присутствующие во всех цивилизованных обществах, а также защищая и отстаивая государственные интересы, которые базируются на подобных ценностях». Еще раз повторю: не стоит проецировать собственное мировоззрение на весь мир. Подавляющее большинство мирового сообщества исповедует иные ценности, в которых нет места убийствам и резне мирного населения, а подвиги военных совершаются на поле боя. Точно так, как это было совершено Республикой Арцах в годы отражения прямой военной агрессии Азербайджана. И последнее. Эльнур Асланов пишет: «Обвиняя азербайджанцев то в генетической, то в этнической, то в цивилизационной, то еще в какой-то несовместимости, армянские политические деятели… преуспели и в обвинении азербайджанцев в несовместимости по духовным ценностям, включая патриотизм». Об этнической и цивилизационной несовместимости армян с закавказскими турками мне уже приходилось писать. Что же касается отсутствия у закавказских турок патриотизма, то лучше всех об этом сказал «общенациональный вождь» Азербайджана Гейдар Алиев. «Из Зангиланского района ушли и население, и армия». «Не секрет, что во время последних событий на территории Джебраильского района, в Горадизе и других пунктах наши бойцы ушли со своих позиций даже раньше местного населения. Контролируя положение в Зангилане, принимая неоднократные меры для защиты района находящимися там вооруженными силами, мы вместе с тем стали свидетелями, что большая часть воинов оставила свои позиции без боя, без сопротивления, не открыв огня. Они предпочли отступить, сбежав на территорию Ирана». «Большинство тех, кто служил в воинских частях, расположенных на «оккупированных» (кавычки мои – Л. М.-Ш.) в последние дни территориях, являются гражданами этих районов. К примеру, большинство солдат и офицеров воинской части, вышедшей из Зангиланского района – местные жители. И вместо того, чтобы воевать, защищать свою землю, они, едва заслышав стрельбу, занялись тем, что вывозили свои семьи, другими делами». «Хочется отметить, что в этих районах были и такие граждане, юноши, которые могли бы защищать свои земли, но большинство из них сбежали». И еще одна цитата «великого лидера» Азербайджана: «Почему же получается так, что армяне приходят сюда из Ленинакана, Еревана, Кировакана, сражаются и погибают? Они тут и ранения получают, и погибают. А мы здесь свои земли, села не защищаем». Эльнур Асланов не может согласиться с армянскими политическими деятелями, иначе он будет отлучен от сытной кормушки, но пусть он попробует возразить Гейдару Алиеву, пусть даже мертвому. Да и как возразить, если образ жизни кочевых предков Асланова и иже с ним не предполагал наличия такого понятия, как Родина? Именно поэтому для обозначения этого понятия закавказские турки пользуются выражением «анаюрду», что в дословном переводе означает «материнская юрта».
-
Президент Армении знает цену слова Выступление Президента Армении Сержа Саргсяна на пленарном заседании ПАСЕ обсуждается в Азербайджане даже более активно, чем в армянских республиках. Вернее, слово «обсуждается» тут не совсем к месту, ибо кошачий концерт, поднятый в СМИ Азербайджана, даже при большой натяжке нельзя назвать обсуждением. Первым на выступление С. Саргсяна, как это часто наблюдается в последнее время, отреагировало министерство обороны Азербайджана, озвучив, как это подобает бравой аскерне, захлебывающееся тявканье злобной, но бессильной собачонки. Начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Эльдар Сабироглу выступил с очередным наглым, хамским и лживым заявлением, в котором посмел оскорбить Президента Армении Сержа Саргсяна и армянского Воина. Признаюсь, мы давно решили не обращать внимания на производимое Сабироглу и его трусливым начальником злобное шипение. Однако есть одно «но»: овчарни необходимо чистить и дезинфицировать, хотя бы иногда. Если отбросить в сторону оскорбления, то в заявлении Сабироглу остаются следующие смысловые нагрузки: 1. Президент Азербайджана Ильхам Алиев – созидатель, Серж Саргсян – оккупант. 2. Азербайджан добьется того, что Серж Саргсян ответит перед международным судом. 3. Фиаско прямой военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах обеспечила не Армянская армия, а неназванная Сабироглу «третья сила», и «схожие факторы» и сегодня воодушевляют Президента Армении. 4. Серж Саргсян «не должен забывать», что вооруженные силы Азербайджана «восстановят территориальную целостность» республики. Это, напомню, кроме оскорблений, которыми Сабироглу в изобилии снабдил свое заявление. О «созидательной» деятельности Ильхама Алиева лучше всего свидетельствует картина десятков тысяч разрушенных властью домов в Азербайджане, жители которых выброшены на улицу без всякого намека на компенсацию. Прожив в своих домах свыше двух десятков лет, они внезапно узнали, что построенные ими дома, а также их приусадебные участки принадлежат Азербайджанской государственной нефтяной компании, которая не намерена платить за «собственную землю». Ильхам Алиев, еженедельно озвучивающий претензии на армянскую землю от Степанакерта до Еревана, напоминает неизлечимого импотента от рождения, пользующегося любой возможностью рассказать о своих любовных похождениях. В подтверждение своей «мужской силы» Ильхам готов даже придумать историю, согласно которой он был выброшен с балкона обманутым мужем его «очередной любовницы». Президент Азербайджана и рад бы в суд подать, да вот беда, вся история с любовницей и ее мужем сочинена от начала до конца. Наконец, именно потому, что Серж Саргсян не забывает об агрессивных намерениях соседей, этим самым соседям остается лишь бессильно шипеть. Вслед за Сабироглу трибуну занял сын крашеной Рабият, заведующий отделом политического анализа и информационного обеспечения администрации президента Азербайджана Эльнур Асланов. Генетически унаследовавший умение подстраиваться под клиен., аудиторию, Э. Асланов решил опровергнуть Сержа Саргсяна, напомнившего в своем выступлении о том, что Ильхам Алиев считает всех армян врагами номер один Азербайджана. Возможно, кто-то может и поверить Эльнуру, вот только заключительное выступление Ильхама Алиева 28 февраля прошлого года на конференции, посвященной итогам третьего года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах», не позволяет этого делать. Напомню сказанное тогда Ильхамом Алиевым: «В первую очередь, наши основные враги – мировое армянство и находящиеся под его влиянием лицемерные, погрязшие в коррупции и взяточничестве политики». А спустя несколько месяцев генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд открыто обвинил руководство Азербайджана в коррупции и стремлении подкупить членов ПАСЕ. «Икорная дипломатия - угроза независимости Парламентской Ассамблеи Совета Европы», - заявил генсек СЕ и председатель Нобелевского комитета Т. Ягланд. Приводить подобные примеры можно много и долго, равно как и примеры недостойного поведения закавказских турок во главе с президентом Азербайджана. Однако мне хотелось бы обратить внимание на другое. После выступления Сержа Саргсяна на ПА ПАСЕ, ему были заданы вопросы, в том числе и руководителем делегации Азербайджана Самедом Сеидовым, «обвинившем» Армению в «оккупации 20% территории Азербайджана», а также в «опасных играх» с Европейским Союзом и Таможенным Союзом. Президент ответил достойно. Серж Саргсян отмел «обвинения» в играх, отметив, что Армения проводит политику в интересах собственного народа, и не намерена кому-либо отчитываться в своих действиях. Затем Президент Армении заметил азербайджанскому делегату, что не надо было начинать агрессию, а затем плакаться об оккупации. Армения не имела отношения к обороне Арцаха от агрессии Азербайджана, и это указано в резолюциях Совета Безопасности ООН. Да, сегодня Армения и ее вооруженные силы являются гарантией безопасности Нагорно-Карабахской Республики и ее населения. «И я здесь заявляю: если Азербайджан начнет военные действия против Республики Арцах, то Республика Армения всеми возможностями защитит Арцах. Не надо начинать военных действий, затем жаловаться на оккупацию. И сейчас Азербайджан угрожает нам военными действиями. Уверен, если такие действия начнутся, то через несколько месяцев азербайджанцы будут жаловаться не о 20, а о 25 – 30 процентах. Не надо начинать военных действий!», - внушительным тоном заключил Серж Саргсян ответ азербайджанскому дипломату. Видеоролик с этим эпизодом можно посмотреть на видеохостинге Youtube. Ответ Президента Армении можно прослушать сколько угодно раз, в нем слышно суровое предупреждение, но никак не оскорбление. А вот как прокомментировал С. Сеидов слова Сержа Саргсяна бакинской газете «Зеркало». «На мой вопрос президент Армении (хотя, задавая ему вопрос, я не обращался к нему со словом «президент», просто «Саркисян») ответил в оскорбительной форме. Будто бы такого не было, будто это смешной вопрос и т.п. … Если бы у него были какие-то аргументы, он бы привел их. Однако Саркисян, отбросив аргументы, перешел к оскорблениям. Лидер Армении еще раз показал в Евросоюзе свое истинное лицо. Конечно, как азербайджанцу слушать это его выступление очень тяжело. Особенно его последние слова: «Я готов оккупировать не 20, а 25 и более процентов ваших территорий». Они не отказываются от своей оккупантской политики. Нас обвиняют, а сами признаются в том, что оккупанты. Считаю, что выступление президента Армении в подобной форме означает крах его внешней политики. Я всегда говорил и повторю еще раз: у армянской политики и Армении как государства будущего нет». Трудно разобраться в психологии детей Мырыг Музаффара, особенно если у них еще и развитая болезненная фантазия. Отважный С. Сеидов, обратившийся к Президенту Армении без слова «президент», «дополнил» ответ Сержа Саргсяна ночными страхами руководства Азербайджана, нашел в них «оскорбления» и размазал сопли по стенам родной газеты. Но на один нюанс ответа С. Саргсяна в интерпретации Сеидова необходимо обратить особое внимание: Президент Армении, говоря о процентах, над которыми будет плакать Азербайджан в случае возобновления агрессии против Республики Арцах, не говорил и не мог сказать «ваших территорий». Президент Армении знает цену слова.
-
Позволь мне прислониться к тебе, Сос Арташесович Как же трудно писать о погибшем друге! Особенно, если друга зовут Сос Саркисян. Эти короткие строки я пишу уже несколько дней, пишу мучительно тяжело. Не стало Соса Арташесовича Саркисяна. Хотел было написать «моего большого друга», но это было бы нечестно по отношению к миллионам его поклонников. Сос Саркисян вошел в каждую армянскую семью, везде нашел друзей, и никто из нас не вправе приватизировать эту дружбу. Он наш всеармянский Сос. У меня было два друга с этими именем и фамилией. Один, мужественный парень из села Карашен Горисского района, воевал, командовал армянскими добровольцами, был ранен, не долечился, вновь воевал и вновь был ранен. Мой друг Сос Саркисян умер от ран. И Сос Арташесович, как я его звал с первого дня знакомства в уже далеком, но вечно прекрасном 1988 году. Он, живущий счастьем и болью армянского народа, также умер от ран в душе и сердце. До последнего времени Сос Арташесович звонил мне по несколько раз в неделю. Время звонка – где-то между пятью и шестью часами утра. Я мог и не вглядываться в надпись на экране телефона: позвонить мне в это время мог только он. Наш разговор начинался с уже традиционного обмена шуткой: «Ты не спишь?» - Я никогда не сплю, Сос Арташесович! - Апрес (Живи долго)! Мы не имеем права спать. Почему же ты уснул вечным сном, мой мудрый и дорогой друг? Ты же не раз напоминал мне, что мы не имеем права уставать, не имеем права останавливаться, не имеем права спать. За авторство этой фразы мы «соперничали». Как-то, в одной из статей, я написал, что «мы не имеем права уставать, не имеем права останавливаться». Органично влившаяся в статью фраза была не случайной, она отражает мое жизненное кредо. И написал я ее как нечто само собой разумеющееся. А утром звонок друга: «Апрес, Левон джан! Ты даже не представляешь, как это здорово, что ты так написал. Я сам всегда повторяю эту фразу, и мне очень приятно, что ты это написал. У тебя много читателей, и если даже несколько из них последуют этому совету, я буду очень рад». С тех пор прошло несколько лет, и сегодня я думаю, что Сос Арташесович был прав, и фраза принадлежит ему. А мне просто посчастливилось прочитать мысли друга. Однажды, по случаю, я рассказал Сосу Арташесовичу о фронтовом друге, который в годы войны практически никогда не спал. Прислонится к дереву, постоит минут пять с закрытыми глазами, и… куда только усталость девается? Бодрый и свежий, готовый на новые схватки с врагом. Сценка понравилась Маэстро, и стала нашим внутренним фольклором: каждый раз, когда я упоминал об усталости, он предлагал мне «прислониться к дереву». - Тогда позволь мне прислониться к тебе (Армянское имя Сос означает «платан», «чинар» - Л. М.-Ш.). К Сосу Саркисяну прислонялись многие. Не люблю выражений типа «всенародная любовь», но и не могу найти иных слов для передачи той любви, что испытывал армянский народ к своему кумиру. Иной раз казалось, что не Сос Саркисян воплощал на экране роли Мовсеса, Наhапета, Дзори Миро, а все наши прошлые и будущие герои воплотились в Сосе Саркисяне. И армянский народ именно так воспринимал Соса Саркисяна. Аскетическая внешность, широкая эрудиция, Сос Саркисян, словно огромный магнит, притягивал к себе людей: многие шли в театр «посмотреть на Соса», а потом и на его учеников в театре «Амазгаин». Халтуры там просто не могло быть: будучи всей душой преданным любимому делу, Сос Саркисян требовал от окружающих столь же бесконечной преданности избранной специальности. Прекрасно знавший армянскую историю, наш патриарх буквально боготворил Армянскую Армию, почитал армянского Воина. «Армия – наше возмужавшее в победных боях дитя. Сохранившая для нас мир и Родину. И относиться к ней без любви и восхищения невозможно». Надо было иметь гражданское мужество Соса Саркисяна, чтобы сказать то, о чем думают многие, но не произносят из-за ложно понимаемого приличия: «Надо уметь не прощать!» Была бы у Соса Арташесовича возможность, он бы высек этот завет в сердце каждого армянина, внес бы в Конституцию Страны Армянской. Как можно простить нераскаявшегося преступника, вырезавшего полтора миллиона армян? Как можно простить нелюдей, расчленивших престарелых людей в Мараге? Как можно простить двуногих животных, преступления которых можно перечислять месяцами? Врага надо называть врагом, турка – турком, сколь бы оскорбительно это ни звучало. И относиться к ним соответственно. Вот уже несколько дней я пересматриваю фильмы с участием Соса Саркисяна. Пересмотрите еще раз фильм «Дзори Миро». Обратите внимание на то, как Сос Саркисян – Дзори Миро уничтожает турецких грабителей и насильников, от грязных лап которых мгновением раньше освободились бросившиеся в ущелье Мехрагета и вознесшиеся в небеса юные армянки. И с каким холодным презрением, отвернувшись, пристреливает он убийцу и насильника – турецкого бека. Дзори Миро – не убийца и не мститель. Он – хранитель чести армянской. Эпизод снимался у прославленного Сагмосаванка, в невероятной красоты ущелье реки Касах, но мы забываем об этом, оказываемся у подножья горы Андок в Западной Армении, на берегу реки Мехрагет. Мы живем чувствами армянского фидаина – Дзори Миро – Соса Саркисяна, проникаемся болью пережившего Геноцид армянина. «Я давно убедился: политкорректность - это вред. Политкорректность наносит вред, ибо теряется правда, размывается истина. Одним словом, политкорректность - это ложь, возведенная в ранг приличия или даже закона», - говорил Сос Арташесович, и не согласиться с ним невозможно. Сос Саркисян – интеллигент, живший в абсолютной гармонии с армянскими материальными и духовными ценностями. Он был беспощадно честен с собой и искренен с окружающим миром. Уже разменяв девятый десяток лет, он не потерял способности по-детски радоваться и восхищаться: «Я преклоняюсь перед людьми, кто день и ночь работает над справедливым разрешением Ай Дата. Это очень важная для всего народа деятельность. Они добиваются справедливости не для себя, а для всего армянского народа». Сегодня мне приятно напомнить восканапатцам о недавнем новогоднем пожелании Соса Арташесовича: «Я желаю всему коллективу сайта «Восканапат», всем его читателям, бойцам батальона счастья и процветания. Вы делаете важное и очень нужное дело. Мне легче жить, когда я знаю, что у моего народа есть такие сыновья и дочери. И самое главное мое пожелание, чтобы в недалеком будущем все Восканапатцы жили в Армении, в том числе и в настоящем Восканапате. Это – великое счастье, иметь возможность собственными руками обогревать родную землю, и именно этого я желаю Восканапатцам. Живите в любви, друзья, и будьте счастливы, но не забывайте, что подлинное счастье возможно только на Родине». После того нашего разговора в Армению вернулись восканапатцы Геташен, Пандухт и hАйоц. Вернулись за подлинным счастьем жизни на Родине, за возможностью почтить память армянских мучеников в Цицернакаберде, поклониться праху наших героев в Ераблуре… Вернулись, чтобы созидать, обогревать нашу землю… P. S. Один из наших восканапатцев предложил переименовать город Степанаван, в котором родился Сос Саркисян, в Сосасар. Идея отличная и правильная, только я бы предложил переименовать город в Сосанвер. Уверен, люди, знакомые с армянской мифологией, поймут. Нашему народу нужен Сос, к которому всегда можно прислониться.
-
Молчание равносильно обману Вначале мы сомневались: надо ли вывешивать на Voskanapat.info данную статью талышского патриота и политолога Рустама Искандари? Затем решили: надо! И даже необходимо. Статья Искандари в том виде, в каком она была опубликована, способна создать у читателя ложное впечатление о возможном согласии Республики Арцах войти в федеративные или конфедеративные отношения с Азербайджаном. Промолчать в данном случае означало бы обмануть друзей и союзников. Обмануть по умолчанию. Идея федерализации/конфедерализации Азербайджана давно уже обсуждается в экспертных кругах, в том числе и в Турции. Считается, что это – кратчайший и сравнительно малокровный путь расчленения Азербайджана – гнойного нарыва на теле региона. Существует, кстати, еще одна интересная идея, которую также не стоит сбрасывать со счетов: наращивание территории соседних государств за счет полного расчленения Азербайджана. Вторую идею первым озвучил Александр Дугин в книге «Основы геополитики». «В противном случае, т. е. при сохранении протурецкой ориентации Азербайджана, эта «страна» (кавычки от А. Дугина – Л. М.-Ш.) подлежит расчленению между Ираном, Россией и Арменией», - писал он в книге «Основы геополитики». Безусловно, в случае новой агрессии Баку против Республики Арцах, расчленение Азербайджана может и будет иметь характер одноразового акта. В этом случае автоматически решаются и проблемы живущих в этом образовании автохтонных народов. Однако, говорю об этом с полной ответственностью, Республика Арцах не будет принимать участия ни в каком проекте, предусматривающем поэтапное разделение Азербайджана, в том числе и посредством федерализации/конфедерализации его нынешней территории. Поэтому мне непонятно воодушевление, испытываемое нашими друзьями при виде вывешенной на сайте министерства экономики Турции карты «Азербайджана». Практически полностью согласен с Искандари в том, что «процесс ратификации Цюрихских протоколов успешно блокировался Азербайджанской республикой. И Турцию не может не беспокоить, что «восточные братья» противостоят осуществлению ее внешнеполитических планов, среди которых особое место занимает разблокирование южнокавказского региона». Пишу «практически», имея в виду два обстоятельства. 1. В 1920 году, потерпев поражения на западном фронте, Турция попыталась (довольно успешно) реабилитироваться в нашем регионе. Сегодня Турция, уже потерпевшая поражение на «египетском» фронте своей политики, испытывает тревожную неопределенность на фронте сирийском. Так насколько правильно способствовать Анкаре, пусть даже опосредованно, в ее стремлении «вернуть себе доверие и расположение коллег за океаном» и, с этой целью, «разблокировать» наш регион? 2. Турция явно желала бы смены правящего в Азербайджане режима, однако это ни в коем случае не означает ее желания видеть на месте этого тюркского образования несколько нетюркских национально-государственных образований. Подобное восприятие реалий противоречит всей сущности пантюркизма - идеологии, одним из этапов претворения которой и стало порождение Азербайджана в 1918 году турецкими войсками. Нынешние явные и тайные противоречия между Анкарой и Баку исходят от недостаточного, по мнению Турции, понимания Азербайджаном отведенной ему роли в реализации идеологии пантюркизма. Разумеется, Турцию беспокоит и курдское происхождение клана Алиевых и большинства руководителей Азербайджана. Данное обстоятельство не прибавляет Анкаре доверия к Ильхаму Алиеву и его окружению, особенно на фоне перманентно просачивающихся в прессу сведениях о финансовых вливаниях из Азербайджана в курдское повстанческое движение в Турции. При этом, естественно, о контактах Азербайджана с Рабочей партией Курдистана правительству Турции известно намного больше, чем о том пишется в прессе. Курдский фактор, безусловно, используется Азербайджаном в качестве одного из рычагов влияния на политику Турции по отношению к Баку. Но все это является лишь досадной помехой в отношениях между двумя турецкими образованиями, легко нейтрализуемой при пантюркистском руководстве Азербайджана. Достаточно вспомнить время правления Эльчибея. Повторю еще раз: Турция ни при каких обстоятельствах не будет способствовать федерализации/конфедерализации Азербайджана, так как это противоречит той самой идее, ради которой и было порождено это образование. Вместе с тем, Анкара проводит и будет проводить осторожную политику отстранения от власти в Азербайджане любые силы, явно или тайно противостоящие идеологии пантюркизма. Сказанное ни в коей мере не означает призыв к отказу от идеи федерализации Азербайджана. Важно понять, что признание того или народа субъектом федерации/конфедерации автоматически означает признание за ним права на самоопределение. Не менее важно, кстати, и то обстоятельство, что отказ от федеративных/конфедеративных отношений столь же автоматически дает народу право на национально-освободительную борьбу. Со всеми вытекающими из этого права обстоятельствами. Однако необходимо понять, что в процессах межэтнических взаимоотношений в Азербайджане Республика Арцах принимать участия не будет. Я далек от мысли укорять Рустама Искандари в недостаточном знании Республики Арцах. Наверное, этому есть и объективные, и субъективные объяснения, в том числе и недостаточная просветительская деятельность армянских СМИ по части освещения реалий армянских государств. Между тем, Республика Арцах - это сложившееся государство со всеми присущими атрибутами. На всей территории Арцаха наличествует верховенство законодательного, исполнительного и судебного права, исключающее иностранное вмешательство; территориальное верховенство, согласно которому власть государства является высшей властью по отношению ко всем лицам и организациям, находящимся на территории государства. Республика Арцах создала мощную армию, обеспечивающую мирное развитие государства и способную защитить ее суверенитет. Все это было достигнуто гражданами Республики Арцах в процессе национально-освободительной борьбы, реализации своего неотъемлемого права на самоопределение и, после реализации этого права 2 сентября 1991 года, строительства суверенного государства. Учтем вышесказанное, и приведем еще одну цитату Р. Искандари. «Возобновление Цюрихского процесса, запуск его второго этапа не может быть осуществлен без урегулирования «претензий» АР. Решением этого вопроса в перспективе может стать федерализация/конфедерализация Азербайджанской республики с предоставлением Карабаху промежуточного статуса. Однако, предварительным в этом процессе может стать обеспечение других коренных народов региона (в первую очередь, талышей, лезгин и аварцев) возможностями осуществления своего права на самоопределение». Азербайджан выдвигает претензии и к России, и к Ирану, и к Грузии. Значит ли это, что кто-то возьмется за «урегулирование» этих претензий путем федерализации/конфедерализации Азербайджана, притянув к этому процессу Южный Дагестан, Квемо Картли и северные провинции Ирана? И что значит Цюрихский (и любой другой) процесс в сравнении с независимостью Республики Арцах? Наконец, хотелось бы понять, кто этот всемогущий, способный лишить Республику Арцах независимости с последующим предоставлением «промежуточного статуса»? Сожалею, что даже наши друзья далеко не в полной мере представляют степень независимости Республики Арцах и ее возможности защитить свой государственный суверенитет. Армянские государства были, есть и останутся приверженцами прав народов, в том числе и права на самоопределение. И Ереван, и Степанакерт готовы оказать юридическую и правовую помощь борющимся за свои права автохтонным народам Азербайджана. Думается, что найдется немало армян, готовых оказать и помощь иного рода. Это тем более естественно, что значительная часть армянского народа не понаслышке знакома с агрессивной и человеконенавистнической ассимиляторской политикой Азербайджана. Однако сказанное отнюдь не означает, что Республика Арцах согласится вернуться к довоенной ситуации, чтобы вести совместную с талышами, лезгинами, аварцами борьбу за их национальные права. Подобное исключено изначально и обсуждению не подлежит. Помощь армянских государств ни в коей мере не может поставить под сомнение независимость Республики Арцах. Безусловно, федерализация/конфедерализация Азербайджана выгодна автохтонным народам этой республики, а также армянским государствам и всем соседним странам (кроме Турции), ибо станет гарантией прочного мира для всего региона. Выгодна она и закавказским туркам – «азербайджанцам», ибо в случае федерализации/конфедерализации Азербайджана в полной мере задействуется фактор мира, основными носителями которого являются талыши и лезгины. Но для этого и талышам, и лезгинам необходимо пройти проторенный арцахцами путь к реализации своих прав, а не предлагать (или даже обсуждать) варианты совместного преодоления тернистой дороги к свободе. Сожалею, что приходится напоминать: Республика Арцах уже свыше двух десятков лет является суверенным государством.
-
Молчание равносильно обману Вначале мы сомневались: надо ли вывешивать на Voskanapat.info данную статью талышского патриота и политолога Рустама Искандари? Затем решили: надо! И даже необходимо. Статья Искандари в том виде, в каком она была опубликована, способна создать у читателя ложное впечатление о возможном согласии Республики Арцах войти в федеративные или конфедеративные отношения с Азербайджаном. Промолчать в данном случае означало бы обмануть друзей и союзников. Обмануть по умолчанию. Идея федерализации/конфедерализации Азербайджана давно уже обсуждается в экспертных кругах, в том числе и в Турции. Считается, что это – кратчайший и сравнительно малокровный путь расчленения Азербайджана – гнойного нарыва на теле региона. Существует, кстати, еще одна интересная идея, которую также не стоит сбрасывать со счетов: наращивание территории соседних государств за счет полного расчленения Азербайджана. Вторую идею первым озвучил Александр Дугин в книге «Основы геополитики». «В противном случае, т. е. при сохранении протурецкой ориентации Азербайджана, эта «страна» (кавычки от А. Дугина – Л. М.-Ш.) подлежит расчленению между Ираном, Россией и Арменией», - писал он в книге «Основы геополитики». Безусловно, в случае новой агрессии Баку против Республики Арцах, расчленение Азербайджана может и будет иметь характер одноразового акта. В этом случае автоматически решаются и проблемы живущих в этом образовании автохтонных народов. Однако, говорю об этом с полной ответственностью, Республика Арцах не будет принимать участия ни в каком проекте, предусматривающем поэтапное разделение Азербайджана, в том числе и посредством федерализации/конфедерализации его нынешней территории. Поэтому мне непонятно воодушевление, испытываемое нашими друзьями при виде вывешенной на сайте министерства экономики Турции карты «Азербайджана». Практически полностью согласен с Искандари в том, что «процесс ратификации Цюрихских протоколов успешно блокировался Азербайджанской республикой. И Турцию не может не беспокоить, что «восточные братья» противостоят осуществлению ее внешнеполитических планов, среди которых особое место занимает разблокирование южнокавказского региона». Пишу «практически», имея в виду два обстоятельства. 1. В 1920 году, потерпев поражения на западном фронте, Турция попыталась (довольно успешно) реабилитироваться в нашем регионе. Сегодня Турция, уже потерпевшая поражение на «египетском» фронте своей политики, испытывает тревожную неопределенность на фронте сирийском. Так насколько правильно способствовать Анкаре, пусть даже опосредованно, в ее стремлении «вернуть себе доверие и расположение коллег за океаном» и, с этой целью, «разблокировать» наш регион? 2. Турция явно желала бы смены правящего в Азербайджане режима, однако это ни в коем случае не означает ее желания видеть на месте этого тюркского образования несколько нетюркских национально-государственных образований. Подобное восприятие реалий противоречит всей сущности пантюркизма - идеологии, одним из этапов претворения которой и стало порождение Азербайджана в 1918 году турецкими войсками. Нынешние явные и тайные противоречия между Анкарой и Баку исходят от недостаточного, по мнению Турции, понимания Азербайджаном отведенной ему роли в реализации идеологии пантюркизма. Разумеется, Турцию беспокоит и курдское происхождение клана Алиевых и большинства руководителей Азербайджана. Данное обстоятельство не прибавляет Анкаре доверия к Ильхаму Алиеву и его окружению, особенно на фоне перманентно просачивающихся в прессу сведениях о финансовых вливаниях из Азербайджана в курдское повстанческое движение в Турции. При этом, естественно, о контактах Азербайджана с Рабочей партией Курдистана правительству Турции известно намного больше, чем о том пишется в прессе. Курдский фактор, безусловно, используется Азербайджаном в качестве одного из рычагов влияния на политику Турции по отношению к Баку. Но все это является лишь досадной помехой в отношениях между двумя турецкими образованиями, легко нейтрализуемой при пантюркистском руководстве Азербайджана. Достаточно вспомнить время правления Эльчибея. Повторю еще раз: Турция ни при каких обстоятельствах не будет способствовать федерализации/конфедерализации Азербайджана, так как это противоречит той самой идее, ради которой и было порождено это образование. Вместе с тем, Анкара проводит и будет проводить осторожную политику отстранения от власти в Азербайджане любые силы, явно или тайно противостоящие идеологии пантюркизма. Сказанное ни в коей мере не означает призыв к отказу от идеи федерализации Азербайджана. Важно понять, что признание того или народа субъектом федерации/конфедерации автоматически означает признание за ним права на самоопределение. Не менее важно, кстати, и то обстоятельство, что отказ от федеративных/конфедеративных отношений столь же автоматически дает народу право на национально-освободительную борьбу. Со всеми вытекающими из этого права обстоятельствами. Однако необходимо понять, что в процессах межэтнических взаимоотношений в Азербайджане Республика Арцах принимать участия не будет. Я далек от мысли укорять Рустама Искандари в недостаточном знании Республики Арцах. Наверное, этому есть и объективные, и субъективные объяснения, в том числе и недостаточная просветительская деятельность армянских СМИ по части освещения реалий армянских государств. Между тем, Республика Арцах - это сложившееся государство со всеми присущими атрибутами. На всей территории Арцаха наличествует верховенство законодательного, исполнительного и судебного права, исключающее иностранное вмешательство; территориальное верховенство, согласно которому власть государства является высшей властью по отношению ко всем лицам и организациям, находящимся на территории государства. Республика Арцах создала мощную армию, обеспечивающую мирное развитие государства и способную защитить ее суверенитет. Все это было достигнуто гражданами Республики Арцах в процессе национально-освободительной борьбы, реализации своего неотъемлемого права на самоопределение и, после реализации этого права 2 сентября 1991 года, строительства суверенного государства. Учтем вышесказанное, и приведем еще одну цитату Р. Искандари. «Возобновление Цюрихского процесса, запуск его второго этапа не может быть осуществлен без урегулирования «претензий» АР. Решением этого вопроса в перспективе может стать федерализация/конфедерализация Азербайджанской республики с предоставлением Карабаху промежуточного статуса. Однако, предварительным в этом процессе может стать обеспечение других коренных народов региона (в первую очередь, талышей, лезгин и аварцев) возможностями осуществления своего права на самоопределение». Азербайджан выдвигает претензии и к России, и к Ирану, и к Грузии. Значит ли это, что кто-то возьмется за «урегулирование» этих претензий путем федерализации/конфедерализации Азербайджана, притянув к этому процессу Южный Дагестан, Квемо Картли и северные провинции Ирана? И что значит Цюрихский (и любой другой) процесс в сравнении с независимостью Республики Арцах? Наконец, хотелось бы понять, кто этот всемогущий, способный лишить Республику Арцах независимости с последующим предоставлением «промежуточного статуса»? Сожалею, что даже наши друзья далеко не в полной мере представляют степень независимости Республики Арцах и ее возможности защитить свой государственный суверенитет. Армянские государства были, есть и останутся приверженцами прав народов, в том числе и права на самоопределение. И Ереван, и Степанакерт готовы оказать юридическую и правовую помощь борющимся за свои права автохтонным народам Азербайджана. Думается, что найдется немало армян, готовых оказать и помощь иного рода. Это тем более естественно, что значительная часть армянского народа не понаслышке знакома с агрессивной и человеконенавистнической ассимиляторской политикой Азербайджана. Однако сказанное отнюдь не означает, что Республика Арцах согласится вернуться к довоенной ситуации, чтобы вести совместную с талышами, лезгинами, аварцами борьбу за их национальные права. Подобное исключено изначально и обсуждению не подлежит. Помощь армянских государств ни в коей мере не может поставить под сомнение независимость Республики Арцах. Безусловно, федерализация/конфедерализация Азербайджана выгодна автохтонным народам этой республики, а также армянским государствам и всем соседним странам (кроме Турции), ибо станет гарантией прочного мира для всего региона. Выгодна она и закавказским туркам – «азербайджанцам», ибо в случае федерализации/конфедерализации Азербайджана в полной мере задействуется фактор мира, основными носителями которого являются талыши и лезгины. Но для этого и талышам, и лезгинам необходимо пройти проторенный арцахцами путь к реализации своих прав, а не предлагать (или даже обсуждать) варианты совместного преодоления тернистой дороги к свободе. Сожалею, что приходится напоминать: Республика Арцах уже свыше двух десятков лет является суверенным государством.
-
Смертник Сейран Сейран Маркарян погиб 2 сентября 1992 г. в окрестностях села Вагуас в Карабахе. Всю ночь его тело оставалось на поле боя. Отступавшие товарищи укрыли его ветками деревьев, чтобы на следующий день любой ценой перетащить с контролируемой врагом территории. На следующий день после боя заместитель командира роты, алавердиец Сейран Антанесян сказал, что не оставит тело своего земляка азербайджанцам, в противном случае не вернется в Алаверди. Смертники-алавердийцы при содействии смертников из Севана и Нор Ачна смогли забрать тело Сейрана Маркаряна с прежних боевых позиций. “В отряде Сейран Маркарян был самым старшим по возрасту. Ему было около 50-ти. Как гранатометчик он был незаменим. Откуда мне было знать, что всего через несколько дней именно Сейран станет первой жертвой”, - написал спустя годы в сборнике “Смертники” заместитель командира роты. В Алаверди Маркарян оставил троих детей. Жена умерла за несколько лет до этого. “До Карабахского движения мы с семьей были в Монголии. Мама умерла там от рака. В январе 1988 года отец, я и две мои несовершеннолетние сестры, похоронив маму в Монголии, вернулись в Армению”, - вспоминает сын Сейрана Гагик. Гагику было 18 лет, когда погиб отец. “В городе появилась информация о том, что в Карабахе погибли двое алавердийцев. Я спустился вниз, там уже собрались люди. Все они знали моего отца. А меня щадили, обманывали. Но я всю ночь не смог заснуть. Мне было неспокойно, сердце как будто предчувствовало беду. Один из жителей нашего квартала по имени Миша не знал меня. Он-то и сказал собравшимся: говорят, мол, что в Карабахе убили Сейрана. Тут мне стало плохо”,- вспоминает Гагик. Потом, встречаясь с боевыми друзьями отца, Гагик пытался узнать обстоятельства его гибели. Ему рассказывали разные вещи. Один сказал, что это произошло в результате взрыва миномета, по словам другого, его убило выстрелом из танка. Говорили также, что была прямая автоматная очередь. И каждый рассказ выворачивал душу Гагика наизнанку. Он несколько раз бывал в тех местах в Карабахе, где воевал отец. В первый раз его сопровождал смертник Арам Сажинян. “Во время боя наши направились пешком через непроходимые горы и ущелья от села Ванк к Вагуасу. Когда они дошли до Вагуаса, начался бой, который длился долго. Потом пришел приказ отступить. Мне об этом рассказал боевой друг моего отца Гриша Давтян. По его словам, наши, в том числе отец, продвинулись вперед, захватили у азербайджанцев оружие. Отец был гранатометчиком. Когда приказали отступить, отец окликнул Гришу Давтяну и сказал, чтобы тот возвращался. Уже темнело. И в тот момент, когда Гриша подходил к отцу, раздался взрыв. Отец погиб, а Гриша был тяжело ранен”,- рассказывает Гагик. Потерявшему сознание и с трудом пришедшему в себя Грише о гибели Сейрана Маркаряна сообщили карабахские смертники. Тело Сейрана оставалось на поле боя непосредственно перед позициями азербайджанцев. Там было много жертв, много трупов... Бой проходил у края леса. “Когда отец погиб, моей младшей сестре было 11 лет, другая сестра была младше меня на два года – ей было 16. Вырастить сестер мне помог боевой друг моего отца Гриша Давтян. Он устроил меня на работу на Баграташенский таможенный пункт. Государство почти ничем не помогало. Помощь состояла лишь в том, что младшей сестре назначили пенсию и пособие. И все”,- сказал Гагик. Он вспомнил еще один эпизод. 29-30 августа 1992 года Гагик вместе с дядей, братом отца, возвращались в Ванадзор и в Шаали встретили ребят-смертников из Алаверди. “Отца среди них не было. Я спросил о нем. Мне сказали, что он поехал в Ванадзор за грузовиком ГАЗ-66, на котором должны были перевозить оружие из Еревана в Карабах. Грузовик отец получал в 43-ей воинской части”,- рассказал Гагик. Он жалеет о том, что не вернулся в Ванадзор, чтобы в последний раз проститься с отцом. Лариса Паремузян
-
Первый эффект от прибытия Альакрама Гуммотзода на армянскую землю Посещение Республики Армения и Республики Арцах президентом Талыш-Муганской Республики Альакрамом Гуммотзода взорвало информационно-пропагандистское пространство Азербайджана и активно обсуждается в социальной сети. Главное «обвинение», озвучиваемое в азербайджанских СМИ: Альакрам Гуммотзода «предал память» погибших аскеров вооруженных сил Азербайджана в годы агрессии этого образования против Республики Арцах. Но это – СМИ, практически полностью контролируемые режимом Ильхама Алиева. Особенно стараются представители власти. Так, заместитель исполнительного секретаря правящей в Азербайджане партии «Единый Азербайджан» (ПЕА) Мубариз Гурбанлы даже не пытался справиться со своими эмоциями. «Этим поступком он (Альакрам Гуммотзода – Л. М.-Ш.) выразил свое неуважение памяти азербайджанских шехидов, погибших в Карабахе. Ведь не будем забывать, что среди тех, кто отдал свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, были и представители других национальностей, в том числе и талышей. Поэтому у меня большие сомнения на счет того, является ли он вообще талышом. Я его могу назвать предателем. В свое время азербайджанское государство проявило гуманность и освободило его из тюрьмы. Но, видимо, он не извлек из этого урок. Весь азербайджанский народ осуждает его предательство. Он предал память наших шехидов и, тем самым, еще раз вызвал ненависть всего народа», - сказал М. Гурбанлы. Интересно, что сам М. Гурбанлы в годы войны оформил себе бронь, и о боевых действиях знает лишь из литературы. Я не случайно обращаю внимание на этот факт, ибо обвиняемый им Альакрам Гуммотзода воевал, командовал батальоном, затем бригадой, был заместителем министра обороны Азербайджана. Но, таковы реалии современного Азербайджана, в котором дезертир и уклонист получил возможность обвинять боевого офицера, не понаслышке знающего о войне, и стремящегося к миру в регионе. «Мы стремимся к миру и с армянами, и с азербайджанцами, и со всеми народами», - говорит воевавший Гуммотзода, а в ответ слышит от дезертира: «Он предал память наших шехидов». Интересно, найдется ли в Азербайджане хоть один человек, способный поверить, что на фронтах новой войны, если Азербайджан решится на агрессию, можно будет увидеть М. Гурбанлы или его сыновей? В конце прошлого года Гурбанлы, будучи в прямом эфире государственного телеканала АзТВ, самыми грязными словами отзывался о молодежи Азербайджана, а сегодня он обвиняет Гуммотзода в неуважении к памяти его же – Альакрама Гуммотзода – погибших подчиненных, осмеливается назвать предателем боевого офицера. Поистине, когда отара овец поворачивает назад, впереди на некоторое время оказывается паршивая и хромая овца. Сегодня балом в Азербайджане правят паршивые овцы, заставляющие священнослужителей выступать с нужными им заявлениями. Так, духовные деятели, служащие на талышской земле в Азербайджане, распространили «протест» в связи с визитом в армянские государства президент Талыш-Муганской республики. Времени было в обрез, Гурбанлы и другие паршивые овцы не успели накатать текст и вынудить талышских священнослужителей подписаться под ним, поэтому «осуждение» вышло совсем не таким, каким его хотели бы видеть в Баку. Думается, что скоро там опомнятся, и мы еще увидим новые обвинения в адрес Гуммотзода, написанные с «должной» жесткостью. Еще один депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, Муса Гасымлы, так же, как и Гурбанлы, уклонившийся от войны, говорит о Гуммотзода: «Его визит в Армению - не что иное, как измена родине». О какой родине говорит Гасымлы? Неужели об оккупированном пришлыми турками Талышистане? Нет, Гасымлы имеет в виду режим Алиева, лишившем Гуммотзода азербайджанского гражданства и выдворившем его из республики. И вновь абсурд: дезертир обвиняет воевавшего Гуммотзода в измене «родине», оккупировавшей исконную Родину талышского патриота и узурпировавшей власть в Талышистане. На страницах рупора азербайджанской властной пропаганды выражается сожаление, что Гуммотзода не был расстрелян, когда сидел в тюрьме. Затем тот же рупор в статье, подписанной другим именем, но языком того же автора, рассказал о том, как он успел инкогнито поговорить чуть ли не со всеми «талышеязычными азербайджанцами», которые «с трудом удерживали себя от перехода на ненормативную лексику» при упоминании имен Альакрама Гумбатова и Фахраддина Абосзода – другого лидера талышского народа, председателя Меджлиса Талыш-Муганской республики. Автор пишет, что визит Гуммотзода в армянские государства «укрепил единство в азербайджанских рядах». Непонятно, в таком случае, почему это посещение вызвало столь обильный поток оскорблений, проклятий и доносов? Так, на одном из ведущих сайтов Азербайджана появилась статья, в которой автор обвиняет уроженца Ярдымлинского района, входящего в Талыш-Муганскую Республику, в молчании. «Так что я жду заявления С. Рустамханлы, - самонадеянно пишет защищенный высоким покровительством автор, - В противном случае, считаю его человеком, разделяющим позицию А. Гумбатова». Вот так, сколь нехитрый, столь и подлый шантаж, направленный на обеспечение «общенационального» осуждения А. Гуммотзода. Нам же остается напомнить, что шантажом занимается тот самый автор, которому конкурентка за место под властным солнцем писала: «Ничто не изменит вашу сущность, рожденного подлизывать…» Требование о всеобщем осуждении четко прослеживается и в несуразном предложении вице-спикера Милли меджлиса Азербайджана Бахар Мурадовой: «Я это решительно осуждаю. Для предотвращения таких случаев, вне зависимости от территориальной целостности, суверенитета, каждый должен высказать свою принципиальную позицию». Так стряпается в Азербайджане «информационное обеспечение» «общенационального» осуждения Гуммотзода за посещение армянских государств. Примеров много, но и приведенных, думается, достаточно. В социальных сетях, где люди значительно свободнее выражают свои мысли, ситуация иная: большинство защищают позиции Альакрама Гуммотзода, именуют его патриотом талышского народа, а его посещение армянских государств называют мужественным шагом. Вот несколько фраз: «Самое главное человеческое качество - это благородство, и это просто удивительно, что люди, воевавшие друг против друга, могут сесть за стол, посмотреть друг другу в глаза и поговорить. На это способны действительно сильные люди. Зачем в них камни кидать?». «Алакрам Гумматов – настоящий талыш, лидер, который понял свои ошибки и имеет мужество сказать об этом». «Аликрам Гумбатов мечтает жить в мире, разве это плохо?». «Я сегодня поняла одно: мы, или большинство из нас, боимся правды. Гумматов сказал правду: мы не враги с армянами и не враги с азербайджанцами». Такие вот полярные мнения в обществе и бакинском официозе. Однако за проводимой кампанией очернения Гуммотзода и других лидеров талышского народа явственно ощущается растерянность Азербайджана. Там понимают: первый шок от известия о посещении Гумматзода армянских государств пройдет, после чего начнется время осмысления произошедшего. Сам Гуммотзода в разговоре со мной говорил, что, по его мнению, эффект от его визита проявится через пару месяцев: «Людям, в том числе и моим соратникам, нужно время». Тем не менее, уже с первых часов пребывания Альакрама Гуммотзода на армянской земле в Азербайджане произошли изменения, значение которых трудно переоценить. В этой республике автоматически снялось табу, наложенное на само слово «талыш». И хотя некоторые журналисты и политологи пытаются смягчить последствия «прорыва плотины» и используют эфмеизм «талышеязычные азербайджанцы», ясно, что возврата к старому уже не будет. Фактически Азербайджан вынужден был признать наличие в республике автохтонного талышского народа, не имеющего никакого отношения к закавказским туркам.
-
Кладбищенское словоблудие на бочке с горючим Если проследить за публичными выступлениями Ильхама Алиева, то легко заметить, что на посту президента Азербайджана этот человек прогрессировал только в умении нагло и грязно лгать. Кто-то считает, что на ложь Ильхама Алиева не стоит обращать внимания. Мол, в мире знают правду, и если президенту Азербайджана нравится заниматься словоблудием, то не стоит лишать его удовольствия. Категорически не согласен! Ложь всегда должна опровергаться, она не имеет права на жизнь, тем более, ложь преступная, направленная на разжигание межнациональной ненависти. 18 сентября текущего года Ильхам Алиев принял участие в открытии мемориального комплекса геноцида в городе Куба. Мемориальный комплекс был установлен на месте, где 11 апреля 2007 года было «обнаружено» массовое захоронение людей. Мы не случайно закавычили слово «обнаружено», ибо «нашли» это захоронение сразу после указа Ильхама Алиева, предписывающего азербайджанским ученым найти «доказательства совершенного армянами геноцида азербайджанцев». Итак, 11 апреля предписание Ильхама Алиева было выполнено, а уже 13 апреля директор института археологии и этнографии Академии наук Азербайджана профессор Маиса Рагимова выдала шокирующую фразу: «Антропологические исследования подтвердили, что эти люди – мусульмане». Оставив в стороне вопиющую безграмотность профессора, определяющую религиозную принадлежность антропологическими исследованиями, обратим внимание на невольное признание – «подтвердили». Маиса Мамедова рапортовала президенту государства: задание выполнено. «Обнаруженные» захоронения были превращены в инструмент политических спекуляций, в процессе которых «антропологические мусульмане» (читай – азербайджанцы) неоднократно «меняли» национальность и веру. Для внешней пропаганды «антропологические мусульмане» изображались евреями: Азербайджан даже издал в Израиле книгу, в которой рассказывается о кубинском захоронении убитых армянами евреев. Бакинская пропаганда, направленная на внутреннее потребление, изображает жертв – закавказских турок, а в лезгинских районах Азербайджан рассказывает о «зверствах армян» по отношению к коренным в регионе лезгинам. Последнему обстоятельству Баку придает особую важность, учитывая все более растущее этническое самосознание лезгин и возрождающуюся лезгино-армянскую дружбу. Замечу, что азербайджанский историк, доктор наук Солмаз Рустамова-Тогиди вначале аргументированно опровергла версию о принадлежности найденных останков евреям, однако после того, как ей объяснили «политическую целесообразность» этой версии, она столь же решительно отказалась от своих слов. Больше никто из азербайджанских ученых выступить против государственной пропагандистской программы не решился, и обнаруженные останки продолжили регулярную смену веры и национальности. Неуемное рвение Азербайджана пробудило у людей нежелательный для Баку неподдельный интерес к событиям начала ХХ века. Так, известный лезгинский общественный деятель Вагиф Керимов написал на эту тему несколько статей, в которых, опираясь на этническую память и исторические документы, доказывал, что армяне не могли вырезать лезгин. «Если бы с описываемых событий прошло, например, 500 или более лет, я бы не говорил уверенно об этом. Но за 90 лет наш народ никак не мог забыть трагедии такого масштаба, поэтому пропаганду кубинских захоронений я воспринимаю как грубую провокацию», - говорит В. Керимов. А в январе 2012 года в редакцию Voskanapat.info пришло письмо от Назима Гаджиева – известного лезгинского общественного деятеля. Письмо Назима Гаджиевича, выдержки из которого приводится ниже, является наглядным подтверждением того, что план Азербайджана, стремящегося рассорить армянский и лезгинский народы, обречен на провал. Интеллигенция наших народов давно уже разобралась в нечистоплотных политических махинациях Азербайджана. «Уважаемый господин Левон Мелик-Шахназарян! Как Вы, наверное, знаете, я родом из села Куруш, жители которого под влиянием турецкой пропаганды участвовали в нападениях на отряды Бакинской Коммуны в годы революционной смуты: они убивали, и их убивали. Когда я был маленьким, примерно на рубеже 40-50-х годов, старый дядя моей покойной матери – участник вооруженных столкновений с отрядами Баксовета, среди которых было много армян, ударяясь в старческие воспоминания, рассказывал о событиях своей молодости и, в том числе, о курушцах и других лезгинах, погибших в боях с отрядами Бакинской Коммуны. Это были единицы, поэтому люди помнили всех по именам. Повзрослев, я влился в патриотическое лезгинское движение, изучал нашу историю, вел долгие беседы со многими лезгинами, в том числе с кубинцами, которые в молодые годы, под влиянием стамбульской пропаганды, воевали с армянским населением Хачмазской зоны нынешнего Азербайджана. Не раз приходилось мне беседовать и с теми лезгинами восточного Дагестана, которые участвовали в «бакинском» походе Гоцинского и рассказывали, что у них были значительные потери, вследствие артиллерийского обстрела их позиций. Никто из стариков лезгинской национальности, ни красные, ни белые, никогда не слышали о каких-либо массовых расстрелах лиц лезгинской или еврейской национальности – ни в Кубе, ни в Дербенте. Другие дагестанцы об этом также ничего никогда не слышали, говорили лишь о том, что «Джигитян» расстрелял несколько уважаемых «каджаров» (закавказских турок – Л. М.-Ш.) в Дербенте... Легенда о расстреле десятков и сотен лезгин в Кубе, что сделали якобы армяне – ложь бакинского агитпропа. Во-первых, представители малочисленных народов о таких потерях забыть не могли бы. Во-вторых, в целом отношения между лезгинами и армянами, за малым исключением, были дружескими. В-третьих, где нашли тогда армяне сотни кубинских лезгин, в то время как лезгины жили в кубинских и кусарских горах, причем, в больших селениях-крепостях, которые без штурма с потерей десятков и сотен солдат захватить было невозможно. А в самом городе Куба в основном жили ардебильцы и евреи, которые, как это всем хорошо известно, не только не пострадали в этих событиях, но и, опасаясь турок, ушли с отрядами Бакинской Коммуны». О том, что евреи ушли вместе с отрядами Бакинской коммуны, и писала Солмаз Рустамова-Тогиди. Однако, как мы уже знаем, книга в Израиле уже опубликована, и в прошлом году группа израильских журналистов уже посетила место захоронения «убитых армянами евреев». После их отъезда «евреи» вновь стали «азербайджанцами». Примечательно, что никаких генетических исследований останков людей так и не было проведено, что позволяет Азербайджану, в зависимости от конъюнктуры, жонглировать их национальностью и религией. Замечу также, что известный армянский ученый, доктор биологических наук, профессор Левон Епископосян - научный руководитель группы генетики человека Института молекулярной биологии Национальной Академии наук Армении и президент Армянского антропологического общества – дважды обращался к недавно умершему президенту Академии наук Азербайджана Махмуду Керимову с предложением о совместном изучении азербайджанскими и армянскими специалистами (с возможным привлечением экспертов и из других стран) человеческих останков в Кубе. Ответа Левон Михайлович, как это легко догадаться, не получил. Собственно говоря, отсутствие реакции на письмо Л. Епископосяна было ожидаемым: останки людей представляли для Азербайджана политический, а не исторический интерес, подтверждением чему является выступление Ильхама Алиева на открытии мемориала в Кубе. Перечислить все лживые постулаты его речи просто не представляется возможным, для этого надо просто перепечатать все грязное выступление президента Азербайджана. Тем не менее, на одну наглую ложь Ильхама Алиева необходимо обратить особое внимание. «Сюда были командированы ученые и эксперты, проведены большие исследовательские работы. В результате проведения исследовательских работ выяснилось, что тысячи наших соотечественников были жестоко, беспощадно убиты здесь армянскими бандитскими формированиями». Все более вдохновляясь собственным враньем, президент Азербайджана дал новое указание ученым Азербайджана: «Считаю, что армянский фашизм должен быть более широко исследован азербайджанскими учеными. Считаю, что на основе исторических параллелей должны быть созданы солидные труды». И можно не сомневаться, уже в ближайшем будущем мы узнаем о новых «научных трудах» , и, возможно, о новых земледельческих работах, во время которых «обнаружатся» новые захоронения. Алиев уже даже назвал местности, где их нужно «искать»: Баку, Шемахе, Кубинский район, Джеват, Кусары, Ланкон, Нахиджеван, а также… Сюник, Арцах, Ереван. В данном списке (а также в следующем абзаце) мы лишь исправили использованные президентом Азербайджана искаженные на тюркский лад топонимы. Кстати говоря, даже название лезгинского города Куба в Азербайджане теперь официально предписано писать искаженно – Губа. Тюркизировав поселения, ныне пребывающие в составе Азербайджанской республики, Ильхам Алиев, в очередной раз возвеличив своего отца–преступника и восславив подлого ночного убийцу Р. Сафарова, вновь озвучил угрозы в адрес армянского народа и армянских государств: «Наступит день, если нормы международного права не будут восстановлены, и Армения будет продолжать свою захватническую политику, наша армия скажет свое окончательное слово. Сегодня у нас есть сила для того, чтобы сделать это», «Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена полностью, в Шуши и Степанакерте должен быть поднят государственный флаг Азербайджана, и в будущем азербайджанцы должны жить на всех своих исторических землях. Наши исторические земли – это Ереван, Севан, Сюник. Наступит время, мы будем жить и там. Я верю в это, уверен в этом». Читая эти строки, невольно проникаешься сомнением в происхождении президента Азербайджана: то ли он сын Гейдара Алиева, то ли Мырыг Музаффара? Внешне он напоминает спрятавшегося в Нахиджеване от фронтов Великой Отечественной войны дезертира Гейдара Алиева, а умом не отличается от описанных Акрамом Айлисли и напоминающих больную овцу потомков Мырыг Музаффара. Думается, Ильхам Алиев может гордиться двумя отцами: будучи биологическим сыном Гейдара, он унаследовал умственные способности Мырыг Музаффара. В самом деле: насколько надо быть умственно ущербным, чтобы слать угрозы в адрес Армии, лишь малая часть которой разгромила вооруженные силы «общенационального вожака» Азербайджана? Английский писатель Р. Стивенсон дал совет всему человечеству: «Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других». Неужели Гейдар Алиев не объяснил своему непутевому отпрыску, что нельзя кидаться ракетами, сидя на бочке с горючим? Впрочем, педагогика утверждает, что восполнить пробел в воспитании никогда не поздно. Даже при выраженном инфантилизме взрослого на вид человека, не способного адаптироваться к реалиям жизни. Методика, правда, при этом применяется жесткая и твердая. Та самая, в применении которой Армянской Армии нет равных в регионе.
-
Право на жизнь имеет только аскер, идущий к нам с белым флагом в руках Интервью агентству Times.am Левон Грантович, поздравляю вас с Праздником независимости. Я сегодня весь день звонил вам, но вас не было ни в офисе, ни дома. Спасибо, дорогой. Это действительно великий праздник, все значение которого в полной мере осознают наши потомки. Но ты ошибаешься. Я сегодня весь день был Дома. Мы с Пандухтом, а также заместителем командира батальона «Восканапат» Hayots-ем, моим сыном и внуками разъезжали по Армении. Были в Ахцке, у усыпальницы армянских царей династии Аршакуни, заехали в чудесную церковь святой Богородицы в селе Техер, затем поехали к величественной крепости-замку княжеского рода Пахлавуни – Амберд. А ты говоришь, меня не было дома. Кстати говоря, у меня приятная новость: наш Hayots - заместитель командира батальона «Восканапат» - репатриировался в Армению. Я считаю это очередным успехом Восканапата. Наш батальон в Армении растет, и это не может не радовать. Такие, как Hayots – молодые, грамотные, преданные стране и народу – нужны своему народу и своей стране. Это действительно приятная новость. А ваша поездка, наверное, носила ознакомительный характер, поближе познакомиться с Hayots-ем? Ну, о чем ты говоришь? Я нашего замкомбата знаю достаточно давно, и очень верю в него и ему, иначе он не был бы назначен на эту ответственную должность. Просто мне было приятно провести время с единомышленниками и соратниками, отметить с ними наш национальный праздник. И внуков не случайно захватил с нами: пусть приобщаются. Впрочем, надеюсь, Пандухт напишет о нашей поездке. Будем с нетерпением ждать. А пока у меня не слишком веселые новости, то есть вопросы, которые я хочу вам задать. Азербайджанский обозреватель считает, что сильные мира сего - США, Россия, Англия, Франция и др., не позволят Армянской армии, в случае агрессии Азербайджана, нанести удар по нефтегазовым структурам этой республики. Насколько это мнение обоснованно? (Смеется). И кто этот умница, что испортил тебе настроение? Впрочем, кто бы это ни был, он бредит, вернее, излагает свои бредовые надежды. Я считаю, что не только в случае агрессии, но и в случае скопления аскерни у границ армянских государств, Армянская армия обязательно нанесет (обязана нанести) превентивный удар. И не только по скоплениям войск врага, но и по тем самым нефтегазовым структурам, которые, как считают в Баку, находятся под зонтиком «сильных мира сего». И по месторождениям тоже, или только по трубам? Только по месторождениям. Трубы как раз трогать не имеет смысла. Во-первых, их можно быстро восстановить. Во-вторых, в случае агрессии Азербайджана, эти трубы в скором времени окажутся на нашей территории и будут служить нам, следовательно, и восстанавливать придется нам. Так зачем портить то, что будет служить нам? А уничтожить к алиевской бабушке месторождения мы будем просто обязаны. Это лишит Азербайджан возможности экспортировать энергоресурсы и зарабатывать деньги, которые будут использованы для приобретения оружия. Мы просто не имеем права позволить им это. Кроме того, уничтожение нефтегазовых месторождений приведет к массовому бегству населения Баку, а, как ты знаешь, Азербайджан – это уродливый головастик с хилым тельцем. К каким последствиям это приведет, пусть думает Ильхам Алиев. А как же Англия, США, Россия, одним словом государства, кровно заинтересованные в каспийской нефти? Начнем с того, что у России совершенно иные кровные интересы. Что же касается остальных стран, то именно потому, что они по настоящему заинтересованы в каспийской нефти, эти месторождения можно и нужно уничтожить. Или ты считаешь, что мы потом будем тушить пожары и восстанавливать месторождения? Пусть это делают те, кто «кровно заинтересован» в них, и тем раньше, чем больше они заинтересованы в поставках углеводородов. Скажу также, что их восстановление будет выгодно и нам: транзит энергоресурсов по территории государства – достаточно рентабельная штука, не говоря уже о политических дивидендах. А агрессия Азербайджана неминуемо приведет к восстановлению наших исторических границ на востоке, следовательно, под нашим контролем окажутся все значимые трубопроводы, как ныне действующие, так и проектируемые. Уверяю, указанным «сильным мира сего» намного выгоднее будет восстановить разрушенное, чем ссориться с нами. Другой азербайджанский журналист считает, что армяне должны лишиться сна при виде политической карты региона, мол, вокруг Армении существует кольцо из враждебно настроенных государств. (Смеется). Севак джан, имеет ли смысл в этот праздничный вечер рассказывать о писанинах умственно ограниченных существ? Хотя, скажу тебе, меня восхищает умение закавказских турок проецировать собственные ущербные чувства на других. Я не имею ничего против, пусть они радуются при виде карты: радуются тому, что их «общенациональный вождь» сумел вымолить у нас в 1994 году соглашение о прекращении огня, предотвратив тем самым (а, скорее, оттянув во времени) уничтожение преступного образования под названием «Азербайджан». У них действительно есть повод для радости. Совершили агрессию и остались живы, пожертвовав всего лишь 37 с половиной тысяч аскеров. У меня, как у подавляющего большинства армян, современная политическая карта нашего региона вызывает смесь гордости и досады. Гордости за армянского Воина, сумевшего отразить агрессию намного более многочисленного и хорошо вооруженного врага, и досады за не доведенное до логического конца дело. Если честно, я ждал такого ответа, так как данный «юмор» закавказских турок выглядит уж очень оригинально. Плакаться на весь мир об утраченных «двадцати процентах» и пугать нас изменившейся картой региона, до этого надо додуматься. Да, талантливые племена, ничего не скажешь. Вот, например, общеизвестный факт: Азербайджан совершил агрессию против Республики Арцах и проиграл. Но что делает бакинская пропаганда? За пределами республики она плачет о «потерянных» районах, а во внутренней пропаганде преподносит итоги собственной агрессии как отложенную победу. Предавая забвению слезные мольбы Гейдара Алиева о перемирии, мудро рассудившего, что продолжение войны приведет к уничтожению Азербайджана, Баку пытается преподнести это соглашение как следствие собственного миролюбия. И это несмотря на множество опубликованных документов, свидетельствующих об обратном. На открытии мемориального комплекса в Кубе президент Азербайджана выступил с речью, в которой сказал, цитирую: «Я вспоминаю, сколько необоснованных обвинений прозвучало против меня за возвращение и освобождение азербайджанского офицера – Рамиля Сафарова, сколько нападок совершили на меня лицемерные зарубежные политики. Европарламент даже принял резолюцию по этому вопросу и осудил мои шаги. Но я и сегодня могу с полной решимостью сказать, что Азербайджан возвратил на родину, освободил своего офицера и восстановил справедливость. Но посмотрите, сколько необоснованных нападок было против Азербайджана за это в мировой прессе и различных международных организациях. Разумеется, эти нападки не могли иметь никакого влияния. Так как никакая сила не может повлиять на волю, решения Азербайджанского государства. Мы восстановили справедливость и не отступим от своей политики и впредь». Как вы считаете, что это может означать? Я вначале скажу пару слов о самом этом комплексе. Массовые захоронения в Кубе были «обнаружены» 11 апреля 2007 года, сразу после указа Ильхама Алиева, требовавшего от ученых выявить факты «геноцида азербайджанцев». Уже 13 апреля директор Института археологии и этнографии НАН АР Маиса Рагимова заявила, что «антропологические исследования подтвердили, что эти люди – мусульмане». Не будем смеяться над ученой дамой, определяющей религию по антропологии, она имела в виду закавказских турок – «азербайджанцев», использующих самоназвание «мусульмане». Важно другое: захоронения были «обнаружены» спустя месяц после указа Ильхама Алиева, а еще через два дня было «доказано», что эти люди – «антропологические мусульмане» и определены те, кто их убил – армяне. Я достаточно много писал об этой преступной лжи Азербайджана, напоминал о том, что 3 августа 1918 года Кубу захватили совместные силы турецкой Кавказской исламской армии под командованием Нури и бандитских формирований закавказских турок, и о массовых казнях местных жителей. Писал и о том, что захороненные там люди, скорее всего, лезгины. Профессор Левон Епископосян, генетик антрополог, доктор биологических наук, руководитель группы генетики человека Института молекулярной биологии Национальной Академии Наук Армении, дважды обращался к президенту Академии наук Азербайджана с предложением принять участие в генетическом анализе останков людей, но ответа так и не получил. Более того, эти анализы никем не были проведены. Зато из Баку громко звучат голословные утверждения: убитые – закавказские турки, убийцы – армяне. И это при том, что в то время закавказские турки - будущие «азербайджанцы» в Кубе не жили, а причина смерти захороненных там людей до сих пор не определена. Я убежден, что в Баку прекрасно знают о том, что там захоронены не закавказские турки. Свидетельством сказанному является отношение власти в Азербайджана к комплексу, в перерывах между официальными визитами разных делегаций представляющему собой место для выгуливания домашней скотины. А что вы скажете об освобождении Рамиля Сафарова, что, согласно Ильхаму Алиеву, стало «восстановлением справедливости»? Рамиль Сафаров убил на курсах НАТО в Венгрии молодого армянского офицера Гургена Маркаряна, убил подло, зарубив его, спящего, топором. Венгерский суд приговорил Сафарова к пожизненному заключению, однако спустя 8 лет Азербайджан его просто выкупил. Выкупил, освободил и наградил. Его повысили в звании (был старшим лейтенантом, стал майором), выплатили зарплату за все годы пребывания в тюрьме и наградили квартирой в новом элитном доме в центре Баку. Все это неоспоримо указывает на то, что он выполнял задание, которое могло исходить только от президента Азербайджана. Повышение в звании, зарплата и так далее, все это является откровенной демонстрацией того, что Сафаров все эти годы числился в ВС Азербайджана, а награждение квартирой – поощрение за выполненное задание. Ильхам Алиев открыто поощрил подлое убийство, и вывод из всего этого может быть один: любой человек в форме азербайджанского аскера может получить такое задание, а, значит, любой аскер подлежит уничтожению. Везде: на границе, в Баку, в любой стране мира. Мы не должны уповать на осуждающие резолюции Европарламента или других международных структур. С президента Азербайджана эти резолюции - что с гуся вода. Есть только один способ лишить Ильхама Алиева возможности «восстанавливать справедливость» – уничтожать аскеров. Повторяю: любого и везде. Ибо каждый из них является потенциальным убийцей армянина. А ответственность за это целиком и полностью ложится на президента Азербайджана Ильхама Алиева. Нам надо четко осознать: право на жизнь имеет только тот аскер, кто идет к нам с белым флагом в руках. Беседовал Севак Мокаци
-
Митинг в Баку. «Выбери правду, скажи «нет» вору» Вор - это, понятно, Ильхам Алиев. Правда, в данном случае, многолика. Это и башкан (глава) партии Мусават Иса Гамбар, и председатель партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, и бывший министр внутренних дел, доминантный альфа-самец, глава (вожак) азербайджанских серых волков Искандер Гамидов и другие. Правда - это около сотни представителей разгромленного властью молодежного движения NIDA. Они пришли с южноафриканскими вувузелами, подняв невероятный шум. Наконец, главная правда - это историк Джамиль Гасанлы, «второй единый» кандидат в президенты Азербайджана от оппозиционного Национального Совета Демократических Сил (НСДС). Напомним, «первый единый» - кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков, так и не набравшийся мужества прибыть в Азербайджан. Вся эта пестрая компания собралась на официально разрешенный предвыборный митинг Джамиля Гасанлы, который состоялся 22 сентября на стадионе спортивного комплекса «Мехсул» Ясамальского района Баку. Допуск на митинг был своеобразным, людей пропускали через металлоискатель, после чего подвергали еще и унизительному индивидуальному обыску: Ильхам Алиев не отступил от своего правила издеваться над жителями республики. С другой стороны, если отара молчит, пастух становится диктатором. Чего же хотели организаторы митинга? Вроде бы считается, добиться победы Джамиля Гасанлы на предстоящих 9 октября президентских выборах. Однако понятно, что этого не будет. Власть в Азербайджане пока обладает достаточными ресурсами, в первую очередь, силовыми, чтобы подавить любое оппозиционное движение. А в большинстве районов этой республики про Гасанлы даже и не слышали. Скандальные теледебаты кандидатов в президенты, собирающую немалую телевизионную аудиторию, в районах не видят из-за регулярных отключений света. Поэтому разоблачения Джамиля Гасанлы, касающиеся скандально-преступной деятельности действующего президента Азербайджана и членов его семьи, не доходят до жителей Азербайджана. При этом трудно сказать, хорошо это или плохо? Азербайджанская оппозиция слабо знакома с менталитетом закавказских турок, которых сведения о многомиллиардных хищениях семейки Алиева не возмущают и ужасают, а… искренне восхищают. Они ненавидят Ильхама Алиева не за грабеж республики, а за свое бесправное нищенское существование, и не способны связать в единую логическую цепочку два этих явления. Плохо знает менталитет закавказских турок и Ильхам Алиев, в противном случае не мешал бы так рьяно проведению митингов. Так, в тот же день, 22 сентября, в городе Агстафа (Агстев) власть разогнала митинг предвыборной агитации лидера партии «Умид» Игбала Агазаде, у которого нет никаких шансов получить хотя один процент голосов избирателей. Но вернемся в Баку на митинг объединенной оппозиции, собравший на стадионе примерно 10 тысяч прошедших личный досмотр участников. Туда, кстати, не допускали несовершеннолетних. Неизвестно, каким образом полиция определяла возраст митингующих, видимо, отныне на митинги необходимо будет приходить с паспортами в карманах, что даст карательным органам дополнительную возможность расширить список неблагонадежных и нелояльных к власти граждан. Интересно также, какие обещания раздавали ораторы. Ведущий митинга – председатель меджлиса ПНФА Шаин Керимов первым дал слово лидеру своей партии Али Керимли. Последний выразил уверенность, что на этот раз оппозиция в Азербайджане обязательно победит, и эта победа будет связана с именем Джамиля Гасанлы, после чего призвал всех жителей республики отдать свои голоса «второму единому» кандидату НСДС. Адвокат и общественный деятель Аслан Исмайлов рассказал митингующим, что на парламентских выборах 2010 года власть украла его голоса. А. Исмайлов добрался до Страсбургского суда, перед которым сейчас Азербайджан пытается оправдаться. Показав, таким образом, лицо азербайджанской власти, он закончил призывом голосовать за Джамиля Гасанлы. Искандер Гамидов, в бытность министром внутренних дел Азербайджана хваставший по телевидению, что у него в плену находятся армянские девочки трех и пяти лет, отозвался нелицеприятно о нынешних представителях власти, в том числе о заместителе исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуше Новрузове, и потребовал их отставки. Слегка отстранившись от темы, приведем скорый ответ С. Новрузова: «Искандер Гамидов, в свое время называвший Ису Гамбара еврейским шпионом, стоял с ним рядом плечом к плечу. Искандер Гамидов, называвший Али Керимли дезертиром, пришел и стоял рядом с ним. Вся семья Искандера Гамидова воровала скот, и пусть он скажет общественности, от какой скотины он появился на свет». Признаемся, ответ на вопрос интересен и нам. Иса Гамбар, главный мусаватист Азербайджана, обнадежил собравшихся, заявив, что власти слабеют с каждым днем, и в этом году страна будет праздновать победу Джамиля Гасанлы. В своем выступлении он также подчеркнул, что после победы Джамиля Гасанлы на свободу выйдет арестованный экс-министр здравоохранения Али Инсанов, ныне шлющий из мест заключения слова поддержки «второго единого» кандидата в Президенты Азербайджана. Наконец, на арену вышел сам кандидат. Толпа немедленно стала скандировать «Джамиль бей геледжек, зулум битечек» (Придет Джамиль бек – несчастья (страдания) исчезнут». Кандидат, не мешкая, стал искоренять несчастья. Вот фразы из его выступления: «Мы разрушили их (власти – Л. М.-Ш.) 10-летний миф о неуязвимости за 10 минут», «За 20 лет они не освободили даже 20 метров Карабаха. Коррупционеры не могут освободить Карабах. Они используют Карабах, чтобы остаться у власти!». Слышать о Карабахе толпе было неинтересно. И тогда «Джамиль бей» вновь стал рассказывать о коррумпированном настоящем Азербайджана, о том, как австрийская прокуратура, искавшая деньги Башара Асада, обнаружила скрытые финансы Ильхама Алиева, и о светлом будущем закавказских турок в случае его победы. Он также передал пламенный привет всем политзаключенным, пообещав освободить их сразу после своей победы. Это было интересно. Закавказские турки любят считать чужие деньги и мечтать в чайханах или на митингах о светлом будущем. На этой оптимистичной ноте была принята резолюция митинга, в которой были изложены требования к власти: 1. Обеспечить места для проведения встреч с кандидатами в регионах и в столице; 2. Выпустить на свободу политзаключенных и узников совести; 3. Прекратить использование административных ресурсов во время выборов. Пока, как видим, ничего нового. Мы просто получили возможность в очередной раз убедиться, что в Азербайджане одни враги армянского народа борются за власть с другими врагами. А сколько они воруют друг у друга, нас просто не должно интересовать.
-
Любить Родину и служить Государству Независимость страны – высочайшая ценность ее граждан. Избитая, но, к сожалению, не прижившаяся пока в Армении истина. 22 года назад армянский народ отдал на референдуме свой голос за независимость нашей страны. Убежден, в те дни многие граждане Армении не совсем ясно представляли себе значение этого понятия. Предположу, сегодня, 22 года спустя, мы еще не вполне осознали значимость этого решения. В праздничные дни принято поздравлять, я же хочу немного порассуждать на тему независимости армянских государств. Предполагаю, что после этого в мою сторону полетят увесистые булыжники, но предлагаю быть искренними c самим собой. Как советует армянская пословица: положим рядом с собой папаху и задумаемся. Пусть даже в праздничный день. Будем искренни: независимость Республики Армении созревала вместе с агонией Советского Союза и, в конце концов, пала к нашим ногам. Мы за нее не воевали, не лезли на баррикады, не проливали кровь, и лишь когда настало время, заявили о своем желании. Повторюсь, не вполне сознавая, что это значит, и какую ответственность налагает на нас. В Республике Арцах все было иначе. В Арцахе независимость действительно завоевывалась в ожесточенной борьбе и большой кровью, арцахцы шли к ней осознанно, справедливо видя в независимости путь к свободе и воссоединению с «материковой» Арменией. Независимость Республики Арцах была воспринята ее гражданами как всенародная победа, независимость Республики Армения по-настоящему праздновала лишь национально ориентированная интеллигенция, а другой интеллигенции и быть не может. Для объяснения этой разницы в восприятии можно рассуждать долго: приводить доводы из истории, вспомнить полунезависимые меликства Сюника, Арцаха и Утика, цитировать и приводить примеры из истории армянского народа. Но наш разговор о сегодняшнем дне. Смею утверждать, что армянский народ патриотичен, но… пока не обладает государственным мышлением. Мы готовы воевать за Родину, проливать за нее кровь, защитить ее от любого агрессора и… продолжать относиться к своему государству с большой долей скептицизма, если не сказать пренебрежения. Несколько лет назад выступал по телевизору один из армянских министров, ныне уже лишенный своей должности. Доказывая свою точку зрения, он произнес фразу, в которой трудно не заметить несерьезное, мягко говоря, отношение к собственному государству: «Все государства мира, как и наша республика…». В слово «hАнрапетутюн» - «Республика» этот человек невольно, на подсознательном уровне, вкладывал значение «мАнра – Петутюн». Вряд ли ему пришло бы в голову назвать, например, Францию или Италию просто республикой в том значении, которое он подсознательно вкладывал в нашу Республику. У меня сложилось впечатление, что этот человек даже не догадывается, что республика – это форма государственного правления, в его подсознании Армения осталась одной из республик Советского Союза. Армения обладает всеми признаками суверенного государства: верховенством закона, наличием определенной государственными границами территории, правом решающего голоса в межгосударственных институтах, монополией на легитимное насилие, правом сбора налогов, публичным характером власти, наличием государственной символики и так далее. Есть все, кроме… осознанного восприятия населением независимости нашей страны. И вновь можно пофилософствовать на эту тему: вспомнить историю, обратить внимание на цивилизационное воззрение народа (у кочевых племен никогда не было более или менее развитого чувства Родины, но государство, то есть организацию, они чтили всегда) и так далее. Но факт остается фактом: мы бесконечно преданы Родине и пока не научились любить свое государство. Для многих граждан Армении государство ассоциируется с мелкими и не очень чиновниками, которых мы не любили со времен пребывания нашей Родины в пределах чужих государств. Тогда мы находили выход в ублажении всяких каймакамов, сегодня мы стремимся решить свои проблемы с «государством» посредством ублажения чиновников. То есть мы сами подпитываем коррупцию и взяточничество, сами взращиваем всеядного монстра, после чего ругаем государство. Примеры приводить не буду, каждый из нас может сделать это. Подобное отношение к государству подрывает его устои, ослабляет его, ограничивает возможности как граждан, так и самого государства, способствует поднятию со дна человеческой мути, искажает назначение самого государства и, в конце концов, ввергает в отчаяние слабых. Мы своим поведением подтверждаем ложный тезис Карла Маркса, утверждавшего, что «государство – частная собственность бюрократии». Нам жизненно необходимо изжить стереотип отождествления чиновника–бюрократа с государством. В противном случае мы будем вечно обречены на слепое копирование чужого государственного устройства, прекрасно при этом понимая, что копия – всегда хуже оригинала. Государство должно отражать цивилизационное мировоззрение населяющего его народа. Нет и не может быть универсальных рецептов построения государства, как нет и не может быть универсальной демократии. Мы же, именно в силу недостаточного понимания значения государства, пытаемся копировать чужое, привить нам самим чуждые ценности. Выдающийся философ раннего Средневековья и отец армянской историографии Мовсес Хоренаци доказывал, что сам Бог наделил армянский народ правом (добавлю от себя: и обязанностью) иметь свое государство. Сегодня армянские государства занимают всего лишь одну десятую территории Страны Армянской. Повторю еще раз: армяне – выдающиеся патриоты Родины. Но можем ли мы, при таком отношении к существующему государству, надеяться, что когда-нибудь границы нашего государства совпадут с границами нашей Страны? Великая сила армянского народа – патриотизм, но неправильно воспринимать его исключительно как готовность с честью защитить Родину. Патриотизм - это еще и готовность служить Родине в мирное время, по крупице, камень за камнем строить здание своего государства. Родина – превыше всего, государство – ее щит. А мы все должны быть щитоносцами. Мы все ответственны не только за нашу безопасность, но и за нашу культуру, нашу экономику, наше настоящее и будущее. Мы все ответственны за наши взаимоотношения друг с другом, на улицах и площадях армянских государств, в семьях и рабочих коллективах, в транспорте и на улице. Мне часто приходится повторять, что наиболее сложившейся структурой в армянских государствах является Армия. Это – отражение нашей любви к Родине. Но мощь и значение государства определяется не только его армией: она заключается в его экономике, науке, культуре, да и просто в человеческих взаимоотношениях. А это все исходит из понимания значимости государства. Наша Армия использует ресурсы нашей любви к Родине, но мы не сможем постоянно наращивать мощь нашей Армии, если не будем развивать науку, культуру, экономику, если продолжим перенимать чужое и наносное. Я не верю в патриотизм ученого, выполняющего заказы чужих государств. Не верю в патриотизм отца, отдавшего дочь в школу «танцев живота». Не верю в патриотизм молодого парня, ходящего, словно бычок на заклание, с кольцом в носу. У нас есть свое государство. В отличие от многих других, наше государство построено на нашей Родине. И мы все обязаны совместить нашу любовь к Родине с нашим почитанием армянских государств. Любить Родину и служить Государству! Только так мы можем обеспечить последовательное развитие нашей страны, можем быть убеждены в безопасности наших государств, только в этом случае мы будем иметь право спокойно смотреть в будущее. Наконец, только любовь к Родине с почитанием государства даст нам право и возможность стремиться к полному совмещению понятий Страна Армянская – Государство Армянское. С праздником, дорогие друзья! Со светлым праздником независимости Армении!
-
Знаменем азербайджанской аскерни являются изодранные трусы Сафара Абиева Интервью руководителя портала Voskanapat.info Левона МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯНА агентству Times.am Левон Грантович, в последнее время азербайджанские СМИ буквально пестрят грязными оскорблениями в ваш адрес. Вы читаете эти опусы? Далеко не всегда, и почти никогда до конца. Хотя авторы этих писулек находят особенное удовольствие в том, чтобы отправить мне ссылки по обратному адресу сайта Voskanapat.info. Хобби, наверное, у них такое: убедиться, что брань дошла до адресата. А с чем, по-вашему, связан этот взрывной интерес к вам? Это – от бессилия. Азербайджан проигрывает армянским государствам по всем линиям противостояния: в строительстве армии, внешней и внутренней политике… Пожалуй, лишь экономика этого образования, практически целиком держащаяся на продаже энергоресурсов, превосходит армянскую, но и это, судя по статистике, явление временное. О том, что недра Азербайджана истощаются, ныне не говорит разве что ленивый. В Баку видят свои неудачи, некоторые даже понимают их истоки, вот их и развозит на почве бессильного отчаяния. А Восканапат, как вы знаете, находится на передовой линии идеологического противостояния с Азербайджаном. Что может в такой ситуации предпринять слабое существо? Правильно, ругаться. Что они и делают уже много лет. Я понимаю, когда речь идет о строительстве армии. Ни один здравомыслящий человек не сомневается в том, что по уровню боевой подготовки Армянская армия на порядок опережает вооруженные силы Азербайджана. Но, простите, как можно проигрывать или выигрывать во внешней и, тем более, внутренней политике? Что касается внутренней политики, то достаточно лишь перечислить стоящие перед Азербайджаном проблемы. Это массовые нарушения прав человека, диктатура двух десятков кланов, нищета в провинциях, огромная миграция, всепроникающая коррупция и, наиболее опасное для существования этого образования явление: всемерная дискриминация прав автохтонных народов республики. Не буду сейчас рассказывать о методах и приемах этой дискриминации, она достаточно часто и подробно описывается на страницах Voskanapat.info. Скажу о другом: часть проблем внутренней политики Азербайджана не может быть решена без того, чтобы клан Алиевых не был вынужден отдать власть. А это означает, что эти проблемы в среднесрочной перспективе просто не будут решаться. Что касается проблемы автохтонных народов Азербайджана. В Баку прекрасно понимают, любая уступка требованиям автохтонных народов приведет к новым требованиям, а игнорирование этих проблем чревато массовыми протестными выступлениями и национально-освободительной борьбой. Знают в Баку и то, что международное право не ограничивает борющийся народ в способах этой борьбы: это могут быть сборы подписей, письма в высшие инстанции, собрания, митинги, забастовки, а может быть и вооруженное восстание. Все эти формы национально-освободительной борьбы легализованы международным правом. А по части внешней политики? Здесь все еще веселее. Азербайджан до сих пор не отошел от шока 3 сентября, когда президент Армении Серж Саргсян заявил о желании Армении войти в Таможенный союз и принять участие в формировании Евразийского союза. До этой даты в Азербайджане уже довольно потирали руки и обсуждали проблемы, которые возникнут перед Арменией в случае ухудшения отношений с Россией. Строили планы, возможно, готовились занять, сколь бы странно это ни звучало, место Армении в российско-армянском стратегическом союзничестве. И вдруг – ушат холодной воды. Раньше всех во всем этом разобрался Расим Агаев – достаточно вдумчивый азербайджанский политолог с советским дипломатическим прошлым. «Армения несколько месяцев пускала дымовую завесу, введя Азербайджан в заблуждение», - примерно такими словами описал он сложившуюся ситуацию. Потом пошли другие аналитические статьи, в которых рефреном звучала мысль: отныне Азербайджан не может даже во сне видеть Арцах. А некоторые, не блещущие интеллектом азербайджанские журналисты просто перешли на откровенную бессильную брань, что также является признаком осознания поражения Азербайджана. Кстати, на подобную низкопробную брань сподобился даже президент этого образования – Ильхам Алиев. Я думаю, во властных коридорах Армении к этому относятся столь же пренебрежительно, как и в Восканапате. Не лучше обстоят дела и на западном направлении политики Азербайджана. Баку сегодня может поддерживать отношения только со слабыми в экономическом плане европейскими странами, то есть теми, кого можно купить, как, например, Венгрию. Что же касается сильных стран, таких, как Германия, Великобритания, Франция, Италия и так далее, то они смотрят на Азербайджан (если вообще смотрят) как на дойного скомороха, которого стыдно назвать партнером. Азербайджан превращается в изгоя, и в Баку это чувствуют на уровне инстинкта. На уровне инстинкта же – реакция Азербайджана, брань слабосильного злобного мопса. Но ведь оскорбления носят личностный характер. В недавней заметке, например, редакция азербайджанского издания прямо оскорбила и министра обороны Армении и вас. Как вы к этому относитесь? Побойся Бога, Севак! Как может трусливое существо оскорбить боевого генерала? Разве муха, назойливо садящаяся нам на руку, оскорбляет нас? Убогие существа назвали Сейрана Оганяна хромым, и решили, что оскорбили армянского генерала. Это же смешно. Если завтра случится война, то эти самые существа будут призваны под командование бежавшего в одних подштанниках Сафара Абиева, над которым смеются далеко не только армяне. А армянскими воинами будет командовать боевой генерал-полковник, не раз колотивший аскерню на поле боя. Есть в иранском языке слово «джанбаз». Это – целое понятие. Джанбазом называют человека, получившего ранение на поля боя, героя – оставившего на родной (именно родной) земле часть своего организма, пролившего кровь за свободу Родины. К джанбазам в Иране относятся с огромным уважением. С таким же уважением относится армянский народ к своим героям. Закавказским туркам, пословица которых гласит, что «геройство на девять десятых состоит из умения убежать», этого просто не понять. Хромота Сейрана Оганяна, получившего тяжелое ранение во время агрессии Азербайджана на Республику Арцах – знамя в душе каждого армянского Воина. Таким же знаменем в душах азербайджанской аскерни являются изодранные трусы Сафара Абиева, в которых он бежал из Бердзора. Кстати говоря, я несколько лет назад писал об этом, но старый Восканапат не сохранился, поэтому я попрошу, чтобы та статья–реплика была перепечатана на наших страницах. Это написанная об Эльдаре Сабироглу статья «Чушка в погонах»? Это о чушках – закавказских турках – в погонах или без них. Это – о мировоззрении трусливых существ. Сабироглу просто на виду и, как и редакция упомянутого тобой издательства, отражает менталитет своих племен. А оскорбления в ваш адрес? Мне, что, вновь напомнить о мухах? (Смеется) Наша редакция ежедневно получает из Азербайджана десятки писем, в которых просто одна ругань. Ни одного аргумента, сплошной мат. Эти письма – подтверждение нашей правоты, ибо показывает бессилие их авторов перед фактами. Примерно на таком же уровне пишут обо мне азербайджанские «профессиональные» авторы. В самом деле, что может написать обо мне тот же А. Синицын - главный эксперт Американо-азербайджанского Фонда содействия прогрессу (одно название фонда чего стоит?), человек, которого Восканапат поймал за руку во время воровства? Он должен или покаяться в совершенном преступлении, или… ругаться. Все зависит от воспитания. Так же и другие, имена которых вызывают у меня неистребимое чувство брезгливости. Например, завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов, являвшийся главарем этой воровской шайки. А Ильхам Алиев? Вы не считаете, что это именно он задает тон во всем этом? Не далее как вчера, находясь в лезгинском городе Куба, он вновь обрушился с бранью на армянский народ и руководство армянских государств… Ильхам Алиев – клоун, нанятый для удовлетворения этнических инстинктов закавказских турок – «азербайджанцев». Он не стоит нашего с тобой времени. Беседу вел Севак Мокаци
-
Три хвоста одной собаки Всю первую декаду сентября мир провел в ожидании ракетного удара США по Сирии. «Обедню» испортила Россия, выступившая с предложением о передаче контроля над химическим оружием Сирии международным силам. США вынуждены были согласиться, особенно после того, как с предложением России согласилась сама Сирия. Ожидания катастрофы несколько снизились, но не исчезли: из Вашингтона продолжают звучать воинственные заявления, обставленные новыми условиями. Лично у меня нет никаких сомнений: Барак Обама отнюдь не горит желанием ввязаться в новую войну. И дело не только в убеждениях президента США. Проблема еще и в непредсказуемости итогов войн Америки, и в громадных затратах, тяжким бременем ложащихся даже на могучую экономику США. Кто может сегодня с уверенностью сказать, что США победили в Ираке, Ливии, или Афганистане? Пожалуй, единственная цель, уничтоженная Вашингтоном военным путем за последние два с лишним десятилетия, это – Югославия. Все остальные «победы» Америки – из серии нарисованных на бумаге. Но с тяжелейшими экономическими последствиями. Государственный долг США ежемесячно бьет новые исторические рекорды, а вторжение в Сирию, с сомнительным, кстати, исходом, обойдется американской казне во многие миллиарды долларов. Так что же заставляет Вашингтон бряцать оружием? Некоторое время назад маленькая, но чрезвычайно богатая и амбициозная арабская монархия – Катар – заявила, что готова профинансировать вторжение в Сирию любой коалиции, и в любой конфигурации. Тогда на это предложение мало кто обратил внимание, хотя оно фактически снимало один из важнейших барьеров на пути к агрессии против Сирии. Вскоре, однако, США вернулись к этому вопросу. Как сообщил «Вашингтон пост», на слушаниях в Конгрессе 5 сентября государственный секретарь США Джон Керри сообщил конгрессменам, что арабские страны готовы взять на себя расходы Америки на военное вторжение в Сирию. «Что касается арабских стран, которые предложили взять на себя расходы и оказать помощь, ответ – да, действительно было. Это предложение рассматривается». Поведав об этом предложении, Керри, расчувствовавшись, чуть не пустил слезу: «Вот как они преданы нам». Керри благоразумно не назвал «арабские страны», готовые нанять Америку, зато ответил на вопрос представляющую Республиканскую партию конгрессмена Илеаны Рос-Лехтинен, поинтересовавшейся, сколько именно средств готовы вложить арабские страны? «Они предложили полностью оплатить вторжение в Сирию», - ответил госсекретарь США. В описываемом выступлении Д. Керри была еще одна заслуживающая пристального внимания фраза, касающегося финансового покрытия «арабскими странами» вторжения в Сирию. «Фактически некоторые из них заявили, что если США готовы начать действовать таким же образом, как мы это делали в прошлом в других местах, они берут расходы на себя». «Действовать таким же образом, как в прошлом в других местах» - это вторжение сухопутных войск, как это имело место в Ираке и Афганистане. Другой расшифровки этой фразы нет. То есть «арабские страны» готовы нанять американские войска, да и саму Америку, для ведения боевых действий, а в Вашингтоне «это предложение рассматривается». «Мировая сверхдержава» готова, или, как минимум, обсуждает возможность превращения в наемного убийцу, пособника одиозных режимов. Кто же эти «арабские страны»? Безусловно, Катар, уже заявивший во всеуслышание о готовности оплатить агрессию против Сирии, а также Саудовская Аравия, в чем никто не сомневается. Наконец, третьей «арабской страной» является Турция. Известный российский политолог, директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, категорично утверждает: «Конфликт лоббируют Турция, Катар и Саудовская Аравия», - однако видит в этом лоббировании в основном религиозные мотивы, хотя не исключает и экономическую подоплеку. Религия и в самом деле имеет огромное значение в процессах на Ближнем Востоке, и Сатановский, безусловно, прав, когда утверждает, что это – «часть большой войны суннитов и шиитов». Уточним, часть большой войны суннитов против Ирана – неоспоримого лидера шиитского мира. Однако у каждого из перечисленных государств – потенциальных спонсоров американской агрессии – есть и свои личные интересы. Так, если маленький Катар и огромная Саудовская Аравия со сравнительно небольшим населением (примерно 27 миллионов человек) стремятся к лидерству в арабском мире, то Турция желает возродить былое лидерство в суннитском мире – политика неоосманизма. При этом все три государства надеются на получение колоссальных экономических дивидендов от агрессии против Сирии и свержения Башара Асада. За последние два десятилетия Катар из нищего государства с занятым рыболовством кочевым бедуинским населением превратился в мощного регионального игрока с уже мировыми амбициями. В стране было модернизировано абсолютно все: от быта до армии. Этому способствовало небывалое развитие экономики: в ХХI веке экономика Катар росла самыми быстрыми темпами в мире. Катар занял лидирующие позиции в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиге арабских государств, получив от них юридическое разрешение на бомбардировку Ливии. Словом, маленькая, территориально меньше Республики Арцах, страна стала одним из силовых центров в арабском мире. Источник «неожиданного» богатства Катара – газ. Уже сегодня около трети потребляемого Евросоюзом сжиженного природного газа поставляется Катаром. И эти цифры, как в абсолютном, так и в процентном отношении, ежегодно растут. Возможности Катара по части поставки газа в Европу велики, но они ограничены отсутствием прямого коридора. Агрессия против Сирии даст Дохе возможность построить газовую трубу через Сирию и Турцию в Европу (сегодня Катар вынужден продавать в основном сжиженный газ), превратившись, таким образом, в соперника России и лишив Иран шансов на преодоление эмбарго по территории Сирии. «Пробитым» коридором в Европу воспользуется и Саудовская Аравия, добавив, таким образом, к своим экономическим амбициям еще и политико-религиозные дивиденды. Саудовская Аравия – крупнейшая страна в мире, в которой государственной религией является суннизм ваххабитского толка. Кстати будет отметить, что Эр-Рияд и Доха – государства, давно и успешно спонсирующие ваххабитские группировки во всем мире. Саудовская Аравия давно воспринимает Сирию в качестве «досадной помехи» не только на пути различных трубопроводов в Европу, но и в религиозной экспансии Эр-Рияда. Исключительно заинтересована в уничтожении Сирии и Турция. Анкара, безусловно, надеется, что падение Башара Асада приведет к построению газопроводной трубы через территорию Турции, что гарантирует ей серьезную и долговременную прибыль, но не это является ее главным интересом. Вторжение, в котором Анкара готовится принять участие, позволит ей а) нарастить свою территорию за счет северных провинций Сирии; б) резко ослабит Иран, практически лишающийся всех шансов преодолеть эмбарго Запада; в) способствует уничтожению курдского массива на территории современной Сирии; г) приведет к власти в Сирии послушное Анкаре суннитское большинство; д) подавит протестные настроения алавитов в самой Турции. Всего перечисленного более чем достаточно, чтобы Турция согласилась не только спонсировать (в меру своих возможностей) возможное вторжение США в Сирию, но и приняла в войне самое непосредственное участие. Отметим также, что Турция готовится устроить для своих аскеров в Сирии «праздник души» - возможность вырезать армянское население этого государства. Интерес «арабских стран», предложивших полностью покрыть расходы США по вторжению в Сирию, хорошо понятен. Но он не объясняет видимое согласие США наняться к ним. Между тем, свои интересы есть и у Вашингтона. Это и существенное ограничение значения российского газа для Европы, и желание охватить Иран смертельными объятиями. Кроме того, «оплачиваемая» война способна помочь испытывающей колоссальные сложности экономике США, ибо в этом случае Америке представляется возможность реализовать огромное количество оружия и боеприпасов. Тем не менее, выгоды США от войны с Сирией представляются мизерными по сравнению с выгодами не названных Керри «арабских стран». Фактически получается, что нанимаясь к Анкаре, Дохе и Эр-Рияду, Вашингтон соглашается играть роль собаки, которой вертят сразу три хвоста.
-
Армения дает возможность ЕС совместить совместимое При тщательном анализе произошедшего, Европа способна увидеть плюсы сложившейся ситуации. Да, соглашение «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли» наверняка не будет подписано в том виде, в котором оно готовилось. Вряд ли сохранит свои первоначальные положения и Соглашение об ассоциации Армении с Европейским Союзом. Но все это не может и не будет означать катастрофы в отношениях Армении с Европой. Я считаю, что сделанное в Москве заявление президента Армении о желании войти в Таможенный союз и принять активное участие в формировании Евразийского Союза, является светом в окошке для Европейского Союза. Все вовлеченные в процесс стороны, способны и должны осознать, что выверенная политика Армении предоставила им возможность совместить то, что изначально было совместимым. Надеюсь, в Европе поймут свои выгоды еще до конца ноября. В этом случае между Арменией и ЕС будут подписаны заранее подготовленные соглашения, которые, скорее всего, претерпят изменения, не касающиеся основных положений сотрудничества между Ереваном и Европой. Впрочем, говорят, что прогноз – штука неблагодарная. Поэтому подождем до конца ноября.
-
Ильхамские школы Всем нам со школьной скамьи известен миф о Потемкинских деревнях. Он зародился после того, как отнятый у турок и присоединенный к России усилиями князя Григория Потемкина Крым посетила в 1787 году императрица Екатерина II. В этой поездке императрицу сопровождал сам князь Потемкин, двор и многочисленные иностранные послы и их приближенные. Миф преследовал две цели: выставить Екатерину II-ую недалекой женщиной, не сумевшей отличить декорации и бутафорию от действительных поселений, а также преподнести Европе Россию как варварскую страну, в которой несчастных крепостных крестьян заставляют петь, плясать и благодарить царицу. В действительности «потемкинские» деревни были выстроены на самом деле, как на самом деле был построен Российский Черноморский флот, который также был объявлен бутафорией. И самым убедительным подтверждением беззаветной службы князя Потемкина является тот бесспорный факт, что и поселения и флот существуют до сегодняшнего дня. Однако само выражение «Потемкинские деревни», к сожалению, до нынешних пор сохранилось в русском языке как синоним показухи и надувательства глупого правителя. Примерно такого, каким является Ильхам Алиев – президент Азербайджана, недавно принимавший участие в открытии новой школы в районном центре Джалилабад. Как пишет сайт veteninfo.az, Ильхама объегорили и оставили в дураках, спрятав от него действительное положение дел со школами в Джалилабаде, в том числе и в районном центре. При этом нам кажется, что роль шута в колпаке с колокольчиками нравится президенту Азербайджана. Вот, например, фотографии школ, отремонтированных за счет щедрот Ильхама. А вот и действительное положение дел со школами в Джалилабаде. Это – городская средняя школа №3, и учатся в ней чуть менее тысячи учеников. Теперь им придется ждать еще пять лет, до следующих президентских выборов в богатой нефтеносной республике. А сколько детей к тому времени травмируется на дырявом полу, скольких из них укусят крысы, скорпионы и другие соученики посещающих школу детей, Ильхама не волнует. Главное – фотографии на президентском сайте. Вообще, странную предвыборную кампанию ведет Ильхам Алиев. Официально он от нее отказался, мол, население республики способно и без лишних слов и речей разобраться, кто есть ху в азербайджанской политике. Но это – официально. В действительности действующий президент и кандидат в президенты Азербайджана мечется сейчас по районам республики и… раздает деньги на разные «социальные программы». О том, что эта кампания носит исключительно рекламный характер, свидетельствует тот факт, что И. Алиев выдает «каждой сестре по серьге одинаковой стоимости» - два миллиона манатов. Фраза «президент Азербайджана выделил такому-то району с такой-то целью два миллиона манатов» заполонила все СМИ Азербайджана. Сумма практически неизменна, безотносительно к масштабам работы, протяженности «реконструируемой» дороги и так далее. Данное обстоятельство неопровержимо доказывает отсутствие каких-либо технических и финансовых обоснований кампанейской раздачи плова с барского стола, зато услаждает слух жителей этих районов, стремящихся в очередной раз оказаться обманутыми. Два миллиона в карман главы исполнительной власти района, а население – в карман Ильхама Алиева. И, опять-таки, безотносительно к истинным результатам голосования. Поэтому можно согласиться с исполнительным секретарем правящей в Азербайджане партии «Ени Азербайджан» (ЙАП) Али Ахмедовым, заявившим, что «в этой предвыборной кампании будет очень много новшеств, использованы новые технологии». Однако другая его фраза – « ЙАП проявляет отцовскую заботу над другими кандидатами, для того, чтобы они тоже смогли продемонстрировать свою силу» – выглядит насмешкой над остальными кандидатами в президенты, сторонников которых власть, не мелочась, арестовывает группами. Кстати говоря, власть отказала в регистрации на выборах в президенты единственному реальному сопернику Ильхама Алиева – лидеру движения REAL Ильгару Мамедову, уже который месяц пребывающему в тюремных застенках. Теперь об остальных – запуганных и оттого послушных – можно и «отеческую заботу» проявить. Вместе с падалью, псиной и ослятиной Некоторое время назад мы опубликовали статью, в которой привели данные исследований белорусского агентства «Белта», согласно которым среднестатистический житель Азербайджана потребляет в год катастрофически мало мяса – 31 кг. Речь, правда, шла о 2009 годе. С тех пор мы постоянно слышим от президента этого образования о «не имеющем аналогов в мире» экономическом развитии Азербайджана. Если верить словам Ильхама Алиева, то за десять лет его президентства люди в Азербайджане стали жить на порядок лучше. Судя по всему, президент Азербайджана не знаком со знаменитым изречением Марка Твена: «Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения». Связать данный рефрен Ильхама Алиева с регулярными сообщениями азербайджанской прессы о хорошо налаженном «бизнесе» торговцев мясом в Азербайджане, в котором продажа населению ослиного, псиного и мяса падали под видом говядины и баранины превратилась в заурядное явление, может только гений Али Гасанова. Между тем, чтобы недавний кочевник – закавказский турок – разучился отличать мясо собаки и осла от баранины и говядины, надо на очень долгое время изъять мясо из его рациона. Тогда ему и падаль деликатесом покажется. Так, заведующий отделом по производству и переработке животноводческой продукции министерства сельского хозяйства Азербайджана Чингиз Фараджев, сообщил агентству АПА, что в Азербайджане, «согласно минимальной потребительской корзине, каждый человек потребляет (в год – Л. М.-Ш.) 20,5 кг мяса». При этом он же подсчитал, что среднестатистический житель этой республики потребляет в день 75 граммов мяса, что в сумме за год составляет 27 с небольшим килограммов. Сложно сказать, что труднее, отучить кочевника распознавать мясо, или научить его математике, но факт остается фактом: потребление мяса на душу населения в Азербайджане снизилось с 2009 года с 11 до 4 килограммов в год. При этом следует учесть, что часть съеденных закавказскими турками протеинов представляла собой ослятину, собачатину или и вовсе дохлятину, сиречь, падаль. Именно протеиновым голодом населения объясняется законодательно принятое в Азербайджане решение, согласно которому в вооруженные силы призываются недомерки ниже 145 см ростом и дистрофики весом до 45 кг. Поэтому в азербайджанской «армии» можно встретить аскера, не способного оторвать от земли чудо азербайджанского ВПК – снайперскую винтовку «Истиглал». В 2008 году на президентских выборах в Азербайджане Ильхам Алиев шел к власти со слоганом «Вперед с Ильхамом!». Не будем говорить, куда пришел Азербайджан в своем продвижении вперед, просто пожелаем Ильхаму Алиеву возглавлять это образование как можно дольше.
-
Мы готовы расчистить дорогу к друзьям Трибуна автохтонных народов возобновляет свою работу Читатели Voskanapat.info со стажем помнят, что на нашем сайте некоторое время функционировала рубрика «Трибуна для коренных народов» Азербайджанской республики. Помнят также о том, как азербайджанские журналисты наняли хакеров для атаки на Восканапат. В октябре 2009 года очередная по счету попытка им удалась, и работа Восканапата на несколько дней была парализована. Тогда мы, воспользовавшись сложившейся ситуацией, закрыли «Трибуну». Почему мы это сделали? Потому что поняли: в 2009 году «Трибуна», пусть ненамного, но опередила время. Мы нередко говорим, что Voskanapat.info стал в ХХI веке пионером на стезе возрождения дружбы между коренными народами региона. Это – справедливое утверждение. Но в 2009 году, несмотря на продолжающиеся не первый усилия отдельных патриотов-энтузиастов, общественное мнение (как среди армян, так и среди талышей, лезгин, аварцев) еще не было готово к коренному пересмотру насажденного Азербайджаном мировоззрения. Люди плохо знали прошлое и слабо представляли настоящее. Большинство армян укоряли нас: «Они (лезгины, аварцы, талыши) воевали с нами, помогали Азербайджану в его агрессии против Республики Арцах. Мы не можем дружить с ними». Большинство представителей автохтонных народов Азербайджана укоряли наших друзей: «Азербайджанцы (речь шла о закавказских турках) - мусульмане, как и мы, а армяне – христиане. Как мы можем дружить с армянами против единоверцев?». Наша «Трибуна» в те годы публиковала в основном наши статьи, а также редкие письма от лезгин, талышей, аварцев. Отмечу также, что значительная часть этих писем была преисполнена отчаяния и пессимизма: люди просто не верили в успех нашего начинания. Все это заставило нас воспользоваться случаем и закрыть «Трибуну». Правильно было это решение или нет, судить не будем. Просто констатируем факт. Однако закрыв «Трибуну», мы не перестали налаживать мосты дружбы с автохтонными народами. Просто определенная часть нашей деятельности ушла в «виртуальное подполье». Так было легче и эффективней. А 10 декабря 2011 года, во Всемирный день прав человека, редакция Voskanapat.info получила вот это письмо-обращение, подписанное общественными организациями и лидерами автохтонных народов Азербайджанской республики. Значение данного Обращения, подписанного искренними и мужественными патриотами своих народов, друзьями армянского народа, невозможно переоценить. Оно заставило задуматься десятки тысяч людей, показало путь, по которому всем нам, несмотря ни на какие трудности, необходимо пройти, если мы желаем жить в мире, дружбе и взаимопонимании. Обращение произвело революцию в умах, и не только тех народов, лидеры которых подписали его, но и армянского народа. Прочтите комментарии под этим обращением, и вы увидите, что среди лезгин, например, в то время были люди, засомневавшиеся даже в наличии этих людей. Да, друзья, тогда были сомнения. Но Обращение сплотило многих, вследствие чего родился Комитет «Мост братства» - общественная организация, порожденная волей представителей автохтонных народов Азербайджанской республики. Обращение помогло нам найти новых друзей, а «Мост братства» - привлечь массы людей к благому, благородному и благодарному делу, борьбе за мир и дружбу. Да, мира и дружбы иногда приходится добиваться посредством борьбы и преодоления искусственно создаваемых барьеров общего недруга. Не могу удержаться от соблазна процитировать пару строк из этого мудрого Обращения. «Мы можем положить начало мирной жизни для всех народов Кавказа. Это – уникальная ситуация: если мы примем это решение и решительно претворим его, угроза войны закончится, так как азербайджанцы никогда не осмелятся самостоятельно возобновить войну. Коренные народы Азербайджанской республики являются серьезным военно-политическим фактором. Мир в Южном Кавказе зависит от нас. Жизнь тысяч и тысяч наших сыновей зависит от нашей решимости. Мы призываем вас задуматься о нашем будущем, о будущем наших детей и нашей Родины. Продемонстрируем правительству Азербайджана и всему миру, что мы против войны. Спасем жизни наших сыновей», - сказано в Обращении, и только слепой душою человек может не заметить той огромной ответственности, что чувствуют за судьбу своих народов подписавшие его люди. Не буду скрывать, в те дни многие мои армянские друзья и коллеги поздравляли и меня, мол, твоя работа принесла свои плоды, и теперь мы, так же, как и ты, уверены: по ту сторону границы у нас есть друзья. Признаюсь и в том, что я отказывался принимать поздравления, ибо Обращение явилось плодом коллективного разума интеллигенции автохтонных народов нашего региона. Сегодня у Восканапата огромное количество друзей из числа автохтонных народов Азербайджана, а число членов Комитета «Мост братства» перевалило за тысячу человек. Кто-то может посчитать это количество небольшим, и я не буду спорить с этим. Напротив, кто-то может счесть, что нас уже стало много: я и с этим мнением не намерен спорить, хотя и считаю, что друзей много не бывает. Вместе с тем хочется напомнить всем: «Мост братства», как образно выразился мой лезгинский друг Руслан Гереев, протянут поверх голов недругов. Как бы там ни было, прошедшие годы многое изменили в психологии и мировоззрении как армян, так и автохтонных народов Азербайджане. Мы все «вдруг» обнаружили вокруг нас друзей, подаренных нам близкими цивилизационными воззрениями и историей. Интересный факт: в южных районах Дагестанской республики есть множество топонимов, сохранивших следы дружбы между нашими народами. Вот лишь некоторые из них: ««Армен-кала» – (Армянская крепость) – городище в Магарамкентском районе; «Эрмени кьоллар» (Армянские долины) - близ с. Утамыш Каякентского района. Недалеко от села Кабир Курахского района урочище «Эрменрин син» или «Эрменисин» (Армянская возвышенность). Интересно, что у этого урочища есть другое название: «Эрмени-чил» (Местность, или земля армян). В Ахтынском (Ахцах) районе есть «Эрмени хуьр» (Армянское селение), «Эрмени кьеле» (Армянская крепость), «Эрмени ряхъ» (Армянская дорога). Перечислять топонимы с армянским следом в лезгинских районах Дагестана можно долго - «Армен-мульк» (Армянское поместье) в Дербентском районе, «Эрмени мульк» (Армянское поместье) в Каякентском районе, «Эрмениарх» (Армянский канал) - речка, впадающая в озеро Аджи, и так далее. Не может быть никаких сомнений: топонимы, хранящие память о тесных связях и дружбе лезгинского и армянского народов в избытке были и на той части лезгинской земли, что ныне томится в тюркском плену на территории Азербайджана. Но искать их на картах современной Азербайджанской республики не имеет смысла: в этом преступном образовании тюркизируются и уничтожаются даже лезгинские, талышские, аварские топонимы. Уродливые Балакен и Гусары, Лянкяран и Огуз, Губа и Гейчай, как и «прилепленные» к рекам тюркские окончания «чай», все это стало возможным вследствие узурпации власти закавказскими турками на исторической Родине талышей, лезгин, аварцев. Я не случайно коснулся топонимов. Их искажение на тюркский лад является важным составляющим «освоения» тюрками оккупированной земли автохтонных народов. Нам, армянам, это хорошо известно. Мы помним, как наш Геташен был изуродован в «Чайкенд», Партав в «Бярду», Восканапат в «Зурнабад», Гетамеч в «Гядямиш» и так далее. Сегодня, когда мы восстановили практически все армянские топонимы на территории Республики Арцах, Азербайджану остается только бессильно скулить, виртуально «переименовывать» наши города и селения, да составлять анекдотичные «черные списки». Этот скулеж исходит из Баку, и там и глохнет. Но нам с вами, друзья, известно другое: настанет время, когда мы соберемся за дружеским застольем в КцIаре, Ланконе и Джаре. Сегодня мы можем собираться только в Степанакерте, но, я в этом нисколько не сомневаюсь, настанет день, когда мне выпадет честь отведать угощение моих друзей на их исконной Родине. Несколько лет назад я писал своему лезгинскому другу: «Противоестественная ситуация, когда общий неприятель разделил нас, должна быть исправлена, приведена в соответствие с моралью и исторической справедливостью. А это означает, что у нас с вами должно быть общее будущее. Для этого мы, в первую очередь, должны разобраться: когда, на каком перекрестке истории мы потеряли дорогу друг к другу? Какая стоглавая гидра стала между Шарвили и Сасунци Давидом?». Сегодня я вправе утверждать: мы с вами, друзья, нашли утерянную дорогу. Да, она заросла сорным бурьяном, загромождена валунами, но она нам известна, а это – самое главное. Нам ли с вами бояться черновой работы, да еще при том, что ее благородное назначение нам хорошо известно? Voskanapat.info возобновляет работу «Трибуны» автохтонных народов Азербайджана. Мы готовы предоставить площадь для публикации писем и статей наших друзей, мы обязательно будем перепечатывать материалы из дружественных нам сайтов, составлять обзоры публикаций, касающихся лезгин, талышей, аварцев. Все эти материалы будут аккумулироваться в отдельной рубрике, что облегчит интересующимся поиск нужной статьи.
-
«Доблестная» страница истории Азербайджана 13 или 14 лет назад я обратился с просьбой к двум армянским подвижницам от науки – Алвард Газиян и Соне Мирзоян – с предложением/просьбой начать работу по сбору архивных материалов о событиях в Азербайджанской Демократической республике, в частности, о Геноциде армян в этом преступном образовании. Я, конечно, знал, к кому обращался. С. Мирзоян и А. Газиян с головой ушли в эту невероятно психологически тяжелую работу. Два года неустанной работы, без праздников и выходных, два года ночных бдений… Были найдены и систематизированы тысячи архивных документов… Вначале была задумка опубликовать их в трех объемных томах, по тому на 1918, 1919 и 1920 годы. Но публикация архивных материалов требовала серьезных финансовых вложений, и тогда было решено опубликовать часть – всего 416 – документов в одном томе, получившем название «Погромы армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918 – 1920 годах». К сожалению, книга была издана небольшим тиражом, всего 350 экземпляров, и далеко не все могут ее приобрести. Однако сегодня ее можно прочитать по интернет-адресу. Нет, я неправильно выразился. Надо было иначе: книгу эту НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ. И запомнить. Сегодня, 15 сентября, в Азербайджане торжественно отмечают 95-летие со дня «освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации». Это – чудовищная ложь! Сегодня в Азербайджане празднуют 95-летие Геноцида армян в Азербайджане! Апогей этого Геноцида пришелся на Баку, хотя, например, в Нухи-Арешском регионе армян было убито в два с лишним раза больше, чем в Баку. 15 сентября 1918 года турецкая Кавказская Исламская армия под командованием Нури-паши и банды закавказских турок после полуторамесячной осады ворвались в Баку. После падения города началась страшная трагедия его армянского населения. Были вырезано свыше тридцати тысяч армян: женщин, детей, стариков. Сохранившиеся в архивах рассказы очевидцев поражают человеческое воображение немыслимой жестокостью. Но это было… Сегодня в Азербайджане пишут: «Освобождение Баку является одной из самых доблестных страниц истории Азербайджана». Это правда! «Доблесть» закавказского турка заключается в умении резать мирное население, разбивать детские головы, вспарывать животы беременным женщинам, пожирать человеческую плоть. В понимании закавказского турка все это – доблесть. И эту «доблесть» закавказские турки сполна проявили в 1918 – 1920 годах как продолжение «доблести» турок османских. Проигрывая нам на поле боя, будущие «азербайджанцы» проявляли свою доблесть против мирных людей: пахарей-земледельцев, врачей, священников, учителей, беззащитных детей… Всего, по далеко не полным подсчетам, на провозглашенной «Азербайджаном» территории было убито примерно 250 тысяч армян, чем, кстати, в числе прочего, объясняется огромная активность Азербайджана помешать признанию Геноцида армян в Османской Турции (Турецкой республике) 1894 – 1923 годов. В Баку прекрасно понимают: рано или поздно закавказским туркам придется понести ответственность за все те чудовищные злодеяния, что произошли в этом образовании по отношению к армянскому народу. Это тем более неизбежно, что нынешняя Азербайджанская республика официально провозгласила себя наследницей и правопреемником Азербайджанской Демократической республики 1918 – 1920 годов. С этой точки зрения труд Сони Мирзоян и Алвард Газиян приобретает не только моральное и историческое, но и правовое значение. Еще в то время, когда шла работа над сбором архивных документов и материалов, я часто думал над тем, о чем потом писал неоднократно: Арцахская война стала уникальным явлением в истории армянского народа, ибо развела нас и закавказских турок по разные стороны государственной границы. Эта ситуация сложилась впервые за много веков. С тех самых пор, как на нашу благословенную Родину, вслед за оголодавшими овцами, прибрело кочевое отродье турок. Сегодня армянский Воин не отягощен тревогой за соотечественников, оставшихся в тылу у врага, его больше не беспокоит судьба армянских поселений по ту сторону границы. Армянский Воин получил преимущество, которого у него не было много веков: защищаемый им народ находится под его прикрытием, избавлен от опасности ятагана. Сегодня ни один горбачев не может шантажировать нас: «А вы подумали о судьбе свыше двухсот тысяч армян Баку?». Написал эти строки, и вновь меня охватило чувство недоумения. Как могли армяне жить в Баку после событий 1905-го и 1918-го годов? Как могли мы оказаться настолько наивными, чтобы вновь вернуться в это исчадие ада не с оружием, а с целью созидать? Как могли строить дома для детей детоубийц, учить держать в руках ручку потомков описанных Акрамом Айлисли Мырыг Музаффара? Как могли дожить в Баку до 1990 года? Что это за проклятие тяготеет над нами? Проклятие, называемое одним словом, - «наивность». Данные строки – не упрек. Как можно упрекать за приверженность армянскому национальному характеру? Они – необходимое напоминание последствий этой наивности. Огромное кладбище, в котором похоронили армян – жертв Геноцида 1918 года в Баку, было уже в советские годы превращено в парк, называемый жителями города «Нагорным». Затем, уже после 1990 года, на этом месте была построена «аллея шехидов», в которой были похоронены нелюди, убивавшие армян уже в 1990 году. Это их, насильников и убийц, как и в 1918 году разбивавших о стены детские головы и пожиравших человеческую плоть, возвели в сонм «шехидов», это им ежегодно преступное правительство преступного государства торжественно отдает почести. Это на их грязных могилах брачующиеся закавказские турки клянутся друг другу в вечной любви и… вечной же жажде по армянской крови. Сегодня в Баку начинаются трехдневные празднества. В школах, возведенных руками армянских строителей, будут рассказывать о «доблести» закавказских турок, в вузах читать лекции о построенном на крови мирных армян фундаменте Азербайджанской республики. Повсюду будут концерты, а вечером – праздничный салют. Пишу все это лишь в качестве констатации факта. Это – их менталитет: праздновать даты резни мирного населения. Мы же будем праздновать другие даты: День независимости Республики Арцах, День освобождения Шуши, Бердзора, Карвачара, Ковсакана, Акны, Варанды, Джракана… Наши праздники завоеваны на поле брани, это - даты побед над агрессором, единственной доблестью которого является умение насиловать и убивать беззащитных людей. Прочтите собрание архивных материалов.