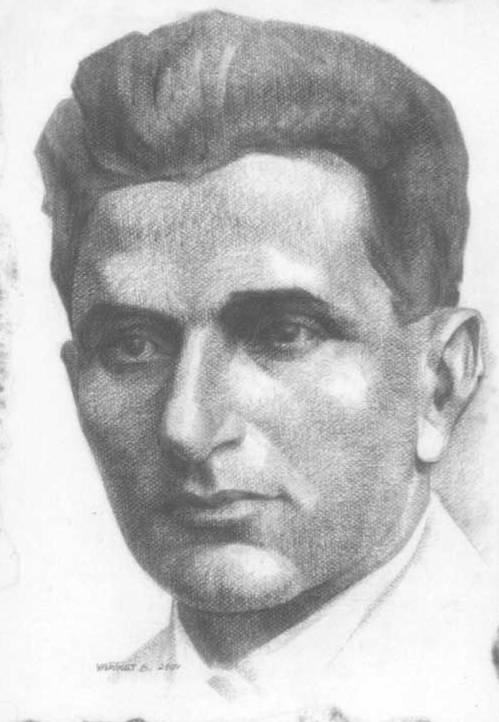-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-

Top 100 Hazarapetы форума- *000 Тысячный Пост Сюда
Pandukht replied to voter's topic in Portal and Forum News
Поздравляю, Квинто джан! -
Протокол о российской базе сужает армянский фронт Обнародование проекта Протокола о российской военной базе в Армении всколыхнуло разного калибра азербайджанских политиков и обозревателей. Наводнившие прессу этого государства статьи по поводу армяно-российских отношений тщатся изобразить этакую браваду: российские войска, несмотря ни на какие договоренности воевать за Армению не будут. А вот мы… Да еще вместе с Турцией. Некоторые из особо одаренных азербайджанских политологов, имея в виду шпионский скандал между Москвой и Бухарестом, уже и Румынию видят в своих союзниках. Трудно сказать, с чего это вдруг в Азербайджане решили, будто армянские государства рассчитывают на то, что в случае необходимости Россия будет воевать вместо нас? Необходимости в этом как не было, так и нет. Воевать мы и сами умеем, да так, что никому мало не покажется. Сомневающимся предлагаю поинтересоваться по этому вопросу у бежавших из Арцаха министра и начальника генштаба МО Азербайджана. Но вот то, что Россия готова воевать за собственные интересы, как, собственно и за интересы ОДКБ, думаю, ни у кого в Азербайджане, да и мире, сомнений не вызывает. И именно эта готовность России позволяет нам сконцентрироваться на вражеском государстве. Уже после скорой ратификации внесенных в Протокол изменений, два предложения из которых полностью передают их смысл. Итак, новая редакция статьи 3 Протокола предусматривает: «Российская военная база в период ее пребывания на территории Республики Армения кроме осуществления функций по защите интересов Российской Федерации обеспечивает совместно с Вооруженными Силами Республики Армения безопасность Республики Армения. Для достижения указанных целей Российская сторона осуществляет содействие в обеспечении Республики Армения современным и совместимым вооружением, военной (специальной) техникой». Приведенные строки означают, что в случае возобновления Азербайджаном агрессии против НКР линия войны с Азербайджаном сужается до пределов границы НКР – Азербайджан, ибо любая попытка «растянуть» фронт до границ с Арменией, неминуемо обернется втягиванием в боевые действия Сил быстрого развертывания ОДКБ. Таким образом, наличие в нашей стране российской военной базы «обеспечивающей безопасность Армении» высвобождает немалые армянские силы и полностью лишает Азербайджан и без того призрачных надежд на успех в возможной военной кампании. Если при этом учесть и «содействие в обеспечении Республики Армения современным и совместимым вооружением», то истерику в Азербайджане можно понять. Обеспечение военной безопасности Армении равнозначно гарантии победы НКР. Думаю, даже в Баку понимают, что Армянская Армия способна выполнить поставленные перед ней задачи по перенесению возможных боевых действий вглубь контролируемых Азербайджаном армянских территорий. Не от этого ли понимания, кстати, в Азербайджане время от времени «обозначают цели» Армии Обороны НКР – трубопроводы, газопроводы, железная дорога. Между тем, повторюсь, в случае агрессии Азербайджана задачей АО НКР будут не трубопроводы, а их источники: газовые и нефтяные месторождения. Современное и «совместимое» оружие позволит это сделать без особых проблем. В самом деле, подрыв трубопроводов ничего, кроме раздражения Запада, не даст: их можно восстановить в достаточно короткие сроки. Очевидно, что подрыв трубопроводов ничего не даст нам в экономическом и повредит в политическом плане. Кроме того, теперь это достаточно очевидно, протянувшиеся в сторону Грузии энергопроводы уже вскоре после возобновления войны окажутся под нашим контролем. Совершенно другое дело – месторождения. Во-первых, эффект от такого акта будет гораздо более долговременным, и поставит заинтересованные страны перед свершившимся фактом; во-вторых, пылающие словно погребальные костры месторождения приведут к кремации самого Азербайджана. Таким образом, если в Баку все же решатся на коллективное самоубийство, нам необходимо будет выполнить две задачи: выйти к историческим восточным границам и уничтожить некоторую часть нефтегазовых месторождений пока еще существующего Азербайджана. Наивно было бы думать, что при этом трубы потеряют свою экономическую значимость. Через год-два все возвратится на круги своя, и месторождения вновь начнут исправно поставлять углеводы. И столь же исправно пополнять бюджет Республики Арцах. Новая редакция Протокола о российской базе в Армении ставит перед Ильхамом Алиевым дилемму: согласиться продолжать царствовать на «восьмидесяти процентах» и беречь престол для сына, или перебираться в Дубаи – один из особняков Гейдара Алиева младшего. Третьего выбора ему не дано.
-
-
Карабах: что дальше? В урегулировании карабахского конфликта после серии словесных атак и контратак и очередного тупика при встрече министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Алма-Ате 17 июля с.г. наступила краткая пауза. Лишь предстоящие визиты президента России Д. А. Медведева в Ереван и Баку вернут ожидания активизации переговорного процесса. В последнем цикле встреч Азербайджанская Республика (АР) выступала за обновленные в 2009 г. Мадридские принципы как основу будущего соглашения. Армения предпочла предложения Д. А. Медведева, сделанные в Петербурге 17 июня с. г. Разница между двумя вариантами не раскрывается. МИД АР отклонил петербургские предложения как сделанные без США и Франции, но в Алма-Ате их представители подтвердили свое согласие с ними. Не ясно, насколько и вправду приемлемы для Баку обновленные принципы: выставляя это напоказ (так ему выгоднее), он таит свои «исключения», среди которых, наверняка, самая кардинальная проблема - определение окончательного статуса Нагорного Карабаха (НК). Раскачка маятника в позициях сторон не сюрприз. Она хлопотна для посредников, но позволяет лучше учесть интересы сторон, сузить коридор их расхождений. Однако сторона не вправе считать предпочтительный вариант абсолютной истиной и ультимативно требовать согласия оппонента с ним. Уход от поиска баланса интересов не ведет к соглашению. Последняя пробуксовка переговоров добавила напряженности. Президент АР Ильхам Алиев снова впал в рецидив угроз решить все силой, твердит, что война еще не окончена, а только первый ее этап. И ни слова о внесенных в Алма-Ате предложениях России, США и Франции укрепить прекращение огня. Как же понять его заверения, будто хочет решить вопрос мирным путем? Его серийные угрозы и не могут способствовать этому, а усиливают недоверие сторон и осложняют переговоры. Это вопиющий разрыв одного из главных принципов ОБСЕ - неприменение силы и угрозы силой. Глава АР сам постоянно подтверждает, что основная опасность новой войны исходит из Баку, ставшего бесспорным чемпионом мира по угрозам. Поэтому важно вскрывать искусственные натяжки, а иногда и просто фальшь в доводах, тиражируемых апологетами силового реванша в Карабахе. Причем развеять этим нагнетаемые ими тучи не так трудно. Предлог для воинственной истерии тот же - оккупация армянами 7 районов АР вокруг НК. Конечно, это аномалия, не изжитая и в наш век. Баку особо упирает на нее в поиске эмоционального сочувствия - ему противопоказаны трезвый анализ ситуации и причинно-следственные связи. Ведь вооруженный конфликт начат был не с оккупации, а с военных действий. А кто первым прибег к силе, кто долго упорствовал в боях, тщась одержать верх? Как раз та сторона, которая снова ищет предлог для нового применения силы! Итоги своих просчетов в той войне она хочет выдать за причину новой бойни. Самообман упоением силой - уже родовое пятно политики руководства АР. Чуть что Баку ссылается на то, что ему выгодно в четырех резолюциях СБ ООН (1993 г.). Явно в расчете на неосведомленность или забывчивость. В срыве этих резолюций больше всех повинен тот, кто растянул войну на два с половиной года, уходил от перемирия и более года саботировал ключевое требование СБ - незамедлительно прекратить военные действия. Этим блокировалось осуществление и других требований. Баку сам дал армянам пример и шанс игнорировать установку вывести войска с захваченных территорий. В итоге не выполнен ни один призыв, ни одно субстантивное требование этих резолюций. Во избежание девальвации своих решений СБ ООН даже перестал тогда принимать их по Карабаху. Иногда прекращение огня с 12 мая 1994 г. выдают за выполнение резолюций СБ, но это не совсем точно. И срок не тот, и целый ряд их элементов так и не учтен. Баку пошел на перемирие не ради этих резолюций, а во избежание полного коллапса. Россия помогла достичь перемирия на иной основе: Московского заявления CГГ СНГ, Бишкекского протокола и соглашения трех сторон о прекращении огня. Резолюции СБ ООН остались важным ориентиром для переговоров, но пострадала мера их действенности. В политике АР продолжается набор негатива - всего не перечислить. Тут и полное нежелание, несмотря на официальное подписание, соблюдать соглашение об укреплении режима прекращения огня от февраля 1995 г., и провоцирование инцидентов для взвинчивания напряженности и враждебной пропаганды, и отказ отвести снайперов с передовых позиций, и отклонение любых мер доверия, и свертывание почти всех контактов с противостоящими сторонами, и невнимание к алма-атинским предложениям укрепить режим прекращения огня. Этот ряд и венчают попытки, наоборот, выискать или изобрести casus belli и разом попугать всех. Наперекор всем обязательствам, обещаниям и посулам Баку решить сложные проблемы конфликта мирно. С таким бэкграундом наивно рассчитывать решить все напролом, нахрапом на своих условиях. При урегулировании конфликта не нужна давняя история, но не учитывать его ход было бы плутанием в абстракциях. Излишне сетовать на ущербность ситуации и трудности сближения позиций. Как ни разыгрывать неудовлетворенность ходом переговоров и нетерпение, никакой разумной альтернативы им нет. Обо всем этом надо было думать намного раньше, лет 15-20 назад. И с этой безальтернативностью Баку придется считаться. Опять же лучше раньше, чем потом.
-
Капитан II ранга Кирилл Иванович Маргарянц
-
Сексуально-патриотическое воспитание
-
ВЫХОД ИЗ ОДКБ И ИНТЕГРАЦИЯ С ЗАПАДОМ В связи с намерениями России предоставить Азербайджану средств ПВО С- 300, в Армении развернулась дискуссия о выходе из ОДКБ и интеграции с Западом. Как Вы оцениваете данные идеи и, насколько это возможно в реальности? С этим вопросом мы обратились к политологу Игорю Мурадяну. - Это очень большая тема и я имел намерения сделать ряд публикаций по этой проблеме осенью текущего года. Таковы мои обязательства, и для развертывания этой темы необходимы некоторые дополнительные сведения, которые будут получены в связи с событиями, которые ожидаются на протяжении осени. Но, видимо, возникшая ситуация опережает события и необходимо ответить на этот вопрос в некотором ограниченном формате. Все Новые независимые государства, да и любое из современных государств, даже из числа довольно крупных, стремиться диверсифицировать свою внешнюю политику, приобрести несколько «точек» опоры. Предыдущий министр иностранных дел Армении Вартан Осканян пытался сформулировать идею «комплементаризма», что вызывало открытое недружелюбие и раздражительность со стороны России. Данные политические задачи можно называть, как угодно, но суть остается – Армения не может надеяться не только на наличие своей внешней политики, но и на элементарную национальную безопасность, без тесного сотрудничества с различными мировыми и региональными центрами силы. Длительное время Армения и Иран явно недооценивали возможности и политические ресурсы, которые они могли приобрести, в результате более тесного сотрудничества. Причем, ответственность за отсутствие до настоящего времени, «большого договора» между ними лежит именно на Иране. Причастность Турции к атлантическому альянсу, подконтрольность Турции американцам, не привели иранцев к убеждению о том, что давно пора создавать на регионе новый альянс, с целью обеспечения безопасности. Как ни странно, попытки Турции и России объединить усилия, привели Иран к некоторому сдвигу в своей крайне малоподвижной политике. Политика – зона парадоксов, и если быть сейчас кратким, то мне представляется достаточно странная перспектива, а именно, формирование сначала некоторого взаимопонимания, а затем и реальное партнерство между США и Ираном, потому что между этими государствами гораздо больше взаимной заинтересованности, чем враждебности и противоречий. Все большее число американских экспертов, в том числе и друзей Израиля, приходит к выводу, что между США и Ираном нет и никогда не было достаточных оснований для враждебности. США достаточно убедились в том, что Грузия и грузинский этнос не в состоянии выполнять функции партнера, и тем более, стратегического партнера. Аналогичным образом, но по иным причинам, выглядит и Азербайджан. Единственным государством и нацией в регионе, способными осуществить задачи партнерства, является Армения. Без участия Армении попытки США интегрировать Кавказ в Западную систему безопасности, тщетны. Создание американских военных баз в Грузии, если это состоится, станут вовсе не анти-российскими, а анти-турецкими бастионами. Нужно понимать, что Турция станет на ближайшие 20 – 25 лет объектом блокирования и сдерживания со стороны США, ЕвроСоюза и их партнеров в регионах Ближнего Востока, Балкан и Кавказа. США могли бы быть заинтересованными в использовании (вернее в воссоздании) военно-воздушной базы вблизи поселка Арзни, в создании станции слежения на вершине горы Арагац, в введении батальонов морской пехоты в таких местах, как Ахалцых, Ахалкалаки, в местах коммуникационных узлов в Армении. Россия могла бы успешно принять участие в этой стратегии, или предпочесть стать про-турецки ориентированным государством. Что касается ОДКБ, можно сказать, что это весьма удачная идея, Россия сделала все, что смогла для своих партнеров, на большее она не способна. Возможно, российские политики с некоторым сожалением, но вынуждены дать понять своим партнерам, что наступил предел их взаимной преданности. Чтобы выполнять задачи своей национальной безопасности, Россия вынуждена приносить в жертву своих партнеров. От добра добра не ищут, к сожалению это так. Российские эксперты давно нащупывают настроения армян, рассуждая о преувеличении обозначать отношения между Россией и Арменией, как стратегические. В этом всегда ощущался смысл и функциональность, с учетом ожиданий. Так оно и произошло. К сожалению, пока другой формат партнерства с Западом для Армении, невозможен. Когда ведущие эксперты Запада и России столь уверенно утверждали, что Украина и Грузия вступят в НАТО, политологи-маргиналы из нашего региона, понимали и неоднократно говорили, что этого не будет, ни в обозримой перспективе, ни в более дальнем будущем. В связи с этим, Армения поступала разумно, не опережая события, которые так и не произошли. Но, одновременно, так и не были сделаны шаги, направленные на реальную интеграцию с Западным сообществом. Не нужно делать из этого проблему, Россия, как известно уже приняла немало разъяснений по поводу отношений Армении с США и НАТО, поймет и некоторое другое. Во всяком случае, попытки России проводить паритетную политику в Южном Кавказе не пройдет бесследно, если даже Армения останется по-прежнему лояльной и индифферентной к этим событиям. Сейчас, проблема уже не в отношениях, необходимо не допустить, чтобы ЗРК С-300 оказались на территории в Азербайджане.
-
-
Азербайджан погоняет Турцию курдами 16-17 августа, по приглашению Ильхама Алиева, состоится официальный визит президента Турции Абдуллаха Гюля в Азербайджан. Согласно опубликованной программе визита, Гюлю предстоит встретиться с президентом Азербайджана, а также со спикером Милли меджлиса Октаем Асадовым, премьер-министром Артуром Расизаде и главой мусульман Азербайджана, шейх уль-исламом хаджи Аллах Шукюром Паша-заде. А. Гюля в ходе визита в Азербайджан будет сопровождать министр энергетики Турции Танер Йылдыз. Последнее обстоятельство весьма интересно. Дело в том, что два государства ужи длительное время никак не могут договориться по цене для поставляемого в Турцию газа из Азербайджана, а также стоимости транзита азербайджанского газа в Европу по территории Турции. За последние два года стороны несколько раз заявляли о благополучном завершении переговоров на эту тему, однако договоренности как не было, так и нет. Правда, некоторое время назад было заявлено, что подписан документ, регламентирующий цены на газ и транзит, но на поверку выяснилось, что Баку и Анкара подписали лишь декларацию о намерениях. Таким образом, можно быть уверенным, что данная проблема между двумя тюркскими государствами будет одной из основных на переговорах двух президентов. Другой темой на переговорах, безусловно, явится визовая проблема между двумя государствами. Турция уже ровно три года предлагает Азербайджану ввести безвизовый режим. Летом 2007 года А. Гюль даже объявил о снятии визовых ограничений для приезжающих в Турцию граждан Азербайджана. Однако сами турки для въезда в Азербайджан должны получить визу. Алиев смертельно боится бесконтрольного наплыва в Азербайджан турецких исламистов, торговцев живым товаром и, главное, сельскохозяйственной продукции, способной уничтожить аграрный сектор республики и, выкачав из нее немалые средства, выдавить из «братского» государства до миллиона людей. Нет никаких сомнений, Алиев с Гюлем поговорят также о нагорно-карабахской проблеме, а также о проблеме открытия армяно-турецкой границы. Если по проблеме Нагорно-Карабахской Республики позиции Анкары и Баку практически идентичны, то по вопросу армяно-турецкой границы взгляды руководителей двух государств кардинально разнятся. Безусловно, Гюль не меньше Алиева мечтает о повторной оккупации НКР: первая – частичная – оккупация Арцаха произошла в 1918 году, турецкими регулярными армейскими подразделениями под командованием генерала Нури, которым помогали остатки вдребезги разбитой армянами «Дикой дивизии» закавказских турок. Именно об этом «славном периоде» истории, а также о том, что Азербайджан является незаконнорожденным отпрыском Турции, напомнил Гюль азербайджанскому агентству АПА за несколько дней до визита в Баку: «Какие дела совершила Кавказская Исламская Армия под командованием Нури паши? Азербайджанский народ знает всё это». Абдуллах Гюль преувеличивает возможности этнической памяти закавказских турок. Во всяком случае, руководителей Азербайджана. Сегодня они знать не желают о том, что руководимое ими государство является тривиальным ублюдком, родившимся вследствие преступного совокупления турецких националистов и большевиков. Клан Алиевых ныне требует от Турции активного участия в «борьбе» против Республики Арцах, а также ужесточения экономической блокады и прекращения переговоров по открытию границ с Арменией. Других серьезных претензий у Азербайджана к Турции нет. Однако, похоже, в Азербайджане пока не способны понять, что возможности Турции во взаимоотношениях с армянскими государствами ограничены. По этой причине Баку наращивает давление на своего стратегического союзника. Между тем, Анкара действительно кровно заинтересована в «разрешении» нагорно-карабахского конфликта по азербайджанскому «сценарию». Подобное развитие ситуации позволит Турции открыть границы с Арменией, преподнести себя европейскому сообществу в качестве демократического и миролюбивого государства, а также придаст дополнительные возможности для воздействия на политическую ситуацию на Южном Кавказе. Вот только желания и возможности Турции сильно разнятся. Армения и НКР не раз заявляли на самом высоком уровне, что не желают видеть Турцию в числе посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан, однако, проблемы Турции не волнуют, и Алиев продолжает по отношению к Анкаре политику экономического давления и откровенного шантажа. Не отказывает себе Баку и в удовольствии чисто психологического давления, как это было в прошлом году, когда в столице Азербайджана были убраны все турецкие флаги, в том числе и у памятника солдатам Нури. Тем самым, завоевавшим Восточное Закавказье для построения тюркского государства под названием Азербайджанская республика. Но главным инструментом шантажа для Азербайджана являются энергоносители и… курдские повстанцы. О продолжающихся уже не первый год переговорах по ценам на поставляемый для Турции газ уже было говорено, куда интереснее проблема курдского фактора в отношениях между двумя тюркскими государствами. О том, что в руководстве Азербайджана немало этнических курдов, в том числе и президент этого государства Ильхам Алиев, известно давно и многим. Известно также о роли отдельных представителей азербайджанского политического бомонда в финансировании и политико-идеологической помощи курдским повстанцам. Об этом много писалось (и пишется) также в азербайджанской оппозиционной прессе: «Ени Мусават», «Монитор», «Реальный Азербайджан», «Азадлыг» и др. Сообщалось также о переселении в Азербайджан десятков (по другим сведениям – сотен) тысяч курдов из Турции и Ирака. Естественно, что в Турции об этом хорошо известно. Так, ровно три года назад министр юстиции Турции Джамиль Чичек в интервью азербайджанскому телеканалу ANS заявил, что «Турция потребовала у официального Баку выдачи находящихся в Азербайджане членов курдской террористической организации Курдская рабочая партия (КРП)». Д. Чичек также сообщил, что он представил руководству Азербайджана список требуемых к выдаче членов КРП. Нам неизвестно, фигурировали ли в этом списке министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камалетдин Гейдаров, начальник службы охраны президента Азербайджана Бейляр Эйюбов и другие высокопоставленные азербайджанские чиновники, но Азербайджан никого не выдал. Алиев также отказывается выполнить перманентное требование Анкары на законодательном уровне признать КРП террористической организацией. Президент Азербайджана прекрасно понимает, что подобное решение поставит вне закона большинство его ближайших соратников. Ныне, накануне визита Гюля в Баку, Алиев решил продемонстрировать Турции степень своего влияния на курдское повстанческое движение вообще и КРП в частности. 13 августа боевики КРП заявили об одностороннем прекращении огня в противостоянии с турецкими регулярными войсками. До 20 сентября. Интересно, что турецкая пресса постаралась связать это заявление курдов с наступлением священного для мусульман месяца рамадан. Но, во-первых, рамадан в текущем году начинается 11 августа, и, во-вторых, заканчивается 9 сентября. И уже невозможно не обратить внимания, что 20 сентября состоится очередная встреча Алиева с Гюлем, на посвященном целям развития тысячелетия саммите ООН в Нью-Йорке. Фактически Алиев поставил перед А. Гюлем и всем руководством Турции ультиматум: или ужесточение позиции Анкары в отношениях с Арменией и по проблеме Нагорного Карабаха, или курды продолжат вооруженное сопротивление. Если учесть, что в текущем году курды уже убили свыше двух сотен турецких военных и жандармов, угроза выглядит внушительно. Однако если также учесть, что Азербайджан требует от Турции невозможного – Анкара и рада бы помочь, да кишка, как говорится, тонка – то следует признать, что Турцию ожидают горячие осень и зима. Впрочем, когда это от родитель утешался приблудным дитя?
-
Наше право не может предоставляться нам в качестве награды Для правильного понимания любого действия необходимо учитывать ряд факторов. Один из важнейших факторов – мотив, причина данного действия. Если смотреть на предстоящую 19 сентября литургию в церкви Сурб Хач (Святого Креста) на о. Ахтамар и сопутствующий этому шум с этой точки зрения, становится понятной неподобающая, мягко говоря, причина. Однозначно, что эта литургия и инициатива в целом не имеют никакого отношения к прославлению Господа. Это - замышленное турецкими спецслужбами фальшивое мероприятие, единственной целью которого, используя замысловатые политологические понятия, является проекция позитивного образа (positive image projection). Турки хорошо и делают, что в очередной раз обманывают мир. Это их натура и их право. Однако я не понимаю смысла восторженного участия армян в этой игре. Якобы, мир узнает, что Ахтамар – армянская церковь. Во-первых, тот, кто должен узнать, уже знает. Тот, кто не хочет знать, не узнает. Однако уверяю вас, не это станет основным мессиджем крупнейших мировых СМИ. Основная мысль будет заключаться в восхвалении толерантности турок. Не позволяйте туркам в очередной раз унижать нас! Унижения от протоколов, подписанных в Женеве, хватит нам на несколько десятилетий, зачем вам снова сыпать соль на наши раны? Однозначно неприемлема следующая точка зрения: «В тех местах у нас нет столько людей, что нам делать с церквями? Достаточно проводить литургию и один раз в год». Для начала пусть ответят на вопрос, а что случилось с армянами, построившими эти церкви. И потом, речь не о проведении литургии, речь о праве, о праве на проведение литургии. Может, армяне будут проводить литургию в этих церквях раз в пять лет, может, раз в десять лет, все равно, у них должно быть право в любой момент провести богослужение, в соответствии с церковным порядком. Турки дают нам наше же право в качестве награды, а мы радуемся этому. Мы похожи на ребенка, родственников которого вырезали, имущество отняли, а затем швырнули ему одну блестящую игрушку, и он безумно радуется ей. По официальным турецким данным 1912 года, на территории Османской империи было свыше 2000 действующих, повторяю, действующих армянских монастырей и церквей. Они были незаконно конфискованы Турецкой Республикой. Пусть сначала возвратят законному владельцу церковное, то есть общинное, то есть всем нам принадлежащее имущество или возместят за него. Затем пусть наверняка выполнят взятые на себя международные обязательства. Установление отношений с кемалистским движением, контролировавшим Турцию, базировалось на определенных предусловиях, закрепленных в Лозаннском договоре (24 июля 1923 г.). Согласно статье 38, части 2 Лозаннского договора, всем жителям Турции в частной или общественной жизни предоставляется свобода вероучения, религии или вероисповедания (All inhabitants of Turkey shall be entitled to free exercise, whether in public or private, of any creed, religion or belief). А по статье 40 Договора, им предоставляется право учреждать, задействовать и контролировать религиозные учреждения. Более того, по статье 42, части 3 Лозаннского договора, «Турецкое правительство обязуется взять под полноценную охрану церкви, синагоги, кладбища и другие религиозные учреждения указанных меньшинств» (The Turkish Government undertakes to grant full protection to the churches, synagogues, cemeteries, and other religious establishments of the above-mentioned minorities). Естественно, «полноценная охрана» включает в себя не только отказ от разрушения и уничтожения церквей, но и их укрепление и реставрацию. Следовательно, частичная реставрация церкви Сурб Хач и право на проведение в ней литургии раз в год – это не «проявление доброй воли», а далеко недостаточное и запоздавшее выполнение Турцией взятых по основному закону международных обязательств, из соображений определенных политических спекуляций. В соответствии с этим, не в наших интересах открывать широкие возможности этим спекуляциям. 14 августа 2010 г.
-
Севрский договор можно воплотить в жизнь 90-летие с момента подписания Севрского договора – важное событие в жизни Республики Армения, а также всего армянства. Но есть одно распространенное заблуждение, нуждающееся в разъяснении: земельные права армян не базируются на Севрском договоре. Севрский договор не определял границы между Арменией и Турцией: в соответствии с 89-й статьей договора, стороны обратились к президенту США с тем, чтобы он своим Арбитражным (arbitration) решением определил указанную границу. Даже если бы не было Севрского договора, то все равно, у Армении сегодня были бы неоспоримые земельные права, поскольку еще 26 апреля 1920г. конференция в Сан-Ремо от имени Союзнических сил (Британской империи, Франции и Италии) обратилась к президенту Вильсону с просьбой провести делимитацию (delimitation) границы между Арменией и Турцией, и президент США дал свое согласие на это 17 мая 1920г., то есть почти за 3 месяца до заключения Севрского договора (Севрский договор был подписан 10 августа 1920г.). http://' target="_blank"> Важность подписания Севрского договора с точки зрения земельных прав заключается в том, что, подписав договор, Турция тоже составила часть арбитражного иска (arbitration compromis) и тем самым вновь подтвердила свое обязательство считать любое арбитражное решение президента США обязательным для исполнения. Подчеркиваю, вновь подтвердила, поскольку, заключив Мудросское перемирие (30 октября 1918г.), которое по своему правовому характеру означало безоговорочную капитуляцию, Турция сдала свой суверенитет победившей стороне, и за этой стороной было закреплено право решать, на какой части Османской империи будет восстановлено турецкое государство. Следовательно, наша борьба на правовом поле должна базироваться на двух документах – Севрском договоре (10 августа 1920г.) и, тем более, на производном от этого договора Арбитражном решении президента США Вудро Вильсона (22 ноября 1920г.). По поводу первого следует сказать, что, несмотря на то, что он не ратифицирован, тем не менее, это документ, обязательный для исполнения (binding document), поскольку был подписан «между высокими договаривающимися сторонами» (См. Vienna Convention on Law of Treaties, Article 2 (f)). По поводу второго необходимо подчеркнуть следующее: а) Арбитражное решение – не подлежащее кассации, бессрочное и обязательное для исполнения решение; б) Арбитражное решение, хотя и было принято президентом США, тем не менее, является обязательным документом для 142-х из нынешних 192-х стран – членов ООН. (Вследствие ограничения в плане объема материала, я не детализирую вопрос, однако он обстоятельно рассмотрен в моей «Концепции решения Армянского вопроса»). Подытоживая, можно сделать следующий вывод: положения Севрского договора по части земельных прав Республики Армения, благодаря выше рассмотренным документам, однозначно актуален и, при соответствующей работе и политической ситуации его можно воплотить в жизнь. 10 августа 2010г.
-
КОГДА СОВЕТНИК ИЗ ЦРУ – ЭТО БОЛЬШАЯ УДАЧА Информационное агенство «Регнум», известное своей братской заботой о благополучии и безопасности Армении, растиражировало слова «совести армянской нации» Тиграна Карапетовича Карапетяна о том, что политолог Ричард Киракосян, сотрудничающий в Центре национальных и стратегических исследований в Ереване, является человеком ЦРУ и одновременно советником президента Армении. Конечно, Тигран Карапетян – большой патриот, каких в нашей стране крайне мало. Он создал интригующие телевизионные передачи, что называется «интеллектуальное вещание для народа», и успешно конкурирует со многими СМИ конформистского характера, от которых просто физически тошнит. Его телевещательная корпорация последовательно борется с различными проявлениями непатриотичности и откровенной продажности. Но при чем тут Ричард Киракосян и ЦРУ? Ричард Киракосян талантиливый и блестяще подготовленный политолог и адекватно выступает как эксперт по вопросам международной политики и проблемам безопасности. Пока что он несколько закомплексован и не достаточно хорошо понимает цели и задачи государств региона, а также, выступает по военно-политическим вопросам с некоторой заданностью. Но на фоне многих совершенно безграмотных армянских экспертов, которые либо отрабатывают свои чаевые, либо предполагают чаевые в будущем, Ричард Киракосян это, безусловно, пример эксперта, с позицией профессионала. Но дело в другом. Неужели нужно подвергать сомнению работу человека, который представляет ЦРУ? Если человек из ЦРУ является советником президента, это большая удача и представляет большой интерес. А каких же иметь советников, может быть из числа ереванской шпаны? Но вопрос в том, что принесли нашей стране советы, которые предоставляет армянскому президенту человек из ЦРУ? Видимо в ЦРУ существует несколько группировок с противоречивыми целями и задачами. Очевидно, что настало время разоблачить другого советника президента, представляющего ФСБ. Но кто же будет лучше об этом знать, если не «Регнум»?
-
Основной инструмент политики Турции В выступлении в Национальном пресс-клубе США премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал: «Странам, закрывающим глаза на деятельность террористической организации ПКК, придется дорого заплатить за это», упрекал: «один из лидеров ПКК, задержанный недавно во Франции, был освобожден, и отправился в Австрию, а оттуда в Ирак», удивлял: «Среди членов террористической организации ПКК есть и армяне». Эрдоган еще и банально врал. Чему, откровенно говоря, мы давно уже не удивляемся. Премьер-министр Турции выразил также протест против того, что ряд органов прессы США называют членов ПКК (Курдской рабочей партии) «курдскими мятежниками»: «Это недопустимо. Нельзя говорить о террористах, когда речь идет об «Аль-Каиде», и считать мятежниками членов ПКК. Где логика?» Логика проста, господин премьер-министр. Террористы, это лица, прибегающие к терактам в целях устрашения населения и влияния на политику государства. Террористы не выбирают целей, им нужны жертвы, как можно больше жертв: неважно, детей, женщин… И представители печально известной «Аль-Каиды», «прославившиеся» кровавыми терактами в городах Америки и Англии, Испании и Индонезии, являются истинными террористами, борьба против которых является долгом любого государства и всех людей. Между тем, представители ПКК, в том числе и те, кто борется против турецкого государства с оружием в руках, никак не могут быть отнесены к террористам. Это именно мятежники, или, что вернее, повстанцы. Более того, с некоторой натяжкой, но их можно назвать и деятелями национально-освободительной борьбы. Курды никогда не являлись друзьями армянского народа. В Армении знают и помнят об участии курдов в учиненном в Османской империи кровавом Геноциде армян. Тем не менее, истина дороже. А истина заключается в том, что атакам боевых отрядов ПКК подвергаются военные подразделения или объекты Турции. А обстрел или уничтожение, скажем, танковой колонны, при всем желании Эрдогана, невозможно классифицировать в качестве терактов. Это – диверсии, единственной целью которых является ослабление военной мощи противника. Попытки причислить диверсантов к террористам являются абсурдом, отрицающим право народов на партизанскую борьбу. Международное право не регламентирует способы ведения национально-освободительной борьбы. Это могут быть митинги, сбор подписей, петиции или вооруженная борьба. Все зависит от обстоятельств и от поведения государства, за освобождение от ига которого борется тот или иной народ. Курды, после десятилетий бесплодных попыток мирно договориться с турецкой властью, сегодня пытаются прибегнуть к вооруженной борьбе. Это их право, повторимся, международное право не отрицает. А в вооруженной борьбе диверсионные акты становятся необходимостью. Как бы к этому ни относился Эрдоган. Так что «ряд органов прессы США» совершенно справедливо и в полном согласии с международным правом отказываются признать боевиков ПКК террористами. Собственно говоря, все это прекрасно известно и турецкому премьер-министру. Просто он, зная о справедливом неприятии терроризма мировым сообществом, стремится преподнести этому самому сообществу курдов в образе террориста. Заявляя, что среди членов ПКК есть и армяне, Эрдоган пытается решить сразу несколько задач, в том числе: а) армяне действуют в рядах террористической организации, каковой, по мнению Эрдогана, является ПКК; б) Армяно-турецкая граница не может быть открыта, ибо в этом случае в Турцию хлынут «террористы-армяне»; в) Геноцид армян в Османской империи явился борьбой турецкого правительства против армянских террористических организаций. При этом, правда, сам Геноцид армян в Турции современные турецкие политические деятели «стыдливо» именуют депортацией. Между тем, армян в ПКК не может быть по определению. Мы уже упомянули о роли курдов в безжалостном уничтожении полутора миллионов армян в 1915-1923 годах. Не меньше бед претерпели армяне от курдов и в предыдущие годы. Достаточно напомнить, что созданные кровавым султаном Гамидом карательные отряды «Гамидие», на совести которых сотни тысяч армянских жизней, практически сплошь состояли из курдов. Вряд ли в данном случае применим принцип «враг моего врага…» Но Эрдоган еще и предупреждает: «Завтра, когда те, кто сейчас избегают совместной борьбы с террором, столкнутся с той же проблемой, будет слишком поздно». Данная фраза, если отвлечься от турецкой действительности, действительно правдива. Именно об этом руководство НКР предупреждало мировое сообщество, когда в годы Арцахской войны вынуждено было воевать с зарождающимся мировым терроризмом. Тогда в Азербайджане «набирались опыта» Басаев и Хаттаб, афганские талибы и турецкие националисты. В те годы Баку активно прибегал к услугам названных террористов, способствовал укреплению связей между ними, создавал непрерывную цепь террористических организаций: от Индонезии до арабских стран. Последствия проявленного в те годы безразличия к судьбе населения НКР и пожинает сегодня мировое сообщество. Ныне премьер-министр государства, с ведома и, возможно, одобрения которого зрел в Азербайджане интернациональный терроризм, пугает мировое сообщество терроризмом. При этом он, преподнося ПКК в качестве террористической организации, сознательно смещает акценты, тем самым разрыхляя почву для новых действительно террористических организаций. В Америке Эрдоган не мог не затронуть и вопрос Геноцида армян в Османской империи: «На самом деле геноцида не было. Во время войны произошло переселение армян, поднявших мятеж при подстрекательстве некоторых стран. В наших архивах имеются документы, доказывающие эти факты. Мы призвали и другую сторону представить архивные документы, однако оппоненты не могут этого сделать». Премьер Турции не историк. Не думаем также, что в годы пребывания в турецкой тюрьме за пропаганду исламизма и шовинизма, он читал книги по истории. Тем не менее, Эрдоган обязан знать, что в самой Турции главари «Иттихада» были приговорены к смертной казни за организацию и исполнение Геноцида армян. Турция была первым государством в мире, признавшим Геноцид армян. И от этого факта Реджепу Тайипу Эрдогану никуда не деться. Что же касается «другой стороны», якобы не могущей представить подтверждающие Геноцид архивные документы, то и здесь Эрдоган соврал: в одном лишь решении Комитета по внешним делам Конгресса США указано и перечислено множество архивных материалов. Хотя, о чем это мы? Ложь давно уже является неотъемлемым инструментом политики Турции. 17 ноября 2007 г.
-
США И ТУРЦИЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ Еще совсем недавно казалось, что политика США в Черном море все более обретает обозначенные контуры. Бассейн Черного моря (включая не только акваторию, но и прибрежные площадки стратегического значения и отдельные регионы) рассматривается США как ключевой регион в планах обретения новых позиций в Европе и в Евразии. Без контроля над бассейном Черного моря вряд ли возможно продолжение евразийской стратегии США, прежде всего, в части осуществления контроля над энергетическими коммуникациями. Вместе с тем, европейская политика США также предполагает утверждение новых позиций в этом бассейне. Американское военно-политическое присутствие в Черном море призвано не только обеспечить влияние в Евразии, но и поставить в большую зависимость всю Европу. Вместе с тем, наряду с некой интегрирующей экспансией в направлении внутренних регионах Евразии, преследуется цель не допустить формирование некоторых «альтернативных альянсов», которые могут включить крупные державы Евразии, прежде всего, Турцию и Россию, а также Россию и Европу. Таким образом, Черное море сейчас рассматривается не только как интегрирующий полигон, но и разъединительный. Эти две стратегии, видимо, будут развиваться параллельно, во взаимодополняющем режиме. Несмотря на относительно новую тему, политика и цели США в Черноморском бассейне стала занимать заметное место в политической литературе. При этом, главной интригой является то, что Турция с опасениями воспринимает данные цели США, предвидя снижение своей геостратегической роли, возникновение новой геополитической конфигурации, в которой она не сможет занять то место, которое считает для себя достойным. Например, приводится в качестве конкретного примера опасение Турции в отношении возможной коррекции или отмены соглашений Монтре 1936 года по Черноморским проливам. Эти опасения и противоречия в турецко-американских отношениях, действительно, имеют место, но этим вовсе не исчерпываются проблемы отношений между традиционными союзниками в Черном море. США явно не проявляют заинтересованности в усилении турецкого политического и геоэкономического влияния в Черноморском бассейне. Имеются немало примеров «отсутствия энтузиазма» со стороны США в оказании содействия Турции на огромном пространстве Евразии, а также на Кавказе и на Балканах. Особенно внимательно и настороженно США наблюдают за попытками Турции обрести новые, более предпочтительные позиции в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов и вообще в сфере транспорта. США не пытаются свести роль Турции в этих сферах к минимуму, напротив, США немало сделали для обозначения роли Турции в энергокоммуникационной системе, но всегда пытались и ограничить значение Турции, не допуская ее монопольного или суб-монопольного положения в транспортировке энергоресурсов. В данных противоречивых условиях, Турцию более всего беспокоит не стремление собственно США в усилении своего присутствия и влияния в Черном море, а интеграция данного региона в НАТО. В ряде публикаций американских и турецких авторов, в какой-то мере, неоднозначным образом прослеживается эта идея, хотя она так и не была до сих пор выражена более-менее определенно. Европейские авторы вообще не обратили внимание на это обстоятельство, хотя остается не понятным, нарочита ли эта позиция европейских экспертов или они не уделяют достаточного внимания этой проблеме. Государства Южного Кавказа весьма заинтересованы в утверждении «третьей силы» в Черном море и на Кавказе, которая может быть представлена только вооруженными силами США. Если Грузия рассматривает военное присутствие США в Черном море как противовес России, то Армения видит в этом присутствии силу, сдерживающую натиск Турции, в особенности, в перспективе, что, в конечном счете, станет необходимо и Грузии. Несмотря на беспримерное ухудшение турецко-американских отношений, которое началось в 1998 – 1999 годах и было вначале связанно с тем, что США окончательно дали понять Турции свое «безразличие» к ее планам в Центральной Азии и на Кавказе, а затем такое же «безразличие» к экономическим проблемам Турции, что, по мнению турецких авторов (особенно, левого направления) привело страну к небывалому, системному экономическому кризису, оба государства имели политические ресурсы для удержания отношений на приемлемом для стратегических партнеров уровне. То есть, Турция неоднократно демонстрировала способность нивелировать наиболее острые углы в отношениях с США, хотя многие проблемы остались нерешенными. Однако, Турция в значительно большей степени опасается политических тенденций, которые проявляются в НАТО и в Европейском Союзе. Особенно беспокоит Турцию снижение влияния США в НАТО, «европеизация» НАТО, возникновение Евро-НАТО как объективной реальности. Последние годы продемонстрировали, что Турция располагает минимальными ресурсами влияния на Европейское Сообщество и НАТО, несмотря на свое геостратегическое значение для альянса. (Даже такой вопрос, как суверенизация Косово, чему Турция уделяла немалое внимание и применяла различные усилия, вроде бы, решается на чисто европейско-американском «поле», исключая какую-либо роль Турции, в результате чего Турция не сумела презентовать косовский проект как хотя бы отчасти свой в исламском мире. Уже сейчас, когда проблема Косово выведена на арену ООН, Турция проявляет беспокойство, что эта проблема может быть решена без ее участия.). В рамках рассмотрения данных планов США в Черном море можно отметить, что Турция в создавшихся условиях, которые так или иначе не отвечают ее интересам, все же, предпочитает иметь дело только с США или преимущественно с США, чем с НАТО, как с глобальной интегральной системой безопасности. Включение в НАТО Болгарии и Румынии уже стало ударом по интересам Турции, заявки Грузии и Украины, которые, якобы, серьезно рассматриваются в НАТО, в еще больше мере нивелирует роль Турции, которая несколько десятилетий имела исключительное значение для Западного сообщества. (Автору пришлось наблюдать совершенно неадекватную реакцию американских экспертов турецкого происхождения в США и Великобритании весной 2000 года, когда Госсекретарь США Мадлен Олбрайт предприняла очень незначительные шаги по урегулированию отношений с Ираном.) Любые признаки в политике США, которые стремятся найти альтернативу роли Турции в регионах, вызывают буквально панику в Анкаре. Поэтому обиды Турции в отношении процессов в Ираке или в Центральной Азии, а также попытки Турции стать главным посредником в отношениях Ирана с Западом- это всего лишь инструментарий продавливания своих позиций. Вся, без исключения, «новая восточная» политика Турции направлена на получение одобрения европейцев и американцев в части признания «прав» Турции на создание зоны ее преимущественного доминирования, включая соседние и более дальние регионы. Может показаться противоречивым утверждение о том, что Турция считает менее предпочтительным европейские интеграционные усилия в регионах Евразии и Ближнего Востока американской дезинтеграционной политике, так как Турция настойчиво стремится в Европейское сообщество. Тем не менее, Турция всегда ощущала, что ее политика в западном направлении должна быть максимально дистанцирована от ее восточной, особенно ближневосточной политики. Вначале подспудно, а затем вполне явственно турки ощутили, что эта два направления ее политики станут несовместимыми, если европейцы будут иметь права корректировать турецкую политику на Востоке. А интересы и политика США в Евразии и на Ближнем Востоке, несмотря на наличие многих противоречий, все же, могут быть согласованы с Турцией, и тому есть много примеров, даже сейчас. Следует отметить, что, якобы, последовательная «стратегия» США, направленная на интеграцию Турции в Европейское сообщество, представляется просто тщательно замаскированным блефом. США никогда всерьез не рассматривали Турцию как европейское или же как про-европейское государство. Турция, дистанцированная от Ближнего Востока, ставшая барьером между Европой и Ближним Востоком, не нужна США и не удовлетворяет их стратегических потребностей. Весь этот 40-летний сценарий по проталкиванию Турции в Европейский Союз - ни что иное, как американо-британский проект консервативного характера, доказывающий приемлемость влияния определенных политических кругов в Великобритании и в США. Одним из доказательств тому стало различное видение в Вашингтоне роли и функций Турции и стран Южного Кавказа. Если Южный Кавказ, как преимущественно христианский регион тенденцией прозелитизма, рассматривается как составная часть Европы, то Турции уделено место маргинальной страны и цивилизации, выполняющей транзитно-цивилизационные функции. Таким образом, из двух зол Турция предпочитает выбрать меньшее, которое связанно с задачами США в Черном море и которые могли бы осуществляться вне рамок НАТО. Рассматривая поведение и позицию Турции в отношении интеграции государств Южного Кавказа в НАТО, включая непосредственное их членство в альянсе, принимая во внимание, что Турция не могла правильно информировать своего партнера – Азербайджан относительно реальных планов НАТО, что отражалось в поведении руководителей Азербайджана в отношении данного вопроса, можно с большой уверенностью утверждать, что Турция всегда скептически рассматривала перспективы интеграции государств Южного Кавказа в НАТО. В целом, Турция никогда не была в этом заинтересована. Государства Южного Кавказа, оказавшись в НАТО, будут более независимы от Турции, что никак не увязалось с ее стратегическими интересами. Вместе с тем, Турция не способна никак ограничить данные интеграционные процессы. Но разделение двух версий усиления американского политического и военного присутствия в Черном море вовсе не означает некое механистическое планирование и реализацию планов. США не могут осуществить эти планы вообще без участия НАТО, особенно, в условиях развития военного базирования на территории стран-членов НАТО – Болгарии и Румынии, аналогичных перспектив в отношении Украины и Грузии. Нельзя игнорировать такую синтетическую задачу, как использование американского военного присутствия в Черном море - как важный рычаг расширения состава, функций и зоны ответственности НАТО. Поэтому Турции не представится возможным избрать даже сравнительно предпочтительный вариант сотрудничества в Черном море в сфере безопасности. Политические процессы в Черноморском бассейне обретают все более сложный характер, с включением различных государств, прежде всего, России, которая выражает надежды установить с Турцией более тесные отношения. Поэтому перед Турцией встали весьма сложные внешнеполитические и оборонные задачи, что станет очень существенным довеском к ее проблемам в Европе и на Ближнем Востоке. Проблема Турции в данном геополитическом направлении в Черноморском бассейне заключается еще и в том, что ей не суждено сделать выбор, ей придется проводить филигранную политику соблюдения балансов и лавирования, то есть, то, чем она занималась десятилетия, но и чем ей придется заниматься в еще более сложном международном режиме. В связи с этим, представляет интерес то, что политическая дискуссия по этому поводу, которая развернута в Турции, намного опережает те реальные процессы усиления влияния США, которые происходят в Черном море. Становится ясным, что усилия США в Черном море, являясь многоцелевой задачей, наряду с иными целями, преследует цель установить ограничители в развитии турецко-российских отношений, поэтому данные планы, несомненно, в какой-то мере, приведут к обратному эффекту, и Турции придется искать способы уравновешивания влияния США, независимо от того, будут ли они действовать в Черном море в русле политики НАТО или более-менее самостоятельно. Американцы, конечно же, понимают это и торопятся посвятить Турцию в свои планы, надеясь на возобладание в турецких военных и политических кругах амбициозных настроений анти-российского или, по крайней мере, евразийского характера. Но, скорее всего, эти намерения американцев столкнутся с последствиями негативного опыта турецко-американских отношений в направлении Евразии, когда США практически торпедировали имперские планы Турции. В дальнейшем развитие турецко-американских отношений во многом будет обусловлено планами США в Черном море, то есть тем, в какой мере США добьются успеха или потерпят неудачи в осуществлении этих планов. Если США сумеют добиться успеха, роль Турции станет весьма незначительной, если произойдет обратное, Турция вновь обретет свое место в геополитической конструкции. Пока в планах США в Черном море Турция остается в резерве. Вместе с тем, Турция, по крайней мере, в период, пока у нее сохраняются надежды на вступление в Европейский союз, вынуждена будет примеряться в этом проекте с европейцами, в том числе, с ведущими европейскими государствами. Но это уже приведет к самоограничению Турции в содействии усилиям США в Черном море, которые для европейцев означает стратегию создания глобальной, или, по крайней мере, межрегиональной разъединительной линии. Одновременно, остается непонятным, каким образом политика США и Великобритании, направленная на ограничение роли Турции в региональной и в энергетической политике, может сочетаться с ее интеграцией в черноморский процесс, где она, несомненно, потребует учета своих интересов. Возможно, США и предпочтут консолидацию с Турцией. Можно допустить, что Черноморский проект недостаточно сбалансирован и рассчитан, как и многие другие региональные политические проекты. Создается впечатление, что в данном случае, как и во многих других случаях, применяется принцип «главное - вступить в драку». В настоящее время, США предпочитают не придавать Турции роли макродержавы, во многом, в связи с тем, что понимают лучше других ее подлинные экономические и политические возможности. Наряду с этим, США придерживаются тактики не включаться в активную политику по сдерживанию турецких амбиций, рассчитывая, что экспансия Турции, конечно, вызовет противодействие России, Ирана, балканских, кавказских и арабских государств, что явится важным условием успешной политики США в этих регионах. Только если Турция предпримет более радикальные способы в осуществлении своей политики, США предпримут более решительные действия. Вместе с тем, вообще отрицать действенность нынешней политики США, направленной на сдерживание Турции, невозможно. Эта политика уже обозначена и будет развертываться в очередном порядке. Черноморская политика США пока заторможена, что также вмещается в данную тактику «не опережать события». Принимая реальность данной перспективы, допустимо предположить, что для стран Южного Кавказа возникает новый или, вернее, актуализированный «Черноморский фактор», который будет играть более важную роль в смысле безопасности или угроз и рисков, нежели такие факторы, как «иракский», «иранский», «северокавказский» и какой-либо другой. Одновременно, усиление «черноморского фактора» будет означать, что вступление государств Южного Кавказа в НАТО будет деактуализировано. США никогда не рассматривали Южный Кавказ как территорию, интегрированную в НАТО на уровне членства, а предпочитали рассматривать прямые отношения с данными странами, минуя альянс. Несмотря на столь демонстративное продавливание этой задачи администрацией и Конгрессом США, данное видение стратегическое перспективы Южного Кавказа остается прежним. Развитие Черноморского проекта усиливает данную позицию США, которая вполне ощутимо сформировалась уже во второй половине 90-х годов. Все то, что приводит к усилению европеизации НАТО, является неприемлемым для США. Пока США сделали паузу в отношении Черного моря и Кавказа, и это станет условием усиления брутальности и возрастания угроз в регионе. Сумеет ли Россия в этих условиях упорядочить ситуацию в регионе и стать главной силой сдерживания угроз?
-
РОССИЯ И БЛОКАДА ИРАНА В настоящее время ирано-российские отношения переживают период напряженности, что объясняется иранскими политиками и функционерами как результат стремления политического руководства России сформировать «новые» отношения с США, ведущими государствами Европы и Европейским союзом в целом. Только в последние недели Высший совет безопасности Ирана дважды обсуждал вопросы отношений с Россией, и, скорее всего, пока в Тегеране нет определенного понимания того, каким образом нужно поступать в дальнейшем в отношениях с Москвой. Имеются некоторые признаки того, что в Тегеране прошел некоторый этап истеричности и реактивного поведения, видимо, иранцы пришли к выводу, что следует решать не сиюминутные проблемы, а разработать долгосрочную программу выстраивания политики с Россией заново. Исходя из отдельных фрагментов, можно придти к выводу, что Иран пересмотрит свое отношение к некоторым регионам России с преимущественно исламским населением. Если ранее иранцы вели себя достаточно сдержано и деликатно в отношении Дагестана, Чечни, Татарстана, то, видимо, в последующем иранцы предпримут более экспансионистскую политику в этих регионах, то есть, попытаются использовать свое присутствие в них для давления на Россию. В настоящее время иранцы пытаются развернуть пропаганду в части прав России на территории Кавказа и Центральной Азии и поставить под сомнение договора, заключенные в результате русско-персидских войн. В настоящее время посольствам Ирана в странах Южного Кавказа и Центральной Азии поручено разработать мероприятия и инициативы, касающиеся претензий Ирана в этих регионах, при акценте, направленном против интересов России. Пересматривается роль и политика отдельных политиков России, интересы и деятельность отдельных групп политиков и лидеров бизнеса в проведении политики в иранском направлении. Если привести суть и характер претензий Ирана к России в свете предыдущих и нынешних отношений, то допустимо следующее. Современная политика России в отношении Ирана сформировалась в 1996 – 1997 годах, когда была исчерпана позиция правительства Бориса Ельцина в отношении так называемого договора А.Гор – В.Черномырдин, который предполагал жесткое ограничение в поставках обычных вооружений и различных высоких технологий Ирану. Ранее назначенный шефом Внешней разведки России Евгений Примаков был назначен министром иностранных дел, с чем консервативными и левыми политическими кругами в Москве связывались изменения в российской внешней политике. В 1996 году состоялась примечательная поездка Е.Примакова в Тегеран, что вызвало тогда воодушевление в иранском политическом руководстве. В июне 1997 года президентом Ирана был избран М.Хатами, что вызвало некоторое беспокойство в Москве, так как новый президент считался либералом и реформистом, и это вызвало у русских опасения в части возможного сближения Ирана и Запада. Но эти опасения вскоре были исчерпаны, так как на внешнюю политику Ирана оказывали влияние не только президент М.Хатами и его сподвижник, министр иностранных дел К.Харрази, но и более консервативно настроенный Высший совет национальной безопасности. В тот период, в условиях эйфории по поводу политики Е.Примакова, некоторые советники и консультанты иранского руководства утверждали, что политика Е.Примакова заключается не в развертывании отношений с Ираном, а в определении ограничений, которые были расставлены в российско-иранских политических и военно-технических связях. Иранские официальные лица не хотели в это верить некоторое время, так как Россия стала поставлять Ирану различную гражданскую и военную технику, продолжала сооружать Бушерскую атомную электростанцию, критически относилась к попыткам США изолировать Иран. Иран, в свою очередь выполнил все обязательства по проблемам этно-религиозных движений на Северном Кавказе, «северного альянса» в Афганистане, невмешательства в Южный Кавказ, в части газовой политики и другим ключевым региональным проблемам. Вместе с тем, Иран все более ощущал, что политика России направлена не только на ограничение поставок военно-технического и высоко-технологического характера, но и на сдерживание усиления региональных позиций Ирана. Практически, 2000-е годы прошли под знаком взаимного недоверия между Ираном и Россией. Россия поставляла Ирану некоторые довольно устаревшие виды обычных вооружений, некоторые материалы двойного назначения, средства гражданской авиации (отличающиеся моральным и физическим износом), при этом, поставки нередко срывались, носили нерегулярный характер. Москва обвиняла иранцев в неспособности строгого соблюдения договорных обязательств и оплат за поставки. До сих пор Россия не выполняла обещания по поставкам ракет S-300, что рассматривалось Ираном как «удар ножом в спину» в условиях постоянных угроз США и, в особенности, Израиля. Россия активно проводила контрразведывательную деятельность в отношении попыток Ирана получить различную техническую документацию и некоторых комплектующих изделий для производства военной и иной продукции. Имели место случаи, когда в Москве и в других городах России контрразведка нарочито организовывала «утечку информации» для организации провокаций в отношении агентов промышленного шпионажа Ирана. При этом, результаты этих реальных и вымышленных контрразведывательных операций подавались в открытой печати. Такие отношения между двумя государствами нельзя назвать дружественными. Одновременно, Россия подрывала позиции Ирана в Северном Афганистане и в Таджикистане, совершенно не была заинтересована в усилении позиций Ирана в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии, даже при всевозможных намеках и репликах иранцев о возможном сотрудничестве с целью ограничить влияние США. В Москве рассуждают таким образом : «Американцы в Центральной Азии и на Кавказе - временные командировочные, а иранцы – это надолго». Планы иранцев по поводу транспортировки газа в Армению были заметно скорректированы Россией, которая опасается возникновения конкурента в поставках газа в Европу. Достаточно грубым ответом на стремление Ирана усилить свою роль в мировой и региональной политике стал практический отказ от принятия Ирана в ШОС, хотя, наряду с русскими, в этом не были заинтересованы и китайцы. Во второй половине 2000-х годов Россия пыталась компенсировать свои неудачи в установлении более тесных партнерских отношений с державами Запада развитием отношений с крупными и не очень крупными государствами исламского юга, прежде всего, с Ираном, Турцией, Сирией, Египтом, а также Пакистаном и Индией. Однако, выяснилось, что развертывание отношений с данными азиатскими государствами не менее сложное дело, чем отношения с западными странами. Часть из данных азиатских государств, прежде всего, Индия и арабские государства находятся под сильным влиянием США, и проделать «брешь» в сложившихся отношениях нелегко. Другие государства, прежде всего, Турция, находятся на распутье и в поиске «нового пути» и не менее опасны для России, чем для американцев или европейцев. Дружба и определенные тесные отношения с Ираном, по мнению российских политиков, наносит их стране значительный ущерб, так как ставит под сомнения обязательства России в отношениях с ведущими западными партнерами, а также раздражает и многие государства Ближнего Востока, рассматривающие Иран в качестве противника. После 2007 – 2008 годов Россия, видимо, решила вернуться к задаче установления более тесных партнерских отношений с Западом - как безальтернативному пути, чему может помешать ее лояльное отношение к Ирану. В настоящее время произошли заметные изменения в позиции и логике поведения ведущих европейских государств в отношении Ирана. Франция и Германия пытаются выработать и проводить новую, более самостоятельную политику в отношении Ирана, не зависимую от мнения и позиции США. Великобритания, длительное время пытающаяся играть роль посредника между Ираном и Западным сообществом, теперь вынуждена солидаризоваться с европейскими партнерами. Франция и Германия шаг за шагом дистанцируются от политики США и стремятся приблизить политику США к своей политике, тем самым занять более важную роль в международной политике. Иранская проблема стала важным фактором формирования новых позиций ведущих европейских континентальных государств, и они не собираются в дальнейшем возвращаться к прежнему положению, когда они были всего лишь «второстепенными» участниками процесса давления на Иран. В отличие от Великобритании и США, Франция и, в особенности, Германия, являются масштабными экспортерами промышленной продукции и инвестиций в Иран и не заинтересованы в блокировании и изоляции Ирана. Вместе с тем, европейцы усилили давление на Иран, стремясь его сделать, прежде всего, европейским «клиентом», привязывая его на свою стратегию и политику. Европейцы понимают, что подлинная экономическая блокада Ирана невозможна без их участия, и не торопятся с реализацией своих планов по этой проблеме. Вместе с тем, Франция и Германия обретут гораздо более сильные позиции по иранской проблеме, если будут сотрудничать с Россией, которая является важнейшим партнером Ирана в экономике, технологии и политике. Создание тройной «связки» Франция – Германия – Россия, при вынужденной солидарной позиции Великобритании, позволит однозначно переставить фигуры в игре и поставит США в положение державы, которая утратила монополию в диктовке требований в отношении Ирана. Франция и Германия также надеются, что, так или иначе, Китай будет вынужден приблизиться к их позиции по иранской проблеме. Россия понимает и свою важную роль в этой игре, но и понимает, что отказ от сотрудничества с европейцами приведет к ее изоляции в мире, к возможному вынужденному возвращению европейцев к сближению с США и утрате реальной инициативы в «иранской игре». Для России «иранская игра» - это шанс для обретения достойного места в европейской политике, демонстрации своей способности проводить политику в Европе по правилам и приемам, принятым в европейской политике. Наряду с решением основной стратегической задачи – войти в европейскую политику достойным образом, на полных правах европейской страны, Россия стремится регулировать, с помощью «иранской игры», энергетическую политику, прежде всего, сохранить позиции в глобальном газовом бизнесе. Россия выдвинула свою концепцию европейской безопасности, которую критикуют США и Великобритания, и хотела бы продемонстрировать готовность пожертвовать своими амбициями в Азии во имя солидарности с европейскими партнерами. Вместе с тем, для России важна и другая сторона медали в «иранской игре» - усилить свою роль для Ирана как партнера, и она хотела бы использовать свою роль в Европе и на Западе в целом для демонстрации своей значимости в мире. Идеальным положением дел для Ирана является максимальное дистанцирование России и Китая от Западного сообщества, что подает надежды иранцам на установление более тесных и доверительных отношений с данными двумя державами. Для Ирана не все потеряно, так как ни Китай, ни Россия не торопятся принять требования Запада и проводят политику в своих интересах. Иран в отношении проблемы санкций ведет себя довольно уверено. Идеальным для России стилем в отношениях с Ираном является «удержание его на привязи» как «соподчиненного государства». Таковыми были взгляды и намерения Москвы в отношении Ирана, практически, всегда и до исламской революции, и после. В соответствии с этой постановкой задачи, Россия не может допустить ускоренного технологического развития Ирана и весьма заинтересована в ограничениях, которые выстраивают США и их партнеры в части сотрудничества с исламской республикой. Но Иран уже не тот, каким был после тяжелейшей и разрушительной войны с Ираком, и удерживать это динамично развивающееся государство под контролем Россия не сможет, если не будет солидарна с ведущими технологическими и экономическими державами Европы. В альянсе с Европой Россия могла бы проводить в отношении Ирана более маневренную и эффективную политику, удерживая его в определенных рамках отношений. В последнее время Иран предпринимает контр-реакцию на столь однозначную политику России, вспоминая, в том числе, и историческую ретроспективу, указывая на захватническую политику России в Южном Кавказе в начале 19 века. Одной из актуальных задач России является увязка «иранской игры» с планами США по установлению системы ПРО в Европе, направленной на защиту от иранских баллистических ракет дальнего действия. Данная ситуация только кажется достаточно прозрачной. В действительности, ситуация весьма запутана, и Россия так и не сумела заручиться согласием Ирана на совместное проведение этой ситуационной игры, где контр-партнерами являются США и Израиль. Одновременно, США также не принимают в должной мере данную игровую ситуацию и вовсе не собираются разменивать давление России на Иран на решение по поводу размещение системы ПРО. Игра пока не получилась, и никто не может сказать, насколько США и Россия способны придти к согласию по этой проблеме, но Иран, в любом случае ощущает себя в ущербном положении. Помимо попыток увязать «иранскую игру» с общими проблемами в отношениях с США, Россия привлекает к этой игре и Израиль, прекрасно понимая, что это в высшей степени раздражает Иран. На протяжении многих лет Россия использовала иранскую тему для решения своих проблем с западными государствами, и довольно часто в Иране возникали значительные претензии к России. Но, тем не менее, России удавалось выходить из данных ситуаций в качестве чуть ли не «спасителя» Ирана, что воспринималось в Тегеране как приемлемое решение, так как международное положение Ирана оставалось тяжелым, и Россия была нужна иранцам, несмотря на отсутствие желаемых отношений. Иранцы очень хорошо понимают, что заигрывание России с европейцами не приведет к присоединению русских к политике блокирования Ирана, даже в ограниченном формате. Если для Западного сообщества блокирование и изоляция Ирана - вполне приемлемая позиция для удержания Ирана под контролем, то для России какая-либо форма блокирования означала бы утрату важнейших позиций на южном стратегическом направлении. За последние два десятилетия в Москве поняли, что Иран является единственным возможным стратегическим партнером для России на огромном пространстве от Средиземноморского бассейна до Китая. В ряду региональных макродержав Передней и Южной Азии – Египет, Турция, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, Индия - для России нет государства, заинтересованного в отношениях стратегического характера с Россией. Даже Индия, которая много лет рассматривалась в качестве стратегического партнера для России, теперь все более ориентируется на США, в формате противостояния Китаю. Не исключается, что со временем большая часть из данного ряда государств станут не только «нейтральными» по отношению к России, но и ее противниками. В тандеме Россия – Иран именно Иран находится сейчас в глухой обороне и выступает в роли лоббиста своих интересов в Москве, а не напротив. Так же, как и Россия, Иран находится в положении жесткой геополитической осады, и это может сблизить позиции и сочетать интересы обоих государств. Рано или поздно данные отношения изменятся и обретут более доверительный характер. Но в настоящее время элиты обеих стран должны понять, что выдвижение в обоюдных отношениях столь критической массы отсутствия доверия и обязательств приводит к накоплению враждебности и иррационального отношения. Это не в интересах стран ни в ближней, ни стратегической перспективе. С точки зрения сегодняшнего дня может представиться парадоксальным, но будущее российско-иранских отношений во многом зависит и будет обусловлено не конфронтацией, а тесным сотрудничеством Ирана и США, которые располагают гораздо большим набором взаимных интересов, нежели противоречий. Иран, безусловно - надежный союзник США в близком будущем, что является темой другой статьи.
-
МОДЕЛЬ РАСПАДА МИРОВОГО ПОРЯДКА Киргизия, как никакая иная страна Евразии, вынуждает вспомнить «идеальные образы» Макса Вебера, так как в наш век универсальности ни один политический институт ни представлен в дефинициях так, как государство. В таких странах, как Киргизия, понятие государство весьма относительно, скорее, оно относится к дефиниции несостоявшегося государства. Использование такого государства в геополитических целях является естественным продолжением политического положения подобной страны. Выясняется, что «цветные революции» имеют свою логику и формат, что обусловливает определенный процесс, который приводит к продолжению кризиса, причем, в продолжительном времени. Чаще всего «цветные революции» очень скоро исчерпываются, но брутальные события не заканчиваются, а обретают новые свойства. Не вызывает сомнений, что события на Юге Киргизии подготовлены и разыграны кланом устраненного от власти президента, который использовал давние взаимные обиды и претензии киргизов и узбеков. Возможно, организаторы этих событий имели консультации и проводили переговоры с представителями различных заинтересованных государств, но ни одно из данных государств не допускало подобного развития событий, так как понимало цену подобных рисков. США, заинтересованные в стабильном и предсказуемом положении своей военный базы «Манас», в нынешней ситуации никак не нужны данные события. Россия демонстративно заявила, что нынешнее военно-политическое присутствие США в Киргизии, так или иначе, приводит к дестабилизации ситуации, что мало обосновано. Китай продолжает наблюдать за событиями, прекрасно понимая суть проблемы и понимания, что все это можно без особого труда локализовать. Европейцы ограничились легкими репликами. Большие подозрения имелись в отношении Турции, которая, несомненно, обладает некоторыми возможностями оказания влияния на подобные события в Центральной Азии, но это означало бы вовлечение Турции в весьма сложные конфликтные обстоятельства. Турция предпочитает придерживаться правила не вмешиваться в кризисные ситуации, спланированные или инициированные другими центрами политической воли, несмотря на то, что сама Анкара вполне допускает возможность проектировать и участвовать в конфликтах, которые приводят к усилению ее позиций в регионах. Киргизия - это удобный полигон для различных внешних инициатив, и главным направлением и целью возможных провокаций является Узбекистан, как ведущее государство Центральной Азии. Любая конфликтная инициатива в регионе тщетна, если она не связанна с интересами, безопасностью Узбекистана. Вне «узбекской арены» все другие конфликты в Центральной Азии имеют локальное значение. События июня 2010 года предполагают расширение конфликта, навязывание кризисных решений для всего региона, с вовлечением внешних центров силы. Но, данный конфликт может стать показательным для демонстрации новой логики нынешнего «мирового порядка», когда в мире усиливается изоляционизм и невмешательство во внешние дела различных государств и регионов. Данным глобальным настроениям и мотивациям предшествовали серьезные события, которые можно назвать идеовариациями «Вьетнамского синдрома». Этот синдром стал реальностью для России после «советского похода» в Афганистан и войны в Чечне, после американских военных операций в Ираке и в том же Афганистане. Для европейцев не нужно было даже участвовать в подобных авантюрах, чтобы пребывать в таком же синдроме, им достаточно было только наблюдать за этим, но даже европейцы были вовлечены в данные события. Ко всему этому добавляется вездесущая война с исламскими радикалами. Для современного Западного сообщества, частью которого, несомненно, стала Россия - растерянного и расхлябанного, пребывающего в состоянии демографического, экономического и идеологического упадка, даже относительно небольшой конфликт представляется большой проблемой. Россия не вмешалась в конфликт в Оше, не только потому, что не хотела бы предоставить «сервис» американцам, стабилизируя ситуацию в Киргизии, но и из-за нежелания включаться в чуждые для себя события. Одновременно, ОДКБ, которая недавно проектировала и утверждала специальную военную структуру, предназначенную для гашения подобных конфликтов, продемонстрировала свою индифферентность к данных событиям. США вообще не мыслили какого-либо непосредственного вмешательства, им достаточно своих забот. О вмешательстве Китая также не было речи, не говоря уже о европейцах. Следуя логике великих держав, Узбекистан, претендующий на доминирующую роль в Центральной Азии, также заявил о невозможности своего вмешательства в киргизские события. И, наконец, ШОС, претендующая на роль региональной евразийской организации, вообще не подала «признаков жизни» в этой ситуации. Допустимо предположить, что если даже какое-либо из государств, предположим, Узбекистан или Турция, вмешались бы в эти события, и тогда мировые центры силы не пожелали включаться. Этого не могут ни понимать различные государства и транснациональные военно-политические структуры, которые имеют определенные претензии в различных регионах. При этом, конечно же, речь идет далеко не только о Центральной Азии, но и о многих других регионах. Таким образом, не очень значительное событие в несостоявшемся государстве Киргизия, вернее, внешняя реакция на эти события, стало индикатором и признаком распада мировой системы безопасности. Выражаясь точнее, нужно, видимо, говорить не о мировой системе безопасности, которой институционально и неформально не существует, а о распаде и упадке мировых правил международных отношений и практики защиты глобальных интересов безопасности. Данная ситуация возникла не сразу, а стала продуктом длительного процесса распада, который, прежде всего, выразился в распаде сначала Советского блока, а затем расколе и дезорганизации НАТО. Несомненно, мировой экономический кризис, усиление противоречий между мировыми центрами силы, прежде всего, США и Европейским союзом, возникновение новых мировых политических и экономических центров подтолкнули ускорение распада, но, очевидно, что сам кризис был вызван распадом сформированных в последние десятилетия мировых правил отношений и игры. На протяжении последних двух десятилетий кто угодно - коммунисты, социалисты, либералы и консерваторы - обсуждали вопрос многополярности, проблемы создания многополярного мира, при этом осуждая американских империализм. Наконец, перспективы существования однополярного мира исчерпаны, США, практически подтвердили, что они отказываются от роли мирового гегемона. При этом, скорее всего, придется убедиться в том, что дело не только в некой политической моде и предпочтениях президента Б.Обамы. Американский истеблишмент весьма близок к идее многополярного мира, где США станут наиболее сильным, но вовсе не единственным решающим центром силы. В конце концов, американский народ, принесший столько материальных и человеческих жертв для сохранения и упрочения демократии в мире, вправе спросить своих политических и интеллектуальных лидеров о смысле американской миссии в мире. Афганистан стал только наглядным пособием кризиса мировой системы безопасности и западной системы ценностей, которая немыслима без вмешательства в региональные и иные конфликты. Видимо, Афганистан расположен слишком далеко от Океанов, для того, чтобы стать местом триумфа империй. Неспроста Китай даже и не пытается вмешаться в афганскую игру, предпочитая скупать природные богатства этой страны. По мере ослабления традиционных мировых центров силы возникают новые силовые очаги, которые представлены крупными региональными государствами. Одни из них не претендуют на региональное или мировое господство, а лишь хотели бы занять более значимое место в мире, прежде всего, в экономике, но другие претендуют именно на политическое господство. К этим наиболее амбициозным государствам относятся Пакистан, Турция, Иран, Саудовская Аравия, причем, все эти государства относятся к исламскому миру. Интересы этих государств и государств, которые они, в той или иной мере, ассоциируют, различны, и вряд ли можно ожидать создания некого блока данных стран, но каждое в отдельности уже представляет собой внушительную региональную силу. Нынешнее транснациональное радикальное исламское движение выдохлось, идет на спад, и, выполнив свою основную задачу, то есть, «расчистив» дорогу региональным макродержавам, оно будет все больше иметь локальное и децентрализованное значение. Новые претенденты на региональное и мировое господство не потерпят самостоятельных транснациональных структур и готовы выполнить свои задачи в симметричном формате. Следует отметить, что, все же, новые «претенденты» не столь могущественны, не обладают безусловным экономическим и военным преимуществом и не могут в полной мере бросать вызов мировым центром силы. Данные государства, во многом, изолированы и блокированы, вследствие исторических и политических реалий, и вынуждены продолжать играть в «часть игры». Но они способны делать вызовы во многих направлениях, вовсе не исключается их включение в региональные военные конфликты той или иной интенсивности, и намерение конструировать различные геополитические схемы, которые могут быть, в какой-то мере, привлекательными для некоторых других государств. Хотя США и Европа и рассматривают Иран как угрожающее государство, вследствие существования его ядерной программы, но имеется понимание того, что Иран никак нельзя воспринимать как агрессивное государство, имеющее экспансионистские устремления. Западное сообщество понимает, что претензии таких государств, как Турция и Пакистан, гораздо более опасны, и именно от них и исходят главные угрозы обширному пространству от Балкан до Китая. На Западе понимают, что без участия Ирана Турция и Пакистан не способны сформировать некий региональный военно-политический блок, если бы даже их поддерживала Саудовская Аравия. Для Ирана вхождение в единый блок с этими амбициозными государствами смерти подобно, и он будет придерживаться попыток сближения, скорее, с арабскими и евразийскими государствами, среди которых Иран ощущает себя в большем комфорте и безопасности. Вместе с тем, США, Европа и Россия прекрасно ощущают то, что Пакистан и, в особенности, Турция способны вызвать многие неприятные и опасные события в ряде регионов. Три западные центры силы пытаются принять тактику выжидания и попытаться максимальным образом использовать Турцию в большой игре на мировой арене. В настоящее время Россия надеется на то, что отношения между Турцией и США вступят в новую, более опасную стадию взаимных претензий. США надеются, что Турция, начиная новый этап региональной экспансии, войдет в серьезные противоречия с Россией, Ираном, арабскими, кавказскими и балканскими государствами. Европа устроилась весьма удобно и ожидает полного и окончательного исчерпания проекта вступления Турции в ЕвроСоюз. С еще более «непостижимой высоты» наблюдает за этими играми Китай. Таким образом, имеет место сочетание двух реальностей – принципиальное стремление США и других ведущих держав Запада не вмешиваться в региональные конфликты; избрание тактики невмешательства, исходя из целей вовлечения в данные конфликты своих конкурентов и соперников, а также противников. Это очень интересная, с точки зрения проблем безопасности, ситуация. США не станут определенное время препятствовать кому-либо вмешиваться в кризисные события в регионах, если даже исламские радикалы попытаются активизироваться в странах Центральной Азии. США предоставляют возможность всем странам и народам убедиться в том, как сложно и опасно существовать без глобальной системы безопасности, насколько необходима эта система и насколько безальтернативен Северо-Атлантический альянс, в том числе, для стран Евразии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Конечно, в представлениях американцев главной угрозой являются вовсе не Турция или Пакистан, а Китай, в отношении которого США продолжают создавать глобальный пояс сдерживания и безопасности с участием государств Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Южной Азии и Евразии. Сдерживание Китая останется главной целью США в ближайшие десятилетия, и, видимо, станет смыслом существования западной системы безопасности. Турция же используется США, как региональная, быть может, межрегиональная угроза, с целью наглядной демонстрации странам регионов, насколько может быть опасной усилившаяся региональная держава, контроль над которой утеряли США. Политика и амбиции Турции станут предметом еще многих экспериментов и манипуляций США. США ограничили или вообще пересмотрели практику «гуманитарных интервенций», правда, все еще не понятно, на какое время, но взамен этой тактики пытаются усилить и сделать более искусной и содержательной игру в отношении региональных макродержав. Для США было бы идеальным вмешательство Турции в события в Киргизии, которые привели бы ее к втягиванию в длительный конфликт в регионе, в котором приняли бы участие Таджикистан, Узбекистан и, конечно, Россия. Можно допустить, что, расположившись в Центральной Азии, они переиграют американцев, но это еще не вполне очевидно, а сам по себе конфликт не приведет к огромным материальным затратам для Турции. Вряд ли эти допущения и предположения будут реализованы, но, так или иначе, это логическая схема, которая могла бы стать моделью нового стиля американской политики в регионе. Не исключается, что и другие ведущие державы, например Россия, попытаются использовать эти приемы, но для России это гораздо более опасная игра, чем для США. События в Киргизии - это сигнал тем государствам Евразии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан о том, что им не стоит ожидать внешней поддержки в случае вооруженных конфликтов. Безусловно, мировые центры силы вмешаются в события, если они примут форму реальной угрозы для западной системы безопасности. Но Запад настроен выжидать, и это следует воспринимать как новую политическую стилистику и смысловую схему поведения. Но, как ни странно, именно в данных условиях Армения должна действовать решительно. Если сильные мира сего намерены выжидать, то было бы приемлемо не идти в русле их политики и привести их к иному поведению. Причем, чем раньше, тем лучше. Армения не может и далее оставаться в состоянии осадной крепости, и следует продемонстрировать свою решимость отстоять независимость и неприкасаемость границ. Вечная уступчивость и дипломатические игры приведут только к поражению, причем, очень ощутимому. Следует принять решения о свертывании переговоров с противниками и тем самым создать проблему, но уже не для себя, а для тех, кто пытается использовать ситуацию в регионах в своих интересах. Нужно развернуть новую политику, пока новая политика мировых центров силы не развернута в полной мере.
-
18 января 2010 года был приговорен к пожизненному заключению младший сержант азербайджанской армии Орхан Сафаров, который подвергаясь унижениям со стороны старослужащих и прапорщиков, расстрелял своих сослуживцев, убив троих из них. 14 апреля 2010 года, к 13 годам лишения свободы был приговорен азербайджанский солдат Араз Абудллаев расстрелявший своего спящего сослуживца. 15 апреля 2010 года азербайджанский военнослужащий Ариф Гурбанов был приговорен к 8 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования своих сослуживцев. 30 апреля 2010 года был вынесен приговор двум азербайджанским сержантам, которые избивали солдат и вымогали у них деньги. Шамхал Мехдиев был приговорен к трем годам лишения свободы, а Джасарат Гасымов - к шести месяцам исправительных работ. 11 мая 2010 года азербайджанские военнослужащие Орхан Гасанов, Турал Халилов и Вюгар Асланов были приговорены к 3, 3 годам и 8 месяцам и 1.5 годам лишения свободы соответственно. Они были признаны виновными в применении насилия и унижении достоинства своих сослуживцев. 18 мая 2010 года, младший сержант Минобороны Азербайджана Адалят Мамедов был приговорен к 5 годам лишения свободы за попытку убийство сослуживца выстрелами из автомата. 19 мая 2010 года, группа азербайджанских военнослужащих была приговорена к различным срокам лишения свободы, от 1.5 лет до 3 лет и 8 месяцев, за неуставные отношения, побои во время службы, грабеж, злоупотребление властью, унижения и др. 31 мая 2010 года был вынесен приговор азербайджанским военнослужащим, обвиняемым в вымогательстве денег у солдат путем угроз. 7 июня 2010 года был вынесен приговор трем азербайджанским солдатам которые насиловали своих сослуживцев, а позже расстреляли своих командиров которые расследовали их преступления. Были убиты лейтенант и прапорщик. Эмин Рагимов и Тогрул Багиров были осуждены на пожизненное лишение свободы, а Юсиф Юсифов – на 15 лет лишения свободы. 28 января 2010 года в воинской части азербайджанской армии в Дашкесанском районе два призывника-бакинца Эльхан Азизов и Садыг Мамедов расстреляли из автоматов четверых офицеров: командира дивизиона, полковника-лейтенанта Юсифа Гюмаева, начальника штаба, капитана Васифа Садыхова, старшего лейтенанта Анара Гулиева и старшего прапорщика Эльгюна Самедова. Еще два азербайджанских офицера – Вазех Бабаев и Самир Аббасов были ранены. Согласно официальной версии, после расстрела офицеров, солдаты Э.Азизов и С.Мамедов покончили с собой.
-
Страна же наша по имени предка нашего Гайка называется hАйк М. Хоренаци 11 августа в Армении отмечается официальный праздник - День национальной идентичности. Однако этот праздник пока еще не стал традиционным, и проходит, мягко говоря, незамеченным. Возможно, потому, что в течение тысячелетий 11 августа отмечалось армянским народом как начало нового года. Навасард - новый год. История этого праздника уходит своими корнями в глубокую древность. Навасард возник в армянском календаре как дань памяти благодарного народа своим героям – освободителям – Гайкидам! С того дня прошло ровно 4502 года! Точная дата битвы армянского народа и его союзников против практически всей остальной Ойкумены во главе с тираном Белом, подтверждена многими авторитетнейшими учеными мира, а ее исключительно почтенный возраст способен вызвать благоговение даже у нас, потомков творцов Великой Победы. Наверное, у каждого народа в мире существуют даты, значение которых остается непреходящим для всей его истории. В истории армянского народа таких дат несколько. Это и битва при Рандее, и принятие христианства, и создание национального оригинального алфавита, Дзиравская битва и Сардарапатские битвы... Но, пожалуй, самым главным достижением армянского народа на поле брани является победа над полчищами Бела. Это был период формирования армянской нации, и поражение способно было положить конец зарождающемуся национальному организму. Это была победа, положившая начало армянской государственности. И сегодня мы с полным на то основанием можем заявить: Армянскому государству сорок пять веков! Данное утверждение может быть воспринято любым человеком, кто способен взглянуть на историю без влияния аберрации давности подвига Гайкидов. Нам очень часто кажется, что исторические события, особенно имевшие место в глубокой древности, не влияют на нынешнюю ситуацию. Между тем, это далеко не так. Не будь у Армянского государства созидательной деятельности собирателя Армении Арташеса Великого, выдающихся воинских подвигов Тиграна Великого, государственной мудрости царя Папа, патриотических династий Мамиконянов и Багратидов, гения Месропа Маштоца, - сегодня армянская история изучалась бы наравне с историей Хеттского или Мидийского государства. В истории мало что проходит бесследно. Тем более, события, оставляющие след в душе народа. И если у закавказских турок, например, самое выдающееся событие в истории это - 15 июня 1993 года, когда после военного переворота к власти в республике пришел "общенациональный вождь" Гейдар Алиев, то у нас таковым может и должно считаться победа над тираном Белом. Праздник 11 августа непременно необходимо отмечать на общегосударственном уровне. С массовыми гуляниями, театрализованными представлениями и т.д. Более великой даты в истории армянского народа трудно найти. К сожалению, сегодня Навасард отмечают лишь немногочисленные представители армянской этнической веры, неправильно именуемые язычниками этаносами. Между тем, грандиозная победа армянского народа над всемирным тираном Белом не имеет религиозной окраски. И ей нельзя придавать религиозное значение. Это – общенациональное достижение армянского народа. Для нации и во имя нации. «Или умрем, и народ наш попадет в рабство к Белу, или, показав умелость рук наших, рассеем тьму вражескую, и победителями станем мы», - как свидетельствует М. Хоренаци, с этими словами обратился Гайк к своим соратникам по оружию. И совершенно не случайно этот лозунг прошел тысячелетия и дошел до нас в форме «Смерть или победа!» Благодарные современники подвига предка нашего Гайка сделали все, чтобы увековечить его имя в веках. Армяне назвали в его честь одно их двенадцати зодиакальных созвездий – Стрелец (Աղեղնավոր). Не доаольствовавшись этим, армяне назвали именем Гайка еще одно созвездие – не зодиакальное. Созвездие Гайка ныне больше известно под именем созвездия Ориона, и эту несправедливость также необходимо устранить. Хотя бы в обозначениях созвездий на армянском языке. Точно так же, как Пояс Ориона, или Три Царя, имеющие на армянском языке свое обозначение – Шапрак Гайки (Հայկի շապրակը). Интересно, что шапрак – шампур, на древнеармянском имело несколько значений, в том числе, оружие и… венок – ореол. Именем и в честь предка нашего Гайка армяне назвали многочисленные поселения, горы. Наконец, именем могучего патриота, исполинского богатыря и спасителя нации были названы страна и народ. «Страна же наша по имени предка нашего Гайка называется hАйк», - пишет Мовсес Хоренаци, совершенно справедливо не сомневающийся в историчности образа нашего национального героя, могучего Воина и беззаветного патриота. Навасард – праздник Нового года по армянскому летоисчислению, родился вследствие исторического подвига нашего предка Гайка. Это был самый любимый праздник армянского народа. Не случайно армянские гусаны-певцы вложили в уста любимого царя Арташеса Великого предсмертные слова:Кто б дал мне дым ЦханиИ утро Навасарди. Цхани – от слова цух (ծուխ) – месяц январь в армянском календаре. Царь Арташес скорбит, что больше не будет вдыхать дым от очагов армянских в зимнюю стужу. Спустя 2 тысячи лет русский классик повторит армянского царя – «Мне дым отечества и сладок и приятен». Но Арташес скорбит еще и потому, что не придется ему вместе со всем народом праздновать великий национальный праздник, установленный в честь великого подвига Великого Воина. У нынешних армянских государств есть возможность возродить праздник Навасарда, подарить народу чувство сопричастности с историей, воспитывать подрастающее поколение в духе наследников предка нашего Гайка.
-
Мгер джан, а теперь скажи, разве такие люди, как Левон Мелик-Шахназарян, Игорь Мурадян и другие светлые головы принесли бы мало пользы, работая в государственных структурах, а не как одиночки-энтузиасты?
-
О ЧЕМ МУРЛЫЧЕТ «ПЯТАЯ КОЛОННА» В обретшей независимость Армении всегда существовала «пятая колонна», которая, в зависимости от возможностей конкретных функционеров, осуществляла платную и бесплатную деятельность в интересах России, включающую осуществление влияния на широкие группы населения и попытки внедрить во властные структуры преданных людей. Практически, происходила борьба России и США за борьбу в армянском обществе. Особое внимание уделялось политическим экспертам, обладающим информацией, способностью осуществлять содержательные анализы по внешней и внутренней политике, разработке различных политических проектов долговременного значения и выработке рекомендаций по тактическим вопросам. Примечательно то, что русские обычно вербовали довольно ограниченных, беспринципных людей, готовых выполнить любое задание и наделенных некоторыми ресурсами организационного и финансового характера. Полностью исключается то, что власти Армении не были информированы о характере и целях деятельности «пятой колонны». Более того, довольно часто в этих группах участвовали государственные чиновники. Данная практика началась с самого начала 90-х годов. Это необычное сотрудничество объясняется стремлением российской креатуры и армянских властей проводить определенную политику в отношении армянского общества, которому не всегда были понятны устремления и цели данных групп агентов влияния. В число таковых входили и входят не только журналисты, газетчики, писатели, профессура, лидеры политических партий, предприниматели, но и люди, претендующие занять пост президента Армении. От подобных людей, ведущих вполне респектабельный образ жизни, можно было услышать, что участников террористического акта в парламенте нужно допрашивать в Москве и, вообще, проводить расследование в Москве, ликвидировать армянскую национальную валюту и ввести в оборот российский рубль, они настаивали на том, что понятие «государственные и национальные интересы» Армении означает государственные и национальные интересы России, кроме того, они откровенно заявляли, что их целью является сворачивание национального суверенитета Армении. Часть этой креатуры дошла до того, что пыталась стереть из памяти людей две карательные экспедиции российской армии против армян Карабаха. В связи с внедрением постоянной практики военных поставок России Азербайджану, официальным игнорированием интересов Армении со стороны России, попытками сбросить с себя всякую ответственность за судьбу своего так называемого «союзника» Армении, в Ереване возникли, из-под заборного куста лопухов, некоторые реальные и вымышленные имена «экспертов», которые подвизались в Аналитическо-информационной службе Регнум. Эти эксперты предпринимают глупые, совершенно неуклюжие попытки обелить политику России, представить дело таким образом, что в Армении существуют эксперты, ставящие задачу дискредитировать Россию, представить ее как врага. Знают ли эти реальные и вымышленные «эксперты», что означает враг и друг, и вообще, из чего состоит мировая политика, а также то, какая судьба ожидает их в этом тесном мире, в котором так трудно затеряться. Их уверяют, что за ними стоят могущественные силы, которые не дадут их в обиду. Посмотрим. Вместе с тем, характерно и то, что, помимо этих авторов бессодержательной писанины, в Армении имеются весьма раскрученные эксперты, которые привыкли возникать при каждом удобном случае, но теперь они вдруг куда-то запропали. Наряду с ними предпочитают помалкивать и авторы, которые гордо декларировали себя как военные эксперты, примкнувшие к паре исследовательских институтов политического характера. Кроме того, «свободная» армянская пресса и телевидение словно воды в рот набрали и выполняют очередной ангажемент. Основным аргументом данной контратаки против обоснованной критики политики России стало то, что, наряду с осуждением России, не подвергаются критике другие поставщики вооружений Азербайджану – США, Израиль, Турция, Великобритания. Это просто логика глухонемых образованцев. Разве Армения когда-либо заявляла о себе как о военном партнере США, Турции или Израиля, или выдвигала повестку о вступлении в НАТО? Позиция Армении имела важное значение в ограничении в Южном Кавказе определенных стратегий, имеющих непосредственно антироссийскую направленность. Что необходимо было для укрепления позиций и безопасности России, что Армения не выполнила? В общем, дожили до того, что логика этих «экспертов» привела к тому, что Россия и Турция рассматриваются в одной плоскости - с точки зрения интересов Армении. Когда абсурд проплачен, он становится гибельным для его адептов. Кстати, об Америке. 10 лет назад я совершил свою первую поездку в Вашингтон с исследовательскими целями. Помнится, был март–апрель. Тогда армянские и греческие лоббисты подняли большую шумиху по поводу намерений США поставить Турции ударные вертолеты. Если не ошибаюсь, ни тогда, ни позже эти вертолеты так и не были проданы Турции. Характерно то, что в это же время, в эти же дни в Анкару прибыл заместитель премьера России И.Клебанов - договариваться с турками о продаже вертолетов такого же класса. Тогда в Госдепе один чиновник спросил у меня, в чем причина отсутствия армянского лобби в России, «сейчас самое время заявить о себе по поводу этих намерений России». Именно потому, что Армения прочно связана с Россией военно-политическими задачами, нельзя допустить, чтобы Россия допустила откровенную «сдачу» армянских интересов, усиливала Азербайджан ради меркантильных интересов российского продажного руководства, не помнящего себя от жажды наживы. Тем, кто принял решение о начале широкой практики поставок вооружений Азербайджану, должны сняться по ночам кошмары, они должны вспомнить о своих близких и детях, которые оказались тем самым в зоне реального риска. Придется пойти на резкую конфронтацию и грандиозный скандал, чтобы остановить это русское политическое бл…. во. А эти лжеавторы должны хорошо запомнить – не по-вашему будет, по-нашему будет, всегда было так и будет.