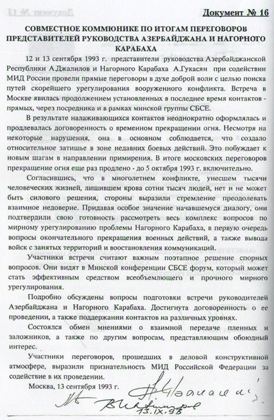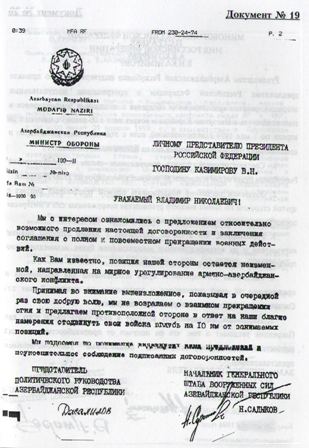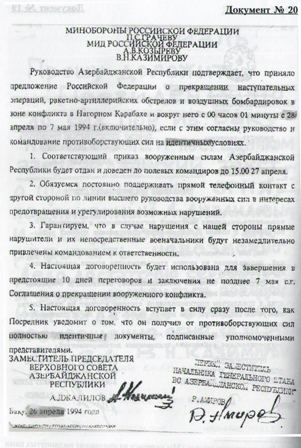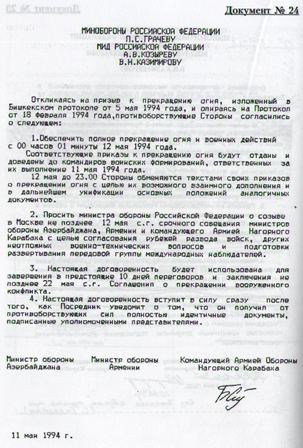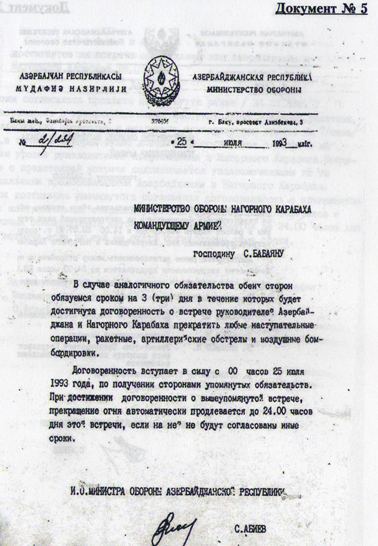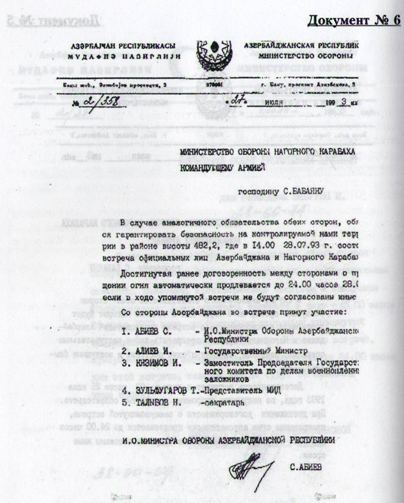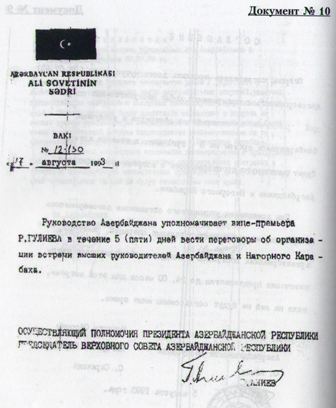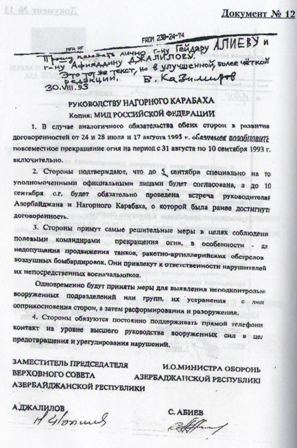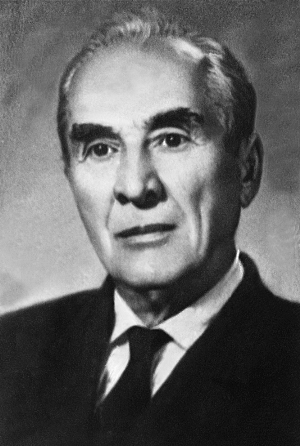-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
Послы Армении и Азербайджана в России Армен Смбатян и Полад Бюль-Бюль Оглы, а также руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой находятся с визитом в Нагорном Карабахе. Сегодня запланирована встреча послов с президентом НКР Бако Саакяном.
-
Профессионально сделанный ролик, замечательный звуковой ряд, прекрасный текст. Браво, Ник!
-
Арис Казинян В лабиринте армянского вопроса Обещания армянскому народу как своеобразный феномен американских политических (особенно – избирательных) кампаний берет начало еще с середины прошлого столетия. Еще раньше, в самом начале 1920 гг., с соответствующими заявлениями, но при иных политических условиях, выступал и президент США Вудро Вильсон, собственноручно подписавшийся под картой Независимой Армении и обозначивший выход «возрожденного армянского государства» к морю. Но этот, так и не одобренный Сенатом акт оказался не более чем пустым обещанием. Ни одно «армянское ожидание» до сих пор не обрело в США практического воплощения.На прошедших в США в 2004г. президентских выборах функционирующие в этой стране армянские организации поддержали кандидатуру демократа Джона Керри вовсе не по партийным соображениям: с некоторых пор, «армянский электорат» Америки традиционно имеет лишь один ориентир – данное претендентом обещание в случае его избрания «признать Геноцид армян». Именно по этому принципу калифорнийские армяне во время выборов губернатора штата поддержали в 2003 г. кандидатуру республиканца Арнольда Шварценеггера. Ранее армяне США неоднократно отдавали свои голоса в пользу кандидатов в президенты от Республиканской партии. Дважды они голосовали за того же Рональда Рейгана, который, помимо всего прочего, обещал армянам «независимость, избавление от русского гнета».Надеяться, что именно Джон Керри в 2004 г. мог стать первым «нарушителем» традиции, было бы просто несерьезно. Очевидно, что в случае своего избрания президентом США он вынужден был бы отказаться от данных обещаний, ибо суть дела заключается не в нем самом, а в региональной политике Вашингтона, где Турции уделяется особое место. Аналогичное можно утверждать и в отношении нынешнего претендента от демократов Барака Обамы, который также обещал признать Геноцид армян в случае своего избрания президентом страны.Однако, прежде чем представить читателю определенный срез наличествующих в этом непростом процессе нюансов, считаем важным обратиться к некоторым историческим вопросам. ТУРЕЦКИЙ РАКУРС Процесс дипломатической манипуляции великих держав интересами армянского народа имеет достаточно долгую историю. В основе своей он базируется на осознанности особой привлекательности так называемого Армянского вопроса в качестве удобного механизма давления на Турцию. Ввиду того, что неоднократно декларированная поддержка населяющих османский мир угнетенных народов являлась не более чем специальной разработкой заинтересованных в расчленении этой империи государств, исследование данной темы предполагает изначальный отказ от поисков некой нравственной составляющей. Данная политическая разработка известна под названием «Восточный вопрос», структура которого состоит из множества малых национальных вопросов, в том числе Армянского. Разветвленная структура Восточного проекта всегда позволяла держать Турцию в перманентном напряжении и вскрывала наиболее уязвимые позиции последней. Очевидно, что обособленное – параллельное или поочередное, представление арабского, греческого, курдского или армянского вопросов минимизировало, в свое время, возможности Турции на предмет цельного отстаивания собственных интересов. Оно расшатывало устои этой огромной лоскутной империи, вследствие чего Восточный вопрос и был назван «ахиллесовой пятой» Высокой Порты. Бедственное положение армянского народа на территории Турецкой Армении в период правления султана Абдул Хамида II-го использовалось и со стороны определенных политических кругов в самой Турции, в качестве серьезного средства на пути достижения конечного результата. В частности, армянский фактор подчеркнуто фигурировал в политике пришедшей к власти в результате военного переворота в 1908 г. младотурецкой партии «Единение и прогресс». Необходимость представления миру принципиально нового отношения к населяющим империю угнетенным народам обуславливалась адекватным осознанием младотурками истинного предназначения Восточного вопроса и стремлением избавиться от подобного механизма внешнего давления. Показательно, что на открывшемся 2 ноября 1908 г. первом заседании новоизбранного меджлиса количество собственно турецких парламентариев составляло всего 107 из 230; большинством же депутатских мандатов обладали представители «раннее угнетенных народов» – греки, албанцы, армяне, арабы, курды, евреи, болгары, сербы, друзы. Этот шаг младотурецкого руководства был вынужденной мерой, призванной разом покончить с понятием «Восточный вопрос». В первые дни после переворота лидеры младотурецкого правительства действительно посещали армянские церкви, школы, кладбища, отдавали дань памяти армянским гайдукам, погибшим в борьбе против султана, не скупились на высокопарные слова о солидарности, а некоторые члены правительства даже проливали слезы. Исмаил Энвер Паша упоминал об армянотурецком сотрудничестве и перспективах укрепления дружбы. Подобными высказываниями отмечался и Ахмед Джемаль Паша. В начальный период пребывания младотурок у власти стали выходить новые армянские газеты, издаваться запрещенные книги, оживилась театральная жизнь. По свидетельству Джона Киракосяна, один из очевидцев этого процесса вспоминал: «Когда пришла конституция, в первые дни большинство армян, и я вместе с ними, – все мы превратились по духу в членов партии «Единение и прогресс». Нашим общим убеждением было то, что партия, которая ввела конституцию, будет работать во имя прогресса и развития всей страны и всех народов. Мы были опьянены и возлагали большие надежды на то, что в течение считанных месяцев эта страна превратиться в Европу». Связавшие свою судьбу с турецким государством армянские чиновники и представители делового мира видели свое процветание в установлении капиталистических отношений благодаря младотурецкому правлению. Как отмечал Джон Киракосян, «они сдали в архив идею о создании армянского государства и, восхваляя «Единение и прогресс», посвящали себя делу служения «общей родине». Многие армяне, состоявшие в младотурецкой партии, оказывали ценные услуги стране. В частности, Мартикян наводил порядок в сферах почты и телеграфа, Барсегян – железнодорожного обслуживания, Норатунгян – внешнеполитического ведомства, Синапян – правосудия… Приведенные данные свидетельствуют о трансформации самого понятия «Восточный вопрос» в более сложную политическую материю. Дипломатическая разработка западных держав изначально была обречена на переосмысление со стороны практически всех заинтересованных сторон, в том числе и в самой Турции. Изощренная стратегия младотурецкого правительства по скорейшему разрешению этого важнейшего вопроса дипломатии, в свою очередь, была уязвимой. Она не могла поддерживаться бесконечно долго, ибо в таком случае противоречила бы проповедуемой партией идее пантюркизма. Хронологическая неопределенность данной политики оказала крайне негативное воздействие на внутрипартийную атмосферу, особенно с учетом наличия в рядах членов партии «Единение и прогресс» мощного и многочисленного слоя, изначально выступающего против предоставления «малым народам» гражданских прав. Наиболее радикально настроенный слой не разделял позиции партийных лидеров по части логики и механизма разрешения Восточного вопроса, предлагая свой способ избавления от извечной проблемы и создания исключительно моноэтнического государства – депортация или ликвидация подчиненных народов. Позже именно данная тенденция нашла отражение в форме чудовищного афоризма: «Не будет армян, не будет и Армянского вопроса». Следует отметить, что основанная на идеологии пантюркизма младотурецкая политика традиционно игнорировала религиозный фактор. Примечательны в этой связи высказывания одного из идеологов партии Джелала Нури об основоположниках ислама: «Земли, населенные арабами, должны полностью стать турецкими, там должен господствовать турецкий язык. Необходимо отуречить арабские земли и подавить в зародыше пробуждающийся у арабской молодежи национализм. Турецкий боевой конь лучше, чем пророк любой другой нации; арабы – несчастье для Турции». Политика, которую осуществляли в первые месяцы лидеры младотурецкого правительства, преследовала несколько целей, подчиненных главной задаче. Особое значение придавалось отчуждению интегрированных в правящую верхушку представителей той или иной нации от освободительной борьбы на окраинах империи. Хотя общее число армянских газет действительно увеличилось, но армяне не получили права издавать газеты на исторической родине. Типографии функционировали в западной части страны, причем некоторые периодические издания откровенно подпевали новому режиму (в частности, статьи Левона Аджемяна). Этот процесс роковым образом отразился на армянах, которые в силу своих интеллектуальных и деловых качеств раньше остальных интегрировались в систему управления и, таким образом, «космополитизировались» (параллельно, в ряде городов исторической Армении Ван, Эрзрум и др., выросло число выпускавшихся ротапринтным способом газет с правдивым отражением ситуации и призывами к продолжению национально-освободительной борьбы). НА ГЛОБУСЕ МАНИПУЛЯЦИЙ Бедственное положение армянского народа на территории Турецкой Армении не оспаривалось и внешними силами, и именно ввиду своей очевидности являло собой весьма привлекательное средство не только в аспекте давления на Османскую империю, но и заигрывания с уполномоченными представителями армянской нации с целью их конечного заманивания в соответствующий политический лагерь. Примечательна в этой связи статья наркома Иосифа Сталина «О Турецкой Армении», опубликованная в газете «Правда» в последний день 1917 г.: «Так называемая «Турецкая Армения» – единственная, кажется, страна, занятая Россией «по праву войны». Это тот самый «райский уголок», который долгие годы служил (и продолжает служить) предметом алчных дипломатических вожделений Запада и кровавых административных упражнений Востока. Погромы и резня армян, с одной стороны, фарисейское «заступничество» дипломатов всех стран как прикрытие новой резни, с другой стороны, в результате же окровавленная, обманутая и закабаленная Армения, – кому не известны эти «обычные» картины дипломатического «художества» «цивилизованных» держав? Сыны Армении, героические защитники своей родины, но далеко не дальновидные политики, не раз поддававшиеся обману со стороны хищников империалистической дипломатии, – не могут теперь не видеть, что старый путь дипломатических комбинаций не представляет путь освобождения Армении. Становится ясным, что путь освобождения угнетенных народов лежит через рабочую революцию, начатую в России в октябре. Теперь ясно для всех, что судьбы народов России, особенно же судьбы армянского народа, тесно связаны с судьбами Октябрьской революции. Октябрьская революция разбила цепи национального угнетения. Она разорвала царские тайные договоры, сковывавшие народы по рукам и ногам. Она, и только она, сможет довести до конца дело освобождения народов России. Исходя из этих соображений, Совет Народных Комиссаров решил издать специальный декрет о свободном самоопределении «Турецкой Армении». Это особенно необходимо теперь, когда германо-турецкие власти, верные своей империалистической природе, не скрывают своего желания насильственно удержать под своей властью оккупированные области. Пусть знают народы России, что русской революции и ее правительству чужды стремления к захватам. Пусть знают все, что империалистической политике национального угнетения Совет Народных Комиссаров противопоставляет политику полного освобождения угнетенных народов». Данная статья, написанная по поводу принятия Советским правительством России декрета «О Турецкой Армении» (29 декабря 1917 г.– 11 января 1918 г.) полностью вписывается в контекст времени. С одной стороны, она адекватно иллюстрирует процесс постоянной манипуляции армянским фактором, признает и поддерживает право нации на свободное самоопределение в рамках исторически сложившихся границ, с другой – являет собой хрестоматийный пример очередной подобной манипуляции. Фридрих Энгельс в ноябре 1894 г. отметит: «Армянский народ находится между деспотизмом турецкой Сциллы и русской Харибды, и почемуто именно русский царизм выступает в роли избавителя. Между тем, подлинное освобождение армян от гнета турок и русских возможно лишь после крушения царизма». Энгельс не напишет предисловия к армянскому изданию «Манифеста…», аргументируя это незнанием языка, но обратит внимание на военно-стратегическую важность расположения Армении, равно как и на ту двойственную политику (нынче это именуется «двойными стандартами»), которую в отношении армян традиционно осуществляют сильные мира сего. Критикуя подходы держав к Армянскому вопросу, он постарается призвать армян не надеяться на благосклонность последних, но почемуто всецело доверять марксизму. Расчет прост; крушение империй (Российской и Османской) непременно предопределит создание на их обломках новых государств, в том числе – свободной Армении. Заигрывание с Армянским вопросом в большей степени присуще западной дипломатии. В период Первой мировой войны представители Антанты провозгласили тезис о том, что одной из главных целей глобального военного противостояния было освобождение армян от турецкого ига. В заявлении, сделанном по поводу Армянского вопроса в Палате общин, руководитель британского внешнеполитического ведомства сэр Бальфур отметит: «Освобождение армян от турецкого произвола обсуждается как важнейшая часть ближневосточной политики Англии». Незадолго до окончания войны президент США Вудро Вильсон в свою очередь подчеркнет: «Армения получит то, что ей должна История». В аналогичном духе выскажутся английские государственные деятели – Ллойд Джордж и Керзон, французские – Клемансо и Бриан. Совершенно прав французский историк А. Вандаль, утверждающий, что «Восточный вопрос есть по существу вопрос Западный». Ни одна из заинтересованных держав не брезговала использовать армянский фактор в собственных интересах, обрамляя сам процесс нравственной оправой. Особенность ситуации заключалась в том, что подобные «заступнические» заверения пускали глубокие корни в армянском политическом сознании и обуславливали раскол в среде уполномоченных разными национальными советами представителей народа. Присутствие на одной и той же конференции сразу двух армянских делегаций (10 августа 1920 г., Севр) или параллельное подписание от имени армянского народа двух взаимоисключающих договоров (10 августа 1920 г. – Севрский и Московский) является констатацией факта наличия подобного раскола; поиск новой национальной идеологии разбивался о внешние приоритеты той или иной партии и корректировал противоречивые биографии лидеров. АРМЯНСКИЙ ВЕКТОР АТАТЮРКА В январе 1919 г. в Стамбуле начался судебный процесс по расследованию преступлений руководства партии «Единение и прогресс». Он предшествовал открывающемуся через месяц – 12 февраля – Военному трибуналу, в ходе которого главарям младотурецкого правительства должно было быть предъявлено также обвинение в истреблении армянского народа. По итогам январских слушаний, проходивших под контролем оккупационных войск Антанты, и в первую очередь Англии, было арестовано 120 членов этой партии. На слушания был приглашен в качестве свидетеля также будущий основатель и первый президент республиканской Турции Мустафа Кемаль (1881-1938 гг.). Позднее именно он станет вдохновителем турецкого нашествия на Армению (сентябрь 1920 г.) и резни греков и армян в Измире (сентябрь 1922 г.). Будучи президентом новой Турции (1923-1938 гг.) и лидером созданной им же Народно-республиканской партии, он заложит основу политики государственного капитализма (этатизм) и светского устройства общества (лаицизм). Современная Турция – дитя Мустафы Кемаля, не случайно прозванного Ататюрком – Отцом турок. Однако в январе 1919 г. его статус был несколько иным. Патриот и талантливый военачальник, 38-летний Мустафа Кемаль практически спасал остатки некогда могущественной Османской империи от полного дележа (или, как писал В. Ленин, «грабежа») и давал показания против ввергнувших страну в пучину Первой мировой войны младотурецких главарей. Впрочем, следует отметить, что он давно не скрывал своей неприязни по отношению к лидерам младотурок – Энверу, Талаату и Джемалу, называя их «людьми маленького роста». Мустафа Кемаль выступил перед Верховным трибуналом со следующим заявлением: «Паши, которые совершили невиданные и невообразимые преступления и довели тем самым страну до нынешнего состояния, для обеспечения своих личных интересов снова разжигают недовольство. Они заложили основу всякого рода тирании, организовали высылки и погромы, сжигали, облив нефтью, грудных младенцев, насиловали женщин и девушек, конфисковали движимое и недвижимое имущество, высылали женщин в Мосул, совершая над ними всяческие насилия. Они погрузили на корабли тысячи невинных и сбросили их в море. Через глашатаев они возвестили, что подданные Оттоманской империи не мусульмане обязаны отречься от своей веры и принять ислам. Они толкали на вероотступничество, заставляли стариков месяцами без пищи пешком покрывать большие расстояния, выполняя каторжные работы. Они отправляли женщин в публичные дома... Факт беспрецедентный в истории какой-либо другой нации». Это его заявление имело широкий резонанс, а он сам наконец-таки получил возможность отомстить людям, с которыми когда-то был связан. Происходивший из денме Мустафа Кемаль в первое время действительно претендовал на важную роль в руководящем младотурецком ядре. Будучи молодым офицером, он не гнушался критики в адрес режима Абдул Хамида II-го (однажды был даже арестован за чтение запрещенной книги Намыка Кемаля «Родина»), в результате чего был выслан в Дамаск. Там он организовал движение «Ватан ве Хюрриет» («Родина и свобода») и установил связи с другими младотурецкими организациями. Позже вступил в конфликт с Энвером, а в 1909 г. на младотурецком съезде выступил против вовлечения армии в политическую борьбу. Прервав с Энвером все отношения, Мустафа Кемаль постарался посвятить себя исключительно военному ремеслу. Во время своего исторического заявления будущий основатель республиканской Турции не преминул громогласно высказать свою ненависть представленному в лице Энвера, Талаата и Джемала младотурецкому триумвирату, называя их «пошляками, мелкими людишками, совершенно не способными руководить страной». Его заявление на Верховном трибунале было всего лишь дипломатической уловкой, ибо, как справедливо отмечает Е. Лудшувейт, «Мустафа Кемаль не хотел, чтобы его провозгласили продолжателем дела ложи «Единение и прогресс». Фактически этот клуб своими деяниями стал неприемлемым как для турок, так и для европейцев. Однако в действительности члены Иттихада сплотились вокруг Кемаля». Что касается позиции Мустафы Кемаля по Армянскому вопросу, то она ничем не отличалась от подходов младотурок. Известно, в частности, его письмо Али Фуад Джебесою от 14 сентября 1920 г.: «С армянами начать благоприятную войну с тем, чтобы присоединить Азербайджан к Турции». Он же позже напишет: «Однажды Россия потеряет контроль над народами, которые сегодня держит крепко в руках. Мир выйдет на новый уровень. В тот самый момент Турция должна знать, что ей делать. Под властью России находятся наши братья по крови, по вере, по языку. Мы должны быть готовы поддержать их. Но быть готовыми не значит ждать молча того момента. Надо готовиться. Но как же народы готовятся к такому моменту? Народы готовятся к такому моменту, поддерживая духовные мосты. Наш общий язык – наш мост. Наша общая вера – наш мост. Наша общая история – наш мост. Мы должны вспомнить о своих корнях и объединить нашу историю, волею судеб разделившею нас с нашими братьями». В этом отношении первый президент Турции был настоящим продолжателем и приверженцем идей Иттихада. Пропагандируемый на Западе пресловутый отход Кемаля от пантюркистской идеологии осуществлялся лишь на формальном уровне, что предполагало новую кадровую политику с привлечением «здоровых и высоких» младотурок и с выдворением «нездоровых пошляков маленького роста». На деле происходило обратное. Все больше выходцев из денме сплачивались вокруг нового лидера, все большее число бывших членов младотурецкой партии окружало Кемаля. В списке последних следует упомянуть и родившегося в 1883 г. в Салониках денме Моиса Коена, более известного под псевдонимом Текин Альп. В 1936 г. он опубликовал книгу «Кемализм» – хвалебную оду Мустафе Кемалю, в которой признал, что «идеи и дело тюркизма находятся в надежных руках». Практически говорилось о преемственности турецкой политики, и именно в этом ракурсе подчеркивалась выдающаяся роль президента. Весьма любопытно свидетельство Айрие-ханум – вдовы расстрелянного в марте 1921 г. в Берлине Согомоном Тейлиряном Талаатапаши, относительно характеристики, данной Мустафой Кемалем этому младотурецкому лидеру: «Знаете, Айрие-ханум, у меня нет вражды к Талаат-паше. Не считаю его виновным в нашем участии в Войне, мы вынуждены были принять в ней участие. В деле переселения национальных меньшинств, пытавшихся нанести удар в спину, Паша во время войны за независимость принес нам большую пользу». НА АМЕРИКАНО-ТУРЕЦКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОСИ Выше было отмечено, что обещания армянскому народу как феномен американских (в частности) избирательных кампаний берет начало еще с середины прошлого столетия. В полном соответствии с устоявшейся традицией, с аналогичными обещаниями выступают и нынешние претенденты на президентское кресло. Вместе с тем, очевидно, что каждый из них, в случае своего избрания, вынужден будет отказаться от данных обещаний, ибо суть дела заключается не в нем самом, а в региональной политике Вашингтона, где Турции уделяется особое место. В этой связи, обращает на себя внимание заявление сенатора-демократа Адама Шиффа: «Я уверен, что если мы энергично возьмемся за решение вопроса о Геноциде армян, то он будет решен в контексте фундаментальной переоценки отношений США с Турцией. Меня не удовлетворяет тот факт, что существующие сегодня отношения с Турцией не служат ни интересам США, ни американским ценностям. Почему наше правительство, представляющее американский народ, так долго старалось не замечать отказ Турции от признания Геноцида армян, блокаду нашей гуманитарной помощи Армении, военную оккупацию Кипра, насилие против курдов, ограничения, направленные против христианских общин, и нарушения прав человека? Почему мы – самая мощная страна в мире – позволяем запугивать себя? Это потому, полагаю я, что мы выбрали политику поблажек, отказываясь, вот уже более пяти десятилетий, от требований к Турции соблюдать основные правила международной жизни и права человека. Вопрос признания Геноцида армян должен быть решен в контексте фундаментальной переоценки отношений США с Турцией». Следует специально акцентировать внимание на этом заявлении американского сенатора, так как признание Геноцида армян действительно будет означать кардинальный пересмотр турецко-американских отношений, к чему не готов и, разумеется, не стремится Вашингтон. Официальная Анкара неоднократно заявляла о реальной возможности разрыва дипломатических отношений с США в случае подобного признания.В частности, американский предвыборный ажиотаж 1984 г. не обошел вниманием и этот вопрос. 10 сентября 1984 г. Палатой представителей Конгресса была одобрена резолюция о проведении 24 апреля 1985 г. «Международного дня памяти жертв бесчеловечного обращения с человеком и армянской резни». С трибуны законодательного органа США было произнесено много речей по поводу этой проблемы. Среди ораторов был и лидер большинства от демократической партии в Конгрессе О'Нил, кандидат в вице-президенты США от демократической партии. Упомянутая резолюция могла быть принята Конгрессом США еще в апреле 1983 г., но тогда турецкому правительству удалось оказать решающее воздействие на Госдепартамент. Принятое 10 сентября 1984 г. Палатой представителей Конгресса США решение о проведении 24 апреля 1985 г. «Международного дня памяти жертв бесчеловечного обращения человека с человеком и армянской резни», в свою очередь, вызвало широкий резонанс в Турции. Президент Турции Кенан Эврен отреагировал на это гневным письмом в адрес Pональда Рейгана, в котором обратил внимание американского коллеги на неизбежность негативных последствий в сфере двусторонних отношений при условии такого «неосмотрительного шага». Тогда же, 12 сентября, посол США в Анкаре Штраус Хьюпе был вызван в МИД Турции, где глава внешнеполитического ведомства В. Халефоглу вручил ему ноту протеста. В настоящее время, когда Государственный департамент США осуществляет политический проект построения «Большого Ближнего Востока», Турции отводится более масштабная, чем когда-либо, роль. Осознание собственной значимости открывает турецкому политическому истеблишменту новые возможности по внесению корректив в двусторонние отношения, которые в турецком восприятии подчинены идее создания «Великого Турана». Инициируемые штатами региональные проекты изначально рассматриваются Анкарой в ракурсе Главного интереса, чем нередко провоцируют и известные разногласия. В частности, такие противоречия имели место в начале иракской кампании 2002 г. – по вопросу использования дислоцированного в Турции военного контингента. Примерно то же самое происходило и в начале 1980 гг., после подписания 29 ноября 1982 г. в Брюсселе турецко-американского «Меморандума доверия», предполагающего использование военно-воздушной базы в Инджирлике для переброски в Ливан американских воинских подразделений.Начало 2007 г. ознаменовалось очередным приливом оптимистических настроений в рядах влиятельных армянских организаций на предмет возможного принятия Конгрессом США резолюции о Геноциде армян. Этот оптимизм, в первую очередь, был обусловлен победой демократов на последних выборах, а также известным заявлением новоизбранного председателя Палаты представителей о том, что до 24 апреля 2007 г. на рассмотрение Палаты представителей будет представлен проект соответствующей резолюции. Ненси Пелоси сдержала обещание: проект резолюции №106 о признании Геноцида армян был внесен на рассмотрение Палаты представителей уже 30 января. Именно тогда инициативная группа в составе известных конгрессменов Адама Шиффа, Джорджа Радановича, Фрэнка Палоуна, Джо Нолленберга и др. заявила, что проект предложенной резолюции соответствует по духу резолюции №316, одобренной Комитетом по внешним отношениям Палаты представителей Конгресса США предыдущего созыва. Напомним, что в октябре 2000 г. этот документ так и не был представлен в Палате представителей. В настоящее время Турция пытается повторить именно этот сценарий. По общему мнению, проект резолюции №316 был заблокирован главой Палаты, республиканцем Денисом Хастертом. В корне неправильная позиция…Не пытаясь ставить под сомнение искренность слов отдельных представителей Демократической партии США, следует вместе с тем отметить, что «армянская надежда» перманентно находится между «демократической Сциллой» и «республиканской Харибдой», противоречия между которыми каждый раз нивелируются планкой стратегических интересов официального Вашингтона. МЕЖДУ «СЛОНОМ» И «ОСЛОМ» Необходимо подчеркнуть, что в понимании янки само понятие «демократ» никак не ассоциируется с человеколюбием или пацифизмом.Прекрасно известно, что 11-й президент США, демократ Джеймс Нокс Полк вел войну против Мексики (1846–48 гг.), захватил более половины ее территории и неоднократно вторгался в Колумбию. Примечательно, что один из организаторов захватнической американо-мексиканской войны Джеймс Бьюкенен вскоре сам станет президентом США именно от Демократической партии; 15-й глава республики, помимо всего прочего, содействовал и усилению рабовладельческого Юга. 17-й президент США – демократ Эндрю Джонсон, приобретший Аляску у России, был известен своим империалистическим аппетитом. Другой представитель Демократической партии, Стивен Гровер Кливленд проводил политику «панамериканизма». Данный список можно продолжить, однако обратим внимание на более близкий нашему времени период: в частности, демократ Гарри Трумен (33-й президент США) отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Он также один из инициаторов создания военно-стратегического блока НАТО. На демократе Гарри Трумене можно остановиться и отдельно, так как именно в его бытность президентом США в Нью-Йорке и начал свою работу Всемирный армянский конгресс (30 апреля – 4 мая 1947 г.); на форуме принимали участие 715 делегатов из 22 стран и 31 церковной епархии с целью «возбуждения в условиях создавшихся после Второй мировой войны вопроса о возвращении захваченных Турцией армянских земель». Перед началом работы было зачитано знаменитое послание Католикоса Всех Армян Геворга VI-го и обращение правительства Советской Армении. Впрочем, к моменту открытия Конгресса Гарри Трумэн уже представил миру известную доктрину, разработанную вместе с Черчиллем; особым пунктом в ней значилась необходимость оказания военно-политической и финансовой поддержки Турции в связи с возможной «коммунистической агрессией». Именно в 1947 г. МВФ и МБРР в «спешном порядке» примут в ряды своих членов Турцию, а Вашингтон заключит с ней военное соглашение. Уже на Всемирном армянском конгрессе представитель Госдепартамента США заявит, что доктрина Трумэна «базируется на непоколебимости территориальной целостности Турции». В 1949 г. Анкара вступит в Совет Европы, а в 1952 г. станет полноправным членом НАТО. За укрепление военных блоков и усиление военной мощи США выступал и президент-демократ Джон Фицджералд Кеннеди. Его преемник, 36-й глава Белого дома Линдон Джонсон (также демократ) начал войну во Вьетнаме и осуществил вооруженное вмешательство в Доминиканской Республике. В пылу предвыборной гонки демократы не любят вспоминать и то, что их последний представитель в Белом доме Бил Клинтон теми же методами, как и в случае с Ираком, – с применением военной силы против мирного населения – пытался решить региональный кризис на Балканах и бомбил Белград. На Билле Клинтоне также следует остановиться особо. Военно-стратегические партнерство между Вашингтоном и Анкарой действительно не обусловлено партийной принадлежностью американских сенаторов или президента этой страны. В октябре 2000 г. именно демократ Билл Клинтон лично воспрепятствовал принятию резолюции №316, хотя политические круги склонны были винить в этом именно республиканца – бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Денниса Хастерта. В условиях доминанты именно этой версии многие забывают, что роль последнего явно преувеличена – президент США демократ Билл Клинтон был первым, кто выступил против внесения резолюции.Еще 9 октября 2000 г. правовой комитет Палаты представителей Конгресса США принял решение назначить на 17 октября голосование по Армянской резолюции №316, содержащей призыв к президенту США квалифицировать массовые истребления армян в Османской империи в 1915-1923 гг. именно как Геноцид. Тогда же Правовой комитет утвердил окончательную версию документа, не допускающую более какие-либо изменения или поправки. Именно в это время президент США Билл Клинтон и встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Деннисом Хастертом и «попросил» его не принимать резолюцию. Из заявления бывшего споксмена Совета национальной безопасности США Кроули: «Президент Клинтон и спикер Хастерт обсуждали вопросы, связанные с Армянской резолюцией с глазу на глаз. Президент отметил, что в случае принятия резолюции могут возникнуть серьезные нежелательные последствия». Именно тогда радиостанция BBC обнародовала следующую информацию: «Возможность принятия резолюции вызвала такую озабоченность в Белом доме, что президент Клинтон немедленно вмешался лично. Он обратился в Конгресс с письмом, а также лично позвонил спикеру палаты республиканцу Деннису Хастерту. Вашингтон опасался того, что Турция, возмущенная принятием резолюции, может принять меры, которые сильно повредят американским интересам в регионе. В качестве одной из ответных мер Турция рассматривала отказ на продление аренды военной базы в Инджирлике, с которой самолеты ВВС США и Великобритании вылетают на патрулирование территорий северного Ирака». Свое возмущение по поводу отклонения резолюции №316 выразили некоторые демократы. В частности, Адам Шифф тогда заявил: «Я глубоко разочарован и оскорблен действиями спикера Палаты Представителей Денниса Хастерта и республиканского руководства Палаты, которые привели к отказу от постановки на голосование резолюции о Геноциде армян». Несмотря на тот факт, что в заявлении прослеживается попытка смещения вектора негодования в сторону республиканцев, тем не менее, конгрессмен все равно принципиален: «Вместе с тем я считаю, что и администрация США несет большую долю ответственности в этом вопросе. Вместо того чтобы уступать давлению турецкого правительства, администрация должна была попросту игнорировать эти угрозы. Я никогда не смогу простить представителя власти – независимо от его партийной принадлежности, – который не оправдает доверия армянской общины США». В своем заявлении Адам Шифф прямо не указывает на демократа Билла Клинтона, однако сам факт критики президентской администрации действительно свидетельствует о последовательности его позиции. Чего нельзя сказать о самом бывшем президенте: уже после своей отставки Билл Клинтон вновь выступил апологетом признания и международного осуждения Геноцида армян; 22 апреля 2005 г. демократы Б. Клинтон и Дж. Керри призвали Буша признать это преступление. ОТ ОЗАЛА ДО РЕЙГАНА Как-то бывший президент Турции Тургут Озал заметил: «Вопрос геноцида армян теснит наши сердца. Не лучше ли нам признать его на государственном уровне и разом покончить со всеми вопросами». Этот неординарный политик время от времени действительно прибегал к сенсационным откровениям, чем собственно и поддерживал постоянную напряженность в сплоченных рядах турецкого политического истеблишмента. Как-то он публично признал непродуманность реакции официального Баку на требование армянского народа Нагорного Карабаха о самоопределении: «Добрый жест наших братьев, именно – удовлетворение подобного требования, был бы с огромным воодушевлением принят армянами, а уже лет через двадцать вся Армения превратилась бы в тюркское государство». Президент имел в виду не только более высокий прирост азербайджанского населения Армении, но и растворение армян в тюркской среде в условиях прозрачности границ. Так или иначе, но именно в 1991 г. в ходе приема в нью-йоркской гостинице «Медисон», на котором присутствовали также журналисты, Тургут Озал впервые заявил: «Не лучше ли было признать Геноцид армян и избавиться от головной боли?» Это предложение президента было обнародовано бывшим послом Турции в США Ньюхзетом Кандемиром и удостоилось широкого освещения на полосах турецких газет. Несколько позже стамбульская «Мармара» процитировала самого Кандемира: «Тургут Озал любил иногда выражать оригинальные идеи, для того чтобы вызвать дискуссию. Вопрос о Геноциде армян был подобной идеей. Позднее мы поговорили с президентом и уговорили его отказаться от этого». Между тем, сам факт признания Геноцида армян представлялся тогдашним президентом Турции (скончался в 1993 г.) в качестве политического жеста, который ни к чему не обязывал, но зато избавлял страну от жесткого пресса армянского лобби. 18 октября 1983 г. в Белый дом на встречу с высокопоставленными чиновниками администрации США были приглашены редакторы радиостанций и газет этнических общин США. Из армянских газет на встрече были представлены «Миррор спектейтор», «Айреник», «Армениен обззервер» и «Нор кянк». Перед собравшимися выступили представители Белого дома и Госдепартамента. Президент Рональд Рейган также ответил на ряд вопросов присутствовавших. Редактор лос-анджелесской газеты «Армениен обзервер» Ошин Кешишян задал вопрос об официальной позиции американского правительства в отношении Геноцида армян 1915 г. (к этому времени уже прошло два года после избрания Рейгана президентом США, однако вопреки своим обещаниям глава официального Вашингтона не проявлял намерений признать и осудить это преступление). Отвечая на вопрос редактора, президент отметил: «Я вынужден верить, что сегодня не осталось почти никого, кто жил в те ужасные времена». Ответ Рональда Рейгана, естественно, не удовлетворил Кешишяна, и он отправил ему письмо с требованием яснее осветить позицию США в отношении Геноцида. Однако, что именно имел в виду Рейган и что имел в виду Озал? Очевидно, что между этими двумя позициями существует определенная связь. В ноябре 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Конвенция вступила в силу 11 ноября 1970 г. Документ незамысловатый. В частности, ст. I гласит, что никакие сроки давности не могут быть применимы к таким преступлениям, каковым, например, является геноцид. Интересно другое: ни в одной из статей Конвенции, а их всего 11, нет ни слова об ответственности того или иного виновного в преступлении. Образно говоря, сей документ призван констатировать нечто весьма аморфное. 3 декабря 1973 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию (№3074), которая, вероятно, была призвана восполнить этот очевидный пробел. Название резолюция имела длинное – «Принципы международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества». Какая-никакая, но конкретика в данном документе уже присутствовала: «Военные преступления и преступления против человечества, где бы они ни совершались, подлежат расследованию, а лица, в отношении которых имеются доказательства в совершении таких преступлений, – розыску, аресту, привлечению к судебной ответственности и в случае признания их виновными – наказанию» (пункт I резолюции 3074). Содержание процитированного предложения, являющегося, заметим, гвоздем данной резолюции, следует, видимо, толковать не иначе как следующим и тоже весьма расплывчатым образом: если непосредственных виновных физически уже не существует, однако существуют все последствия – и политические, и национальные, и территориальные, и демографические, и прочие, то дело за неимением подсудного просто-напросто можно прекращать. Именно в этом контексте и следует трактовать смысл процитированного выше ответа президента Рональда Рейгана журналисту О. Кешишяну («я вынужден верить в то, что сегодня не осталось почти никого, кто жил в те ужасные времена»). Сама Конвенция 1948 г., о которой нынче так часто говорится, не Бог весть что. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г. и вступившая в силу 12 января 1961 г., она имеет более перспективный, нежели ретроспективно-карательный характер. Конвенция главным образом нацелена на предотвращение возможных в будущем преступлений против человечности, иными словами – умерщвление в зародыше: а) геноцида; б) заговора с целью совершения геноцида; в) прямого и публичного подстрекательства к совершению геноцида; г) покушения на совершение геноцида; д) соучастия в геноциде (Статья III, «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него»). Относительно же ответственности за совершение преступления геноцида говорится в четырех из 19-и статей Конвенции. Речь, заметим, опять-таки о лицах. «Лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответственными или частными лицами» (ст. IV); «Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда» (ст. VI); «В отношении выдачи виновных геноцид и другие перечисленные в ст. III деяния не рассматриваются как политическое преступление» (ст. VII). Об ответственности же отдельного государства (а не отдельного лица или группы лиц) за геноцид косвенным образом говорится лишь в одной статье (IX) указанной Конвенции. За эту статью, надо полагать, и ухватилась официальная Анкара. В зависимости от развития событий в рамках данной статьи и становится возможным очертить ближайшую перспективу. По всей вероятности, становление печально известной Турецко-армянской комиссии по примирению в основе своей базировалось на ст. IX Конвенции ООН 1948 г.: «Споры между договаривающимися сторонами по вопросу толкования или выполнения настоящей Конвенции, включая споры относительно ответственности того или иного государства за совершение геноцида, передаются на рассмотрение Международного суда по требованию любой из сторон в споре». В анналах международного права нет ни одного другого предложения, которое, так или иначе, но предполагает именно государственную, а не личную ответственность за совершение геноцида. Именно это обстоятельство и имел в виду бывший президент Турции Тургут Озал в процитированном выше заявлении. POST SCRIPTUM Международный интерес к Армянскому вопросу характеризуется приливно-отливным характером и обостряется в преддверии весьма значительных политических событий. В частности, 19 июля 1989 г. Комитет по иностранным делам Сената США принял резолюцию, одно название которого полностью выдержанно в контексте известных обещаний начала века – «О содействии США в мирном урегулировании спора вокруг Нагорного Карабаха согласно желанию народа Советской Армении». В данном документе нашла отражение следующая ключевая формулировка: «Призвать президента СССР Михаила Горбачева обсудить с представителями Нагорного Карабаха, а также представителями демократического движения (включая недавно освобожденных из-под стражи членов комитета «Карабах») требование о воссоединении с Арменией. В двусторонних переговорах с Советским Союзом призвать, чтобы расследования случаев насилия над армянами проводились самыми высшими инстанциями и чтобы были выявлены и наказаны ответственные за убийства и кровопролитие». Столь однозначная поддержка армянскому народу была продиктована осознанием необходимости скорейшего развала СССР и важности поддержания стабильного очага напряженности. Одним из механизмов достижения подобного результата представлялась национальная борьба народов, населяющих Советский Союз. Уже 19 ноября Сенат США принял резолюцию по Нагорному Карабаху, которая в свою очередь поддерживала армянский народ области. «Ввиду того, что 80% армянского большинства, проживающего на территории Нагорно-Карабахской автономной области, выражает обеспокоенность…, а Комитет особого управления НКАО оказался неэффективным… содействовать в ходе двухсторонних дискуссий с Советским Союзом справедливому урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое действительно отражало бы взгляды народа этой области». Знаменательно, что с развалом СССР подобные документы уже не принимались, а с развитием топливной дипломатии в Азербайджане и представлением последнего в качестве братского Турции государства – отвергались априори. Данные примеры также являются образцовым показателем манипуляции Армянским вопросом. Все это свидетельствует о том, что армянская нация должна избавиться от пагубной «традиции упования» на благосклонность той или иной державы, и выявить способность к разработке собственной национальной идеологии в новом мире. Это очень сложный и болезненный вопрос, однако иного выхода просто не существует.
-
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОСМОНАВТ (очерк о Владимире Геворкяне) Космос во все времена манил и притягивал к себе человечество, был для него чем-то таинственным и загадочным. А после полета в космос первого человека космонавтика стала вожделенной мечтой многих молодых людей, дети мечтали стать космонавтами. Многих интересует, кто был первым армянским космонавтом, сколько армян побывало в космосе и попытало счастье в этой области. Несомненно, многие знают об американском астронавте Джеймсе Багяне, который и был первым армянином, полетевшим в космос. Но и другие наши соотечественники пытались преодолеть плотные слои атмосферы. Конечно, стать космонавтом, особенно на начальном этапе, очень сложно, нужно обладать железным здоровьем, блестящими знаниями, красивой внешностью, выдержать сложнейшие физические испытания и т.д. В какой-то момент СССР превзошел своего заокеанского соперника в борьбе за освоение космоса и оказался победителем. Однако и внутри страны между разными организациями шла не менее жесткая борьба за освоение космического пространства. Юрий Гагарин и его последователи были из так называемой королевской команды, иными словами, первый отряд космонавтов был подобран по инициативе С. Королева, а полеты осуществлялись по его технологиям, на его ракетах и космических кораблях. Вскоре в СССР у всемогущего Королева появились конкуренты, его буквально по пятам преследовал В. Челомей, год от года проявлявший все больше амбиций в области ракетостроения и космонавтики вообще. 22 апреля 1967 г. приказом министра общего машиностроения №145 в составе Центрального конструкторского бюро машиностроения (в дальнейшем - ЦКБМ) В. Челомея была создана группа инженеров-испытателей. Главной целью ее создания была подготовка экипажа космической станции «Алмаз», над которой работали специалисты во главе с Челомеем. Работникам этой станции предъявляли более строгие требования, чем обычным космонавтам, поскольку экипаж «Алмаза» планировалось продержать в космосе достаточно долго. Как бы то ни было, группа космонавтов ЦКБМ была сформирована, люди прошли медосмотр, проводили занятия в самых разных местах, а в 1972 г. их официально признали как космонавтов-испытателей. В декабре 1978 г. к этой группе присоединился и сотрудник бюро, инженер Владимир Мкртычевич Геворкян, участвовавший в разработке транспортной системы станции «Алмаз». Владимир Геворкян родился 28 мая 1952 г. в городе Аштараке Армянской ССР. После окончания школы поступил в Высшее техническое училище имени Баумана. В 1975 г. после окончания учебы Владимир получил назначение в филиал ЦКБМ в Филях в качестве инженера-конструктора в группу, в составе которой Геворкян и участвовал в разработке транспортного узла станции «Алмаз». Владимир отличался исключительным умом и инициативностью в технических вопросах. Спустя два года руководство бюро выдвинуло молодого инженера кандидатом в космонавты. В декабре 1978 г., после многочисленных проверок и экзаменов, он приказом министра был включен в группу космонавтов ЦКБМ. Ее, дабы отличать от команды Королева, называли Реутовской группой. Подготовка космонавтов была более чем тяжелой и жестокой, десятки часов они проводили в ледяной воде и удушливых барокамерах. Многие не выдерживали и добровольно отказывались от дальнейших испытаний. Владимир однажды чудом спасся от смерти, но он был одним из на редкость выносливых и упорных кандидатов. Все вроде шло к блестящему завершению, станция «Алмаз» была наконец-то утверждена и отправлена в космос, группа с воодушевлением ждала своей очереди. Увы, после почти десяти лет занятий и ожиданий Владимир Геворкян, как и многие другие, так и не полетел в космос, более того, после стольких мытарств группу расформировали, тему закрыли и, к величайшему сожалению, предали забвению. Однако, отказавшись от программы полета в космос, Геворкян остался в системе, он продолжал работать инженером в ЦКБМ. Тематика, естественно, была та же - космос. В 1989 г. опытнейший специалист был назначен главным конструктором научно-производственного объединения «МЕЛАР» Академии наук СССР. До конца жизни В. Геворкян оставался в сфере космического приборостроения, занимался разработкой различных проектов, когда же речь заходила о группе космонавтов ЦКБМ, он только горько вздыхал. Cкончался Владимир Геворкян 13 апреля 2008 г. в Москве. Арцрун Ованисян, капитан ВВС РА
-
Эпизод первый. 1899 год. Сосе Варданян, поддерживая под руку мужа - фидаи Ахбюра Сероба, отравленного и еле стоящего на ногах, подняла его на гору возле села Гялигузан. Находясь рядом с мужем, восемь часов насмерть сражалась с турками. Когда Сероб и старший сын Андраник погибли, она одна продолжала бой. Народ сложил множество песен о Матушке Сосе, ныне покоящейся на кладбище Ераблур. Эпизод второй. Другая Сосе - по фамилии Аракелян - во время Арцахской войны превратила свой дом в казарму. Кормила и поила 30-40 бойцов, латала их одежду. Эту 76-летнюю истинную армянку также называли Матушкой. Легендой стала и другая армянка - матушка Лена из Геташена. Она на целый год стала матерью для ребят, сражавшихся в отряде Татула, а по окончании операции «Кольцо» сожгла свой дом, чтобы через его порог не ступила нога турка. Сколько... сколько таких матушек потеряли своих сыновей. Пойдите на Ераблур, там вы их много увидите - скорбящих матерей в черных одеждах. Сколько... сколько армянских женщин, взяв в руки оружие, сражались в Арцахской войне, сколько их погибло, скольких искалечила эта война - физически и душевно. Эпизод третий. У Мари - жены Погоса Нубара паши, было одно платье, с которым она обращалась очень бережно. Заботливо хранила - буквально лелеяла. Некто - очевидец, спросил ее: - Ханум, почему вы его так бережете, платье-то старое? - Это единственное мое новое платье. - Как это? Вы жена паши - и у вас единственное новое платье?! - Да. Когда в Полис (Стамбул) пришло столько армян-беженцев, столько голодных... это какое каменное у меня должно быть сердце, чтобы шить себе новые платья... Предпочитаю эти деньги тоже отдавать им. В 1930г. Погос Нубар в Ереване построил глазную клинику Мари Нубар. Эпизод четвертый. Две беженки-армянки поделили на две части рукописи «Мушский изборник» из мушкской церкви Сурб Аракелоц, и таким образом спасли эту реликвию от лап и огня турок. Две части разделенной рукописи вновь воссоединились в одно целое лишь через 14 лет после геноцида, уже в Эчмиадзине. Президенты независимой Армении во время инаугурации приносят присягу, держа руку именно на этом «изборнике». Хачатур Дадаян
-
-
-
-
Асратян Игорь Игорь родился в Мартакертском районе НКР. Учился не просто отлично, он был блестящим учеником. Игорь был еще школьником, когда началось Арцахское Движение, в которое он сразу ушел с головой. Писал воззвания, листовки, помогал тогда еще разрозненным отрядам Самообороны. Затем Игорь поступил в Арцахский университет. В истории этого вуза пожалуй не было столь талантливого студента. Игорь писал философские трактаты, работы по истории. Мало кто знал, что юный гений по ночам принимает участие в обороне наших сел от вражеских омоновцев. Затем Игорь Асратян вступил в организацию «Цехакрон», где быстро добился всеобщего уважения. Вскоре он возглавил одно из боевых подразделений организации... Небольшой отряд под командованием Игоря Асратяна попал в окружение у села Нахиджеваник Аскеранского района. Помощи ждать не приходилось, уж слишком близко подобрался враг. Тогда Игорь приказал своим солдатам отойти: «Я вас прикрою». Ослушаться Игоря было невозможно, авторитет его среди солдат был непререкаем. С другой стороны, никто не верил, что Игорь может погибнуть. Ребята стали отходить, а Игорь, сменив место дислокации, вызвал огонь на себя. Более часа он удерживал врага, менял позиции, стрелял из разного вида оружия, создавая у турок впечатление, что обороняющихся много. Его солдаты, успевшие подняться на лесистый пригорок, бессильно плакали, следя за неравным боем юного героя с толпой врагов. Внезапно бой прекратился. Все замерли, напряженно вслушиваясь в тишину. И в этот миг над Арцахскими горами разнесся звонкий голос Игоря: Ребята! Передайте папе и маме! Турок не смог меня убить! - И один единственный выстрел. Оказавшись в плотном кольце врага, израсходовав все свои боеприпасы, Игорь выстрелил себе в сердце. Горячее, юное сердце армянского интеллигента-патриота. Мне больно, очень больно писать об Игоре, мальчике, которого я хорошо знал и любил. Я очень жалею, что меня в тот день не было там. Игорю было неполных 19 лет... Его светлая жизнь, его горячее сердце были отданы Родине. Игорь успел написать большую книгу по философии и... завоевать любовь всего армянского народа. Склоните же, друзья, головы перед светлой памятью армянского Героя. Анцорд. Voskanapat.info
-
Необъявленная война за Мегри Немного предыстории. Начиная с 1950-х годов начался интенсивный отток населения из Мегри: из 30 сел осталось 13. На то имелись свои причины: здесь было слишком мало пахотной земли, да и воды не хватало. И постепенный уход людей из края разжигал аппетиты наших соседей. Они лишь ждали, когда придет их час, чтобы перейти к делу. На Мегри у них был дальний государственный расчет: в районе не останется армян, его заселят азербайджанцы, и в один прекрасный для них день Азербайджан напрямую соединяется с Нахичеваном, а Нахичеван в дальнейшем - с иранским Азербайджаном (Атрпатаканом - Атропатеной), в результате в регионе возникает второе мощное турецкое государство. Азербайджан не просто лелеял эту мечту, но и шаг за шагом воплощал ее в жизнь. По территории Мегри - вдоль границы Армении - уже проходила железная дорога и, что нелепее всего, находящейся на нашей земле дорогой руководили из Баку. Работали на ней главным образом азербайджанцы. Они, начиная с начальника станции и кончая путевым рабочим, назначались из Баку. С 1958 по 1978 гг. число живущих в Армении азербайджанцев возросло с 57 до 167 тысяч. Примечательный факт: 99% матерей-героинь Армении были азербайджанками. Еще чуть-чуть, еще немного усилий, и заветная мечта соседей стала бы реальностью… Железная дорога есть, это хорошо, но пусть будет и автомагистраль. И когда в 1982 г. Совет министров СССР утвердил список дорог общегосударственного значения, в него была включена и дорога Баку - Нахичеван. На протяжении 43,4 км она должна была проходить по территории Мегри - параллельно идущей вдоль границы железной дороге. Понятное дело, что проект этот они смогли внести в список Госплана благодаря непосредственной инициативе и содействию «могучего» Алиева. Отметим, что еще до обнародования этого плана азербайджанцы уже построили свой участок дороги и подвели ее к самой границе Армении. Азербайджан обратился к правительству Армении с требованием землеотвода. Наши, естественно, отказали. Началась конфронтация, которую можно считать необъявленной войной между руководством двух республик. Вопрос был перенесен в Москву. На первой линии этой войны был зампред Совмина Армении Владимир Мовсисян. Почти два года длились ожесточенные обсуждения, и почти все это время он провел в Москве. Разубедить всемогущий Госплан было непросто - с ним можно было говорить только на языке фактов. Наши привели веские аргументы, создали серьезную доказательную базу: новая дорога должна проходить вдоль границы, параллельно железной дороге, граница же эта - вовсе не с дружественной социалистической страной. Если, не дай Бог, случится война, противник одним снарядом выведет из строя сразу две линии коммуникаций. Были получены и возражения министра обороны СССР маршала Соколова против строительства дороги. Свои возражения представило и Министерство путей сообщения СССР: при строительстве автомагистрали придется производить множество взрывов, которые дезорганизуют работу железной дороги. Власти Армении привели и мнение командования пограничных войск в Закавказье: взрывы при строительстве дороги выведут из строя контрольные устройства на границе, что сделает невозможным слежение. К этим доводам было приложено встречное предложение Армении: строительство бессмысленно, поскольку уже существует 118-километровая дорога Минджеван - Зангелан - Кафан - Каджаран - Мегри. Давайте реконструируем ее и превратим в государственную дорогу третьего класса. Москва отвергла это предложение: существующая дорога втрое длиннее предлагаемой и обойдется дороже. Был предложен еще один вариант: дорога Минджеван - Зангелан - Цав - Мегри. Он также был отвергнут. Что еще можно было сделать? Следовало найти аргумент, с которым не поспоришь. И надо отдать должное армянским руководителям того времени: они смогли разработать план, который не только решил бы проблемы Мегри, но и раз и навсегда отвадил бы от него азербайджанцев. Хотят заполучить Мегри? Что ж, пусть тогда в рамках собственной же инициативы решат социально-экономические проблемы армянского региона! Мегри - район малоземельный и маловодный,- именно по этой причине пустеют села. Предлагаем построить здесь водохранилище емкостью 18 млн. кубометров, что позволит оросить 6 тысяч гектаров. На этой базе будет основано 9 совхозов - это примерно 30-35 тыс. человек. Они будут выращивать виноград, овощи и бахчевые, а также субтропические культуры - гранат, инжир, хурму. Одновременно были представлены выкладки, свидетельствующие, что Мегринский район богат молибденом, месторождениями драгоценных и редких металлов, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктур. Строительством дороги Азербайджан пытается решить сугубо собственную задачу - напрямую связаться с Нахичеваном, тогда как армянской стороне этот проект не дает ничего и не решит ни одну из ее проблем. Дорогу следует строить как минимум на 10 км севернее железной дороги. К этому проекту было приложено полное финансово-экономическое обоснование. Более того - было получено письменное согласие соответствующих министерств СССР. Пакет был представлен на утверждение Госплана. Для изучения проекта была создана экспертная комиссия. И именно здесь скрестились мечи армян и азербайджанцев. «Великому» Алиеву ничего не оставалось, как перейти от «пряника» к «кнуту». Он вызвал руководителей всех соответствующих структур и в категоричной форме потребовал отозвать свое согласие. В числе «приглашенных» был и министр обороны маршал Соколов. «Я остановился в гостинице «Москва», - рассказывает В. Мовсисян. - Утром мне позвонил адъютант министра обороны: мол, маршал Соколов извиняется, но отзывает свое предварительное письменное согласие… - Для меня он отныне не маршал и не министр! - отрезал я». Остальные министры повели себя так же, как и министр обороны. Началась борьба не на жизнь, а на смерть. Ставкой в этой игре была не дорога, это был вопрос моей земли, моей страны. Это прекрасно осознавали обе стороны. Что оставалось делать комиссии, оказавшейся меж молотом и наковальней? И она приняла исключительно оригинальное решение - удовлетворить обе стороны: пусть будут построены обе дороги… - Товарищи, голова ведь не только для того, чтобы носить шапку! Ведь мы же знаем, что Мегри - малоземельный район, а вы хотите отдать его земли сразу под две дороги!.. Это возражение представителя Армении осталось, естественно, без ответа. Затем на заседание Совета министров СССР пригласили Фадея Саркисяна и… Владимира Мовсисяна. Их обязали немедленно приступить к отводу земли. Они вернулись в Ереван, ломая голову над тем, как быть дальше и что можно сделать. Спасительная идея все-таки пришла. В те времена планировалось строительство железной дороги Варденис - Джермук, которая должна была пройти по территории Азербайджана. «Вопрос поставили так: давайте проводить землеотвод параллельно. Мы вам, вы - нам. Азербайджанцы пришли в замешательство: мы не можем этого сделать, начнутся ссоры и т. д. и т. п…» Так и закрылся этот вопрос. С концами. Гоар Сардарян
-
Факты против лжи: последует ли наказание за клевету? Закончившаяся в Страсбурге летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы ознаменовалась очередной омерзительной атакой азербайджанских депутатов на Армению и Арцах. Как обычно, и на сей раз их основным орудием стала ложь, но с несколько, так сказать, персональным прицелом. Отличилась печально известная своими провокационными нападками на армян Ганира Пашаева – свояченица президента Алиева и послушный исполнитель всех задумок азерпропа. Речь Пашаевой 23 июня действительно явила собой типичный образчик продукции бакинской машины лжи. Ханум-депутатша не упустила ничего из традиционного азерпроповского набора под соусом милой сердцу европейца проблемы прав человека: были упомянуты и «миллион беженцев, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома», и «зверская расправа над мирными жителями Ходжалу», и «оккупированные территории», и «сотни азербайджанских пленных, содержащихся в Армении». Пашаева даже продемонстрировала фото какого-то ребенка, якобы освобожденного из плена некоторое время назад, заявив, что, дескать, «эта фотография показывает, каким пыткам подвергаются сотни пленных и заложников в Армении». Однако гвоздем провокационного выступления Пашаевой стали приведенные ею «цитаты» из книги «Оживление нашего духа», авторство которой она приписала Зорию Балаяну. Приведенные Пашаевой «цитаты» были настолько фантастично-чудовищны, что нормальному человеку и в голову не пришло бы выдавать европейской публике омерзительные подробности якобы «убийства» армянами некоего азербайджанского ребенка, при этом заведомо зная, что они надуманы, что все это - гнуснейшая ложь. Цинизм и лицемерие азербайджанской депутатки, и раньше не отличавшейся особой разборчивостью в методах выполнения наказов партии и общенационального вождя, на сей раз превзошло все допустимые пределы. Что, собственно, и послужило причиной резкой и однозначной реакции Зория Балаяна на столь чудовищную клевету. Уже на следующий день Балаян (который в настоящее время находится в кругосветном плавании на борту яхты «Армения») направил заявление на имя генерального прокурора Армении с требованием возбудить уголовное дело против Пашаевой. В заявлении, в частности, говорится: «Я официально заявляю, что подобной книги не писал. Мало того, коллеги Пашаевой точно с таким же пасквилем выступали с высоких трибун три года назад. Правда, тогда книгу, которая якобы вышла в Ванадзоре, называли иначе – «Воскрешение души нашей». Тогда я выступил в печати, подчеркивая, что клевету побеждают только презрением. Но ничего другого не предпринял. Однако в Азербайджане, по-видимому, полагают, что о тогдашней гнусной провокации уже все забыли, и решили, обновив ее, начать очередную антиармянскую волну зловещих инсинуаций. Прошу вас на основании соответствующих норм международного права возбудить уголовное дело против Г. Пашаевой за оскорбление моего достоинства. Я требую, чтобы на стол президиума Парламентской ассамблеи Совета Европы положили книгу, о которой с её трибуны говорила азербайджанский депутат». Потребовать от Пашаевой предъявить упомянутую книгу в качестве доказательства своих слов – действительно наиболее легкий и простой способ доказать клевету в адрес армянского писателя. Скорее всего, многолетняя практика безнаказанного распространения лживых и провокационных заявлений приучила азербайджанских депутатов – и не только их – к тому, что армяне, как правило, не реагируют на их наглое вранье, которое таким образом, постоянно сходит им с рук. В данном случае уже в зале ПАСЕ должен был выступить хотя бы один армянский депутат и потребовать предъявить и книгу, и доказательства остальных заявлений Пашаевой. А отсутствие реакции с армянской стороны приводит к тому, что Азербайджан наглеет буквально на глазах и деятели типа Пашаевой ведут себя в различных международных структурах абсолютно вольготно, не обременяя себя поисками мало-мальски достоверной информации об Армении и армянах, и будучи уверены, что сойдет любая ложь. Ведь в выступлении Пашаевой, помимо известных и уже набивших всем оскомину клише, содержалась и другая гнусная ложь: о якобы возвращенном недавно пленном азербайджанском мальчике со следами пыток на теле. Если Зорий Балаян решит идти до конца – это станет первым и очень важным прецедентом для наказания фальсификаторов и лжецов – будь они хоть трижды евродепутатами. В данном случае просто необходимо действительно пойти правовым путем и потребовать от азербайджанской депутатки предъявить руководству и членам Парламентской Ассамблеи Совета Европы ту самую книгу, из которой она цитировала отрывок, и доказать, что она принадлежит перу армянского писателя. Понятно, что такой книги – во всяком случае, за армянским авторством – в природе не существует, при этом весьма вероятно, что цитата взята из какого-нибудь азербайджанского опуса. В любом случае крайне важно заставить Пашаеву именно в ПАСЕ опровергнуть сказанное и публично принести извинения Зорию Балаяну. Только подобным способом можно заставить азербайджанскую машину лжи сбавить обороты, а кликушествующих ханумок – умерить собственные антиармянские аппетиты. Кстати, по свидетельству юристов, есть и иной способ потребовать защиты чести и достоинства, который в данном случае может даже быть более эффективным. Международные правовые нормы допускают обращение в суд с иском о защите чести и достоинства по месту происшествия. Поскольку Пашаева выступала в Страсбурге, Балаян имеет все основания обратиться в городской суд этого французского города и потребовать призвать клеветницу к ответу. Однако нам представляется, что в защиту Зория Балаяна должен выступить не только сам Зорий Балаян. В конце концов, вызов писателю – это вызов по большому счету и всей армянской общественности, представителем которой Балаян является. Это также вызов армянской государственности, уж коль скоро у Азербайджана имеются известные проблемы противостояния Армении. Возьмется ли наше юридическое сообщество, равно как и государственный аппарат, опровергнуть гнусную клевету на армянского писателя? В любом случае важен прецедент правового решения застарелого вопроса многолетних антиармянских измышлений и фальсификаций со стороны Азербайджана. И возможно, персонифицированность на сей раз обвинений Пашаевой способна в определенной мере облегчить задачу, ибо требуется по большому счету одно: предъявить пресловутую книгу или признать собственную ложь. И понести за нее ответственность. defacto.am
-
Напужал Есть люди, которым просто вредно читать. Речь идет не о чтении вообще, а о чтении военных теоретиков, и не о людях вообще, а о параноиках с дипломом. К такому выводу придет любой непредвзятый человек, ознакомившийся с опубликованной в российском портале Регнум статьей Умара Сайдуллаева: «Есть ли у военных конфликтов военный путь решения?» Сайдуллаев, начитавшийся Карла фон Клаузевица и ознакомившийся с мнением министра иностранных дел Греции Доры Бакоянни о безальтернативности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, воспылал праведным негодованием. «Трудно согласиться с обобщением г-жи Бакоянни, когда речь заходит обо всех конфликтах, - в патетическом угаре излагает он свое мнение и отважно ныряет в глубину веков, - она (война – Л. М.-Ш.) существовала на протяжении тысяч лет с тех пор, как homo sapiens научился собираться в группу из трёх и более человек». И неважно, что в азарте гипотетической войны он узрел в доисторических временах контртеррористические операции с использованием космических технологий – чего только не приплетешь ради благородной цели напугать потенциального противника. Важно другое: Сайдуллаев пытается внушить аудитории право Азербайджана на возобновление войны. В случае, если население Нагорно-Карабахской Республики не попросит у Баку извинений за построение суверенного государства и не перестанет ощущать себя, выражаясь языком Сайдуллаева, Homo erectus-ом, человеком прямоходящим. Сайдуллаевым мечтается видеть население Арцаха на коленях и в согбенном виде. Нашего воинствующего оппонента смешит логика тех дипломатов, согласно которым карабахско-азербайджанский конфликт не имеет военного пути решения. «Военный путь решения есть у всех конфликтов, за исключением, пожалуй, тех, в которых у конфликтующих сторон нет вообще никакого оружия, даже рогатки», - демонстрирует он свое дремучее невежество. Придется провести урок ликвидации безграмотности персонально для Сайдуллаева. История знает даже Столетнюю войну, так и не нашедшей своего решения. Из новейшей истории можно вспомнить ирано-иракскую войну, унесшую свыше миллиона жизней. В результате этой войны, как известно, сохранилась довоенная ситуация. Однако Сайдуллаев вправе не знать историю. Ему больше по душе военная теория, потому и угрожает он нам расчехлением танков. Он считает, что этот процесс моментально приведет к желательному для Азербайджана исходу армян из Нагорно-Карабахской Республики, а, возможно, и из Республики Армения. При этом мыслит он как истинный тюрок: если армянская сторона говорит о мире, то значит, она слаба. Ибо у тюрок другой менталитет: он привык резать, когда есть возможность, или, если нет возможности отрубить руку, поцеловать ее и приложить ко лбу. В знак покорности слабого перед сильным. Не тем аршином мерит Сайдуллаев, ой не тем. Потому и считает, что «без передачи «микрофона» от дипломатов к военным, эта сторона (НКР – Л. М.-Ш.) будет бесконечно и весьма удобно прятаться за пацифистической (так у Сайдуллаева – Л. М.-Ш.) и одновременно абсолютно импотентной позицией Минской группы ОБСЕ». Опьяненный нефтедолларами Сайдуллаев напрочь запамятовал, что однажды «микрофон» уже находился в руках у азербайджанской военщины. И раздутый до «свыше миллиона» легион азербайджанских беженцев из зоны военных действий является прямым результатом передачи «микрофона» военным. Запамятовал он и другое: в годы Арцахской (Первой, если это угодно Сайдуллаеву) войны преимущество Азербайджана над армянской стороной в людских и военных ресурсах было значительно выше, чем сегодня. Более того, ныне совокупная военная мощь армянских государств намного превосходит военные возможности Азербайджана. Поэтому на вопрос, выведенный в название статьи Сайдуллаева, отвечу: «Есть! Попробуйте и убедитесь!» Но, видимо, нефтедоллары обладают особенными свойствами, иначе не вспоминал бы Сайдуллаев к месту и не к месту о военном бюджете Азербайджана. А вспомнив, не изрекал бы кичливо: «… в Армении должны знать и помнить каждую минуту, что азербайджанцы никогда денег на ветер не бросают и впустую их не тратят. Может настать день, когда накапливаемый сегодня порох, не дай Бог для кое-кого, пойдёт в ход». Охотно верим, азербайджанцы денег на ветер не бросают, тем более, что в карманах алиевых, пашаевых, абиевых и еще нескольких кланов – хозяев Азербайджана сквознячок не наблюдается. Да и кто бы им позволил это делать!? Азербайджанцам положено аккуратно платить в фонд им. Гейдара Алиева, на строительство памятников и музеев Гейдару Алиеву и другие государственной важности мероприятия. Однако, не наше это дело, развитие скульптурного искусства в Азербайджане: там вольны ставить памятники хоть Алирзе Алиеву, хоть Азизу Алиеву. Авось, и руку набьют, выйдут в мир со своими Роденами. А вот «накапливаемый порох», который, возможно, пойдет в ход «не дай Бог для кое-кого» - это уже наше дело. Наше право сделать так, чтобы «кое-кто» оказалась противная сторона. Как и весь прошлый век, когда раз за разом мы колотили их на поле боя. Но, видно, урок не впрок. Ибо память закавказских турок сохранила не позорные страницы поражения, а резню беззащитных армянских крестьян. Именно эти акты невероятной, поистине животной жестокости являются для них примерами военной доблести. Безусловно, на угрозы Сайдуллаева можно было бы наплевать с минарета расположенной в НКР агдамской мечети, но ведь не поможет: уж слишком далеко он находится. За тысячи километров от возможного театра столь откровенно агитируемых им военных действий. Точно так же, как в годы Первой Арцахской войны. Ибо Умар Сайдуллаев не кто иной, как восходящая звезда защитников курдского режима Азербайджана. Он просто забыл или не знал, что существует такое явление, как литературный почерк. Так что за подписью воинствующего Сайдуллаева торчат уши дезертира Вугара Сеидова. С чем его и поздравляем. Напоследок остается сожалеть, что данная статья «Сайдуллаева», в открытую призывающая к межнациональной ненависти и войне, была опубликована на страницах одного из крупнейших российских интернет-ресурсов.
-
Статья годичной давности... http://www.mk.ru/daily/35446.html
-
На Украине то же самое: Как сообщили в центре общественных связей Управления МВД в Днепропетровской области, вечером в воскресенье, 28 июня, между двумя компаниями, находившимися в кафе, завязалась драка. При этом одна компания состояла из граждан Украины армянской национальности. http://korrespondent.net/ukraine/events/885472
-
[url="http://www.day.az/news/sport/162986.html"]Эфиопский легкоатлет Хайле Ибрагимов установил рекорд Азербайджана[/url]
-
О русской дипломатии в отношении армян очень интересно здесь: http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=883111
-
Ник, отличный репортаж!
-
Как-то само собой так сложилось, что с подключением к переговорам карабахской делегации инициатива перешла к армянской стороне. Мы диктовали ход переговоров, а делегация Республики Армении нас поддерживала, создавала благоприятные условия, приводила дополнительные аргументы в нашу пользу. Это была хорошая команда во главе с Кристианом Тер-Степаняном. Их поведение до нашего участия в переговорах, видимо, объяснялось тем, что руководство РА, Левон Тер-Петросян, заставили их обсуждать документы о выводе войск. Боялись, что против Республики Армении будут приниматься санкции - мне кажется, главная причина заключалась в этом. В течение 92-го года я не раз встречался с Тер-Петросяном. Перед каждой поездкой в Рим и обратно он принимал нашу делегацию, и я убедился, что Тер-Петросян чересчур осторожничает. Сейчас есть мнение, что он сознательно осуществлял антиармянскую политику, но я в это не верю. Думаю, он по натуре такой - чересчур осторожный человек. Его основная проблема и беда заключалась в неспособности поверить в нашу победу. Только постепенно, от этапа к этапу, он убеждался, что можно победить в войне. Есть люди высокого полета, смелые, решительные, а он, видимо, вот такой: очень осторожный, нерешительный, медлительный. Думаю, это во многом его вина, что мы не стоим на Куре… Как можно было допустить, что трижды разгромив армию противника, мы трижды давали ему возможность встать на ноги. Надо было добивать, хотя бы во время последней операции. Не говорю дойти до Баку, но, по крайней мере, до Куры. И каждый раз именно он останавливал наступление армянских сил. Левон Тер-Петросян все время чего-то боялся, возможно, вмешательства извне или еще чего-то... Не знаю, какие силы оказывали на него давление. Но больше чем уверен, что Азербайджан никогда бы так не поступил с нами. Они бы добили нас, никогда не остановились бы на полпути. Как можно было остановить войну, - такую тяжелую, при таких потерях, затратах, трудностях, не добившись окончательной победы... Мы трижды выстояли, трижды смогли переломить ситуацию и, в конечном счете, победили, но эта победа далась нам очень дорогой ценой. Незавершенная война дала возможность Азербайджану выпрямить спину. Мы не сломали им хребет, а, скажем так, как следует побили. Теперь они встали на ноги, укрепились и вновь грозятся войной. И в том, что ситуация именно такова, на мой взгляд, главная вина Левона Тер-Петросяна. Мы здесь придерживались мнения, что надо идти до конца, но нам не позволили. Руководство Республики Армения пугало нас: если мы не остановимся, в Армению войдет турецкая армия. Мы своими действиями ставим под удар судьбу армянского народа. В нескольких своих интервью в 93-м году и весной 94-го я открыто говорил, что мы не должны обманываться, и Азербайджан просто выигрывает время. Нужно добивать его, сломать хребет, заставить признать нашу независимость и заключить мирный договор. Пока этого не произошло, с ними нужно говорить только с позиции силы. Тем не менее, сегодня нам несравненно легче. Тогда, в начале переговоров, мы проигрывали войну, военная инициатива была на стороне Азербайджана, значительная часть территории Арцаха оказалась под оккупацией. Мы жили в страшных условиях и, прямо скажем, были на грани поражения, когда судьба Арцаха висела на волоске. И в этих условиях мы умудрялись добиваться дипломатических побед. Сейчас ситуация намного лучше, никто нас силой не принуждает принять какие-то решения, гораздо больше возможностей для маневрирования. Сейчас население Арцаха в лучшем положении, армия намного сильнее, чем тогда. Одним словом, есть все предпосылки для того, чтобы успешно вести дипломатическую войну. Думаю, нам не хватает активности. Первый и главный шаг - надо вернуть Карабах за стол переговоров. Республика Армения не должна представлять НКР на переговорах. Так всем нам будет намного легче. Во-первых, Республика Армения освободит себя от многих забот. В конце концов, решается наша судьба. Они вправе сказать: раз это судьба арцахцев, они должны участвовать в переговорах. И начать надо с нуля. Тут возникают риски. Кроме возобновления военных действий, или, скажем, угрозы возобновления, есть риски дипломатические. В процессе урегулирования сегодня прямо или косвенно участвуют отдельные страны Европы и ЕС, США, Россия, Иран, Турция. Это многочисленные и многообразные связи и интересы, которые надо просчитать. Сейчас появились новые внешние факторы, новые вектора, и надо проанализировать, куда они направлены. Тогда, в Риме, мы явно видели позиции всех стран, поэтому нам было легче ориентироваться. Но если в 92-м году мы могли сказать «начинаем с нуля», сейчас сказать то же самое, все же, легче. Сейчас самым весомым фактором является внутриполитическая обстановка в Армении. Если политические силы в Армении найдут общий язык и будут выступать единым фронтом, мы приобретем былую силу. Внутренний раскол в Армении, - вот в чем главная опасность. И второй момент, еще одно слабое место – неспособность использовать максимально эффективно возможности Спюрка. Когда в 93-м, в начале марта, мы подписали мандат наблюдателей за прекращением огня - как я уже говорил, второстепенный документ - важным было то, что впервые нас приняли в качестве стороны конфликта, под документом стояла и наша подпись. В тексте было предложение: «После заключения перемирия, вывести иностранные войска из зоны конфликта». Это вызвало такую тревогу среди нашей интеллигенции, политических сил, что мне пришлось объясняться, не доезжая до Степанакерта, в Ереване, в «Арцах-комитете» - представительстве НКР в Ереване. На нас обрушился шквал эмоциональных обвинений. - Вы читали документ? - Нет. - Сначала надо прочитать, а потом говорить. Там нет ничего опасного. Кроме того, это только первый документ, пойдут другие, на которые Азербайджан не согласится, но мы уже будем являться стороной переговоров. Мы уступили очень мало, но приобрели право подписи. Так я пытался объяснить, но слушать не хотели. Приезжаю в Степанакерт, здесь Президиум Верховного Совета вызывает меня «на ковер». Три или четыре часа давал разъяснения по документу, копию которого взял с собой. Вижу, что нюансы не доходят и не воспринимаются, пришлось пересказать все, показать, что обсуждаемый пакет документов связан с текущей обстановкой. Во-первых, переговоры нельзя было сорвать по нашей вине. Во-вторых, нас признали стороной конфликта. На фоне таких успехов есть маленькая уступка, причем в расплывчатой форме. Пусть кто-нибудь докажет, что здесь есть иностранные войска. Если кто-то докажет, что в зоне конфликта присутствуют российские или какие-то другие войска - мы их немедленно выведем. Кто сказал, что мы обязуемся вывести добровольцев из Армении? А все увидели именно эту опасность. Я также выступил перед депутатами Верховного Совета, встретился в Арцахском университете с преподавательским составом и студентами. Затем выступил по радио в прямом эфире, где больше часа отвечал на каверзные вопросы по переговорам и написал статью для газеты «Карабах». Вот такая была наша политика тогда - открытая для общества. Потому что потерять доверие народа страшнее, чем где-то в чем-то вместе ошибиться. Если мы вместе ошибемся, то вместе и исправим свою ошибку. Но если потеряем доверие народа, если между политическими силами начнется грызня, пойдет раскол, это намного страшнее и очень сложно исправить. Политика закрытых, кулуарных решений - неправильная линия. Причем это преподносилось и преподносится так, как будто какие-то гениальные личности и дипломаты ведут переговоры, о которых нам, простым смертным, лучше не знать. Разрабатываются остроумные комбинации, ведущие к великому успеху, о которых сейчас надо молчать и «известить» народ, когда успех будет достигнут. На самом деле, ничего подобного не было и нет. Мы все прекрасно знаем, вокруг каких принципов ведутся переговоры. И коллективный разум, воля всегда сильнее. Поэтому вести полностью закрытые, оторванные от народа переговоры всегда опасно, это может привести к ошибкам. Если бы тогда мы прислушались к мнению Левона Тер-Петросяна и подписали все эти бумажки, как он настаивал, к чему мы пришли бы? Он с таким многозначительным видом курил и говорил простые, банальные вещи – нам тяжело, против нас могут применить санкции, поэтому идите и подпишите то, что вам подкладывают. Первого президента РА мы буквально тащили за собой. Не он нас, а мы - арцахское армянство во главе со своим руководством - вели его за собой. И добились успехов. А если бы мы поддались бы его давлению, пошли бы за этими непонятными дипломатическими ходами? Мы просто потеряли бы Арцах. Сегодня другие условия. Во-первых, сегодня нужно говорить о трехуровневой системе безопасности. Первый уровень - это наши гарантии безопасности и соответствующие условия их обеспечения. Армия, система обороны, зона безопасности - все в комплексе. Второй уровень - региональный. Гарантии вступления в войну Республики Армения в случае нападения Азербайджана, гарантии Азербайджана о неприменении силы. Участие других стран региона в решении вопросов безопасности. И, наконец, третий - международный уровень, когда в систему включаются международные институты, глобальные центры силы, имеющие интересы в регионе. Чтобы можно было говорить о долгосрочном и устойчивом мире, мы должны выстраивать мир на Южном Кавказе в рамках такой трехуровневой системы безопасности. Во-вторых, главным вопросом, с которого начался конфликт, был статус Арцаха. Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Арцах - независимое государство, мы ведем переговоры по другим вопросам: установление горизонтальных связей, система безопасности, границы, беженцы (наши и азербайджанские) – возвращаются или нет, и куда возвращаются. Другими словами, есть целый комплекс реальных проблем, которые можно рассматривать, но не вопрос статуса. Мы формулируем 3-4 главных для нас вопроса, кладем их на стол переговоров. Если наш подход вас не устраивает, мы отказываемся от всяких переговоров. Уступки должны быть взаимными. Что Азербайджан нам уступает сегодня? Они говорят: уступкой является ненападение. Мы должны считать это уступкой? То есть мир в обмен на все остальное, так получается? Мир и, тем более, перемирие всегда можно нарушить. Фактически, они всегда его нарушали. В результате несправедливого мира случится надлом, и наше население начнет с недоверием относиться к власти. Начнется новая волна эмиграции. Мы можем в мирных условиях потерять Арцах. Такая опасность тоже существует, возможно, противник именно на это и рассчитывает. Сегодня наша позиция, позиция Карабаха, должна быть более жесткой. Республика Армения, конечно, имеет свои взгляды, международные договоренности, связи, принципы. Может быть, Армения в чем-то права, когда маневрирует, идет на какие-то контакты, но я говорю о позиции НКР. У нас очень много других аргументов, в том числе правовых. Или вот такой аргумент: за тысячу лет противостояния двух народов, со времен сельджуков назовите хоть одну деревню, которую турки или азербайджанцы уступили нам просто так, за столом переговоров. Такого не было. У них такой менталитет, они не могут смириться с мыслью об уступках. Веками они захватывали, и это сходило им с рук. И нелогично предполагать, что перелом когда-нибудь произойдет. А почему мы просто так должны отдавать им территорию, с какой стати? Ведь эти границы сложились в результате навязанной нам войны, которую они проиграли. Почему мы должны результаты своей победы повернуть в их пользу? Только из-за угрозы новой войны? В любом случае при возможности они снова нападут. Я не вижу вариантов нашего совместного проживания в одном государстве. Пролито слишком много крови с обеих сторон... Это выльется в то, что мы видим в отношениях между евреями и палестинцами в Израиле. Тем более при той армянофобии, которая существует в азербайджанском обществе. Невозможно найти хотя бы одну статью в армянской газете, выступление хотя бы одного политического и, тем более, духовного деятеля даже в самые тяжелые для нас годы – никто не позволил бы себе употреблять те слова, которые можно услышать сегодня в Азербайджане относительно армянского народа. «Предательство в крови у армян», - это публичные слова духовного и религиозного лидера страны. Поэтому жить по соседству, когда у обеих сторон есть дубинка в руках, - да, это возможно. Но не более...
-
Что меня поразило по ходу переговоров. Азербайджанская армия уже терпела сокрушительные поражения. Но ни по одному важному вопросу, касающемуся, например, статуса Карабаха, представители Азербайджана не шли ни на какие уступки. Они действовали и теперь продолжают действовать по принципу, изложенному в свое время еще Наполеоном: требуй невозможного, чтобы получить максимум. Я был среди тех, кто настаивал на участии нашей делегации в переговорах в рамках Минской группы, хотя многие были против. Причины я приводил разные. Во-первых, участвуя в переговорном процессе, мы поможем Республике Армении, возьмем на себя часть нагрузки. Во-вторых, появится возможность предотвратить навешивание на РА ярлыка «агрессора». В- третьих, чего нам бояться? Если у нас ясная и четкая позиция, если мы знаем, чего хотим, почему мы должны бояться участвовать? Наш отказ подтверждает мнение, что армяне агрессоры, в чем-то виновны и пр. И, наконец, лучшего формата, чем Минская группа ОБСЕ придумать сложно. Здесь тебя не принуждают силой принять какие-то решения, считаются с мнением даже самого слабого. А что может быть лучше для стороны, которая обороняется, испытывает недостаток в ресурсах, не признана и хочет доказать свою правоту? Если этот процесс будет длиться годы, пусть длится. Шаг за шагом, может нам и удастся к чему-то прийти. Другое дело, например, формат ООН. У того же СБ ООН есть возможность силой заставить тебя выполнять какие-то неприемлемые для тебя решения. Вот какого рода аргументацию я приводил в пользу необходимости согласиться на участие в переговорах. Может быть именно потому, что я так активно поддерживал эту позицию, меня решили назначить руководителем делегации. И сегодня я убежден, что участие было правильным. В принципе, это самый удачный для нас формат и нам надо или вообще отказываться от переговоров, или вести их в рамках ОБСЕ. Уровень подготовки нашей делегации был на порядок выше азербайджанской делегации. О турецкой делегации я не говорю, турки были очень хитрыми, опытными, умными. Но азербайджанская делегация оставляла желать лучшего в плане подготовленности. Даже тогда, когда ею руководил министр иностранных дел Касымов, присоединившийся к переговорному процессу в 1993 году - «колоритная» личность с длинными волосами, «артист», смешивший всех своими оторванными от реальности и несуразными предложениями. Например, такой вот случай. Я уже говорил, что в качестве переводчика в составе нашей делегации находился Петрос, - итальянский армянин. И Касымов ставит условие: он должен быть удален из состава карабахской делегации, иначе мы отказываемся от переговоров. Ему объясняют американцы, турки и другие, что присутствие этого человека не противоречит уставу Минской группы, что делегация имеет право привлечь в качестве переводчика, кого считает нужным, тем более армянина по национальности. А он настаивает на своем, кричит, устраивает истерику, покидает зал. Потребовалось два дня, чтобы привести его в чувство и опять посадить за стол переговоров. Американцы, турки возвращали, а мы спокойно настаивали на своей правоте, и не поддавались на уговоры, попытки убедить нас отказаться от Петроса. Некоторые члены делегации РА советовали нам сразу уступить, заменить Петроса, чтобы не срывать переговоры. Я отвечал: если сорвутся по вине азербайджанцев, пускай срываются. Если мы уступим в маленьком, незначительном, тогда они обнаглеют и станут требовать все больше и больше. Вначале один небольшой шаг и уступка, затем другой шажок, и, сам того не замечая, оказываешься в проигрышной ситуации. В конце концов, видя всю абсурдность складывающейся ситуации, мы согласились пойти на маленький компромисс, Петрос сел не за столом, а позади меня. В принципе, на их фоне, на фоне того, что они вытворяли, мы выглядели очень корректными. Но один раз я тоже чуточку сорвался. Немного некорректно получилось, но к месту. Не помню, какой вопрос мы обсуждали, азербайджанцы запутались в своей лжи и пытались как-то выкрутиться. Естественно к ним на помощь пришла турецкая делегация, которая стала приводить свои аргументы, чтобы как-то «спасти лицо» азербайджанской делегации, вывести из затруднительного положения. И тут я не выдержал и говорю: - Сейчас мы наблюдаем, как турки безуспешно пытаются помочь Азербайджану, который оказался «по уши в грязи». Давайте все вместе поможем вытащить за уши азербайджанскую делегацию. Под общий хохот руководитель азербайджанской делегации покидает зал, мотивируя, тем, что я, якобы, назвал его ослом. Однако слово «осел» не прозвучало, но есть восточная пословица: «вытаскивать за уши осла из грязи». Вот так однажды я как бы нарушил немного тактику корректного поведения. В остальном мы себя вели очень корректно, спокойно, аргументированно. Настолько, что Мареску, американский представитель, в отдельной беседе с нами признался, что удивлен тем уровнем, который демонстрирует карабахская делегация.
-
Американцы и европейцы старались объективно и комплексно говорить о проблеме, найти решение проблемы на основе принципов ОБСЕ, в соответствии с мандатом, выданным Минской группе. Русские тоже как бы придерживались позиции нейтралитета - ни вашим, ни нашим. Но очень часто Владимир Казимиров, тогдашний руководитель российской делегации, больше поддерживал азербайджанскую сторону, что вызывало недовольство с нашей стороны. Чтобы как-то сгладить напряженность, он пригласил меня и Гранта Хачатряна на отдельную конфиденциальную встречу. Мы встретились в посольстве России в Риме и до часу ночи беседовали. Я расписал 22 пункта и положил ему на стол: вот наши претензии, вот почему мы не согласны с позицией России на переговорах. Помнится, в отдельных пунктах говорилось, что российская делегация действует против интересов своей страны. На это он возмущенно воскликнул: «Слушайте, вы что, больше болеете за Россию, чем мы сами?» Я говорю: «Это ваше право так считать. Я свое мнение высказываю, я считаю, что вы действуете против России и доказываю это. Если российская политика согласится с уничтожением Карабаха, армянский клин очень быстро будет ликвидирован, Турция получит мост в Азербайджан и Среднюю Азию, а Россию начнут выталкивать на север». То есть пересказал ему все то, что обсуждалось тогда и обсуждается сегодня. Он возмутился: «Вы что, лучше нас понимаете наши интересы?» Я говорю: «Давайте, Владимир Николаевич, не будем спорить, я высказываю свое мнение, хотите - принимайте его, хотите, нет. Я считаю, что Вы не должны себя так вести. Хотя бы придерживайтесь нейтралитета, а то вы поддерживаете Азербайджан против нас. Мы никогда не согласимся с этими условиями». Речь, помнится, шла о прекращении огня на предварительных условиях Азербайджана, русские поддерживали эту позицию на переговорах. Потом он не выдержал и развел руками: «Боря, ну что я могу сделать, Ельцин настаивает». Я помню, тогда поразился и подумал: «Ну тогда скажите открыто, что вы на стороне Азербайджана, к чему весь этот спектакль?» На следующий день я в присутствии всех, как бы в шутку, но громко, на весь зал, говорю: «Ну что, «союзнички»?..» Может быть, это было нетактично с моей стороны. Все начали хохотать, переглядываться. А Казимиров упрекнул меня: - Борис Сергеевич, в конце концов... Разве так можно… - А что, вас разве по-другому можно назвать? Только так - «союзнички». Так и врезал. А что делать, сколько можно терпеть? В этот момент американец подошел ко мне: - Что он там вам говорил? - А вы откуда знаете? - Мы все знаем. Знаем, что вы встречались. - Тогда отвечу одним предложением. Они хотят выглядеть большими католиками, чем Папа Римский. Он начал смеяться и я уточнил: - Да. Русские хотят быть большими католиками, чем вы, и их позиция нас не устраивает. - Тогда, может, давайте к нам? То есть я открытым тестом сказал американцам, что позиция русских по отношению к нам хуже западной и немедленно услышал предложение занять более проамериканскую, прозападную позицию и получить соответствующую поддержку. Это было в 92-м году. В августе того же года в Москве, на обратном пути из Рима, Владимир Казимиров организовал в гостинице «Россия» нашу конфиденциальную встречу с личным представителем (имя не помню) азербайджанского президента Абульфаза Эльчибея, на которой присутствовали по два человека с каждой стороны, с нашей - Грант Хачатрян и я. Речь шла уже не просто о перемирии, но прекращении боевых действий на тех же предварительных условиях, которые выдвигала азербайджанская сторона в Риме. Помимо того, что озвучивалось во время переговоров, нам обещали полную самостоятельность во всех сферах, кроме внешней политики и силовых структур. Я ответил, что это неприемлемо. Силовые структуры - это гарант нашей безопасности и единственный надежный заслон политике азербайджанизации Арцаха. Вертикальной подчиненности Арцаха Азербайджану быть не может даже в символической форме - связи только горизонтальные. Переговоры шли несколько часов, но мы так и не пришли к согласию. В конце концов, представитель президента Азербайджана не выдержал и раздраженно воскликнул: «Тогда будем воевать». Я ответил: «Воевать так воевать...» И мы разошлись. После встречи Казимиров принял нас в МИД-е РФ и высказал сожаление, что нам не удалось договориться. Я вновь высказал уже в присутствии других работников МИД-а нашу точку зрения. «Так, как ведет себя Россия, союзники не ведут». И сослался на отношения между США и Израилем как пример союзнических отношений. Не увидев особой реакции, я прямо спросил: «А как будет себя чувствовать Россия, если Армянство, увидев обреченность и безнадежность сопротивления, согласится с потерей Арцаха и пойдет на установление стратегических отношений с Западом в обмен на гарантии безопасности Республики Армения и армянского народа. Вы не можете не знать, что нам предлагают установить такие отношения». В комнате установилось гробовое молчание... В 93-м атмосфера уже изменилась, чаша весов на фронте постепенно склонялась в нашу сторону. То есть азербайджанцы уже не видели возможности блицкрига, не видели конца этой войне, поэтому стали более сговорчивыми. Но, тем не менее, по собственной глупости они сорвали переговоры. Кстати, в августе 92-го, во время нашей второй поездки в Рим, мы попросили Папу Римского принять нашу делегацию. Дали телеграмму в его адрес там, на месте. Нам ответили, что он болеет, лежит в постели и не может нас принять. Но нас примет секретарь Святого Престола по связям с зарубежными странами (министр иностранных дел Ватикана) Жан-Луи Торан. На встрече были: я, Хачатрян Грант и местный армянин в качестве нашего переводчика. Звали его Петрос, он знал несколько языков, в том числе итальянский, английский и французский, и мы везде его брали с собой. Беседа продолжалась час двадцать минут. Господин Торан расспрашивал нас, детально интересовался, в каких условиях мы живем - всем, вплоть до мелочей. О блокаде, бомбежках, беженцах, энергетических коммуникациях, питании населения, военных действиях, переговорном процессе. Мы, по мере возможности, подробно его проинформировали. Он был удивлен, поражен. Под конец попросили оказать нам помощь и поддержку. Он ответил, что постарается, но сейчас, сегодня об этом не стоит писать открыто, лучше ограничиться заявлением, что встреча была продуктивной для обеих сторон. «Мы постараемся Вам помочь. Передайте Паргеву Србазану, чтобы он, будучи в Европе, с нами связался. Мы встретимся, договоримся, как организовать гуманитарную помощь». Я рассказал Србазану о нашей встрече, о желании секретаря Святого Престола с ним встретиться и, насколько я знаю, такая встреча состоялась. Помню, в Риме во время первой поездки, когда очень тяжело шли переговоры - в июле, после Мардакерта, со мной связался корреспондент «Голоса Америки» и начал задавать вопросы: «Как идут переговоры? Как Вы себя чувствуете? Как эта агрессия действует на Вас? Сможете ли выстоять?» Я ему ответил подробно на все вопросы и выразил уверенность, что победа будет за нами. «Что касается условий, в которых мы сражаемся, то лучше об этом не рассказывать. Это страшные условия, - нехватка всего и вся, бомбежки... Но мы держимся, мы не сомневаемся в победе». Интервью очень понравилось армянам Спюрка. В конце я сказал одну фразу, правда, в «Голосе Америки» потом ее вырезали. Сказал, что они зубами вцепились в наши горы, но мы им эти зубы обломаем. Местные СМИ тоже интересовались, мы им давали интервью, организовали пресс-конференцию, выступления по телевидению. Причем с надписями «делегация НКР» на табличках, на фоне большого плаката «НКР». Мы все это сфотографировали и взяли с собой. Везде старались использовать аббревиатуру НКР, старались максимально привлечь внимание западной прессы к нагорно-карабахской проблеме. Отношение было очень доброжелательным, кроме турецкой и азербайджанской делегаций и российской делегации под руководством Казимирова, которая просто не знала как себя вести.
-
На встрече в августе азербайджанцы выдвигали тезис о том, что Шуши, якобы, взят вооруженными силами РА. Они настаивали на том, что Республика Армения является агрессором, главной стороной конфликта, а Карабах как бы «с боку припеку». Агрессивно, упорно доказывалось, что Шуши захватил и передал карабахцам экспедиционный корпус РА численностью 15 тысяч человек, который до сих пор находится в Карабахе. Нашей делегации пришлось потрудиться, чтобы разрушить сложившееся к этому времени убеждение. Мы нашли эффективный способ опровергнуть версию противника. Я просто сделал элементарный расчет. В условиях блокады Карабаха из Республики Армения вылетал в лучшем случае один вертолет в день, способный поднимать максимум 2 тонны груза. Каким образом можно перебросить в Карабах за несколько месяцев 15-тысячный экспедиционный корпус со всем необходимым снаряжением, боеприпасами и прочим, имея в распоряжении один вертолет? Достаточно простые расчеты показывают, что для этого потребуется несколько лет. Расчеты легли на стол американцам, как главным действующим лицам, - все европейские страны, прислушивались к их мнению. И руководитель американской делегации, спецпредставитель госдепартамента США в переговорах по Нагорному Карабаху Джон Мареска, познакомившись с нашими доводами, согласился: «Вообще-то разумно, правильно». Я ему говорю: - Вы, наверное, при помощи космических спутников контролируете все эти передвижения. Он смеется: - Ну, конечно. - Ведь вы можете подтвердить, что один вертолет в день вылетал из Армении в Карабах. - Да. - Тогда вот, пожалуйста, расчеты. Посмотрите можно ли перебросить корпус одним вертолетом в сутки. - Я согласен, согласен, что Шуши взяли карабахские силы. Может там были добровольцы из Армении, но основной контингент был карабахским. С этим мы согласны. Тут руководитель азербайджанской делегации покраснел, стал орать, ругаться, не могу передать, какими словами. Несколько раз покидал зал заседаний, готов был лопнуть от злости. Турецкие представители выходили за ним, уговаривали, возвращали обратно. Это не было игрой на публику. Я даже боялся, что он сейчас получит инфаркт. Он был так возмущен, что не сдержался, схватил стул и такой силой ударил об пол, что пиджак упал. Но наши доводы подействовали. Американцы согласились, за ними все остальные, и с этого момента ярлык агрессора был снят с Республики Армении. Больше всего меня удивило то, что такой простой способ доказательства за два месяца не пришел в голову делегации РА. Они слушали все эти доводы азербайджанской стороны о 15-ти тысячном экспедиционном корпусе, и никто не говорил, что это же глупость - да, были добровольцы, но не регулярная армия. Они, конечно, возражали, но доказать ничего не могли. Азербайджанцы нахрапом брали свое, гнули свою линию. Дальше мы стали расширять круг наших требований. Ну, например, что Турция не может получить статус посредника. Были такие моменты, когда Турцию хотели включить в тройку посредников: Россия, США, Турция. Мы категорически выступили против, доказывая, что Турция поддерживает азербайджанскую агрессию, осуществила Геноцид армян. Помню, я тогда на листе бумаги, написал около 10 пунктов, по которым Турция не может быть посредником, упомянув, в том числе, и Геноцид. В начале шли очевидные пункты: они поддерживают азербайджанскую делегацию здесь на переговорах. Они предоставляют Азербайджану помощь - политическую, военную, экономическую, финансовую и так далее. Затем было выдвинуто требование внести ясность в определения, так как к этому времени использовалось множество терминов, которые каждая из делегаций понимала по-своему. Ну, скажем, мы под сторонами конфликта, понимали Арцах и Азербайджан, азербайджанцы настаивали, что это Республика Армения и Азербайджан, остальные считали, что это Армения, Азербайджан и Арцах. Давайте окончательно договоримся, кто является сторонами конфликта, и поставим на этом точку. Что значит «зона конфликта»? Вы называете зоной конфликта территорию Карабаха и район боевых действий, но мы не согласны. Азербайджанские самолеты взлетают и бомбят Степанакерт из Кюрдамира, почему вы его не включаете в зону конфликта? Зоной конфликта нужно считать всю территорию Азербайджана. Это была кропотливая работа, когда уточнялись и прояснялись более десятка терминов. Что самое интересное, мы находили понимание у членов Минской группы кроме Азербайджана и Турции по всем тем вопросам, где у нас были веские аргументы, где мы могли доказать свою правоту. Нам только говорили, что есть черта, определенная мандатом Комитета старших должностных лиц ОБСЕ, за которую перейти не получится. По всем остальным вопросам внутри круга очерченного для Минской группы ОБСЕ есть возможность самостоятельно решать какие-то вопросы, можно маневрировать. И вот в этом кругу по всем вопросам, которые мы ставили и аргументировано доказывали свою правоту, они принимали наши предложения. Действовал принцип консенсуса, и бывало, азербайджанцы не соглашались. Но тогда на помощь Минской группе приходили турки и начинали убеждать азербайджанскую сторону, что бесполезно упираться, спорить не получится, надо соглашаться. Иногда это туркам удавалось. Я там впервые увидел и оценил, насколько турки прожженные, умные политики и дипломаты. Надо сказать, что азербайджанцы вели себя очень примитивно: по каждому вопросу покидали зал, уходили, шумели, кричали. Может, вначале эта тактика и приносила им успех, но по мере того, как мы начали аргументировано доказывать нашу позицию, они все чаще и чаще стали отступать. И уже к весне 93-го года карабахская делегация была, фактически признана стороной конфликта. Наша подпись уже стояла под одним документом - мандатом наблюдателей в случае достижения прекращения огня. То есть при достижении прекращения огня прибывшим наблюдателям должны были выдать мандат, и под документом о согласии на это стояла подпись Карабаха. Первый, пусть не очень весомый документ, где стояла подпись карабахской делегации, лично моя подпись. Правда через две недели азербайджанская делегация сорвала переговоры. Отказавшись от прекращения огня, они сорвали договоренность и по мандату наблюдателей, который был согласован в Риме. Через несколько дней, наши войска вошли в Карвачар, и они снова начали кричать, шуметь. И все стали их обвинять: вы же сами все сорвали, что вы хотите - война продолжается, по-вашему, Карабах должен сидеть и наблюдать? Помню в эти дни, баронесса Керолайн Кокс отправила нам телеграмму примерно такого содержания: поздравляю с блестящими победами карабахской армии и дипломатии. То есть к весне 93-го года нами была достигнута и военная, и дипломатическая победа. Карабах был фактически признан стороной конфликта, и мы уже стояли в одном шаге от того, чтобы оформить это юридически. В этих условиях я передал весь пакет документов, все материалы о переговорах сформированному летом 93-го года, через несколько месяцев после взятия Карвачара, МИД-у НКР.
-
Борис Арушанян Мы обломаем им зубы Весной 92-го года создали Минскую группу ОБСЕ, выдав ей мандат на начало переговоров. Тогда у нас была парламентская республика, хотя мы сформировали уже и правительство: премьер-министром стал Есаян, я - первым заместителем премьера, и мы все одновременно были депутатами. Первые два месяца Президиум Верховного Совета категорически отказывался отправлять делегацию в Рим из-за того, что там могут принять решения не в нашу пользу. Опасались, что нам эти решения станут навязывать. Азербайджан к тому времени перешел в наступление при поддержке российских войск, - в первом эшелоне наступающих войск шли танки с опытными экипажами бывшей советской 23-й дивизии, и ситуация на фронте складывалась плохая. В конце июня вновь собрался наш актив, призванный решать жизненно важные для страны вопросы. Он, как правило, включал 20-25 человек, не больше – в том числе от Президиума Верховного совета, от правительства. От сил самообороны в него входили председатель Комитета Сил Самообороны Серж Саркисян, командующий Силами Самообороны Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) и его заместитель - Самвел Бабаян. Также в активе состояли несколько бывших членов «Крунк»-а, члены Совета директоров. Вроде бы ничего срочного не предвиделось, и я отлучился на обеденный перерыв. Когда вернулся меня встретили вопросом: «Где ты пропадаешь? Мы приняли решение отправить делегацию в Рим». Оказывается, я назначен главой арцахской делегации, в которую кроме меня входят Роберт Кочарян (он курировал вместе с Сержем Саркисяном и с Самвелом Бабаяном вопросы обороны, формирования и координации вооруженных групп, создания Армии и т. д.) и Грант Хачатрян, член Президиума Верховного совета. Я поднял вопрос, почему именно меня назначили главой делегации, и выяснилось, что ситуация слишком щепетильная, неопределенная и никто не хочет рисковать. Находясь в Арцахе, было невозможно сказать заранее какое давление будут на нас оказывать в Риме, к каким решениям начнут принуждать. Не дай Бог, заработаем ярлыки предателей. - Хорошо, раз решение принято, я готов поехать, но с условием. Пока не ознакомлюсь со всеми документами, которые рассматриваются, не изучу принципы, на которых выстраиваются переговоры, наших подписей под документами не будет. Я должен полностью убедиться, что процесс не направлен против нас, что ни один из обсуждаемых документов не противоречит интересам Арцаха, не является проазербайджанским. Оценив обстановку, мы там, на месте, примем решение как дальше себя вести. Если мой подход принимается, я готов возглавить делегацию, в противном случае - отказываюсь. Я также попросил позволить мне вывезти к родственникам в Ереван жену, шестимесячную дочь и двухлетнего сына. Было очевидно, что переговорный процесс займет не один день и чересчур опасно оставлять их одних в городе, ежедневно повергающемся артобстрелам и бомбежке, где нет воды, проблемы с продовольствием и пр. Все согласились, и мы выехали в Ереван. Перед вылетом в Рим было немного свободного времени, и мы успели провести несколько встреч. Меня принял президент Левон Тер-Петросян и говорит: «Ситуация критическая, нас обвиняют в агрессии, принимают санкции против Армении. Одним словом - катастрофа. Я тебя прошу, постарайся там при возможности быть уступчивым, подписывай бумаги». Я ему отвечаю так же, как членам актива: «Пока не будет ясности по всем вопросам, пока не буду внутренне убежден, что это не противоречит интересам Арцаха, я не могу обещать что буду что-то подписывать. Если Вас такой подход не устраивает, ради Бога, я готов отказаться». – «Нет-нет, Борис, езжай, посмотрим, что и как. Просто знай мое мнение: надо быть уступчивым». Потом состоялась встреча с Хосровом Арутюняном. Он тогда работал в составе ряда делегаций и стал меня консультировать, делая упор на принципах работы Минской группы: кто как себя ведет, какая страна какую позицию занимает по отношению к нам. Это была полезная информация в основном справочного характера. Я встретился также с несколькими работника МИДа РА, затем нас принял Раффи Ованесян, тогдашний министр иностранных дел Республики Армения. Он был немногословен: «Езжайте, на месте сориентируетесь. Мы будем поддерживать связь по телефону и если что, - обсудим как себя вести. Но ситуация действительно очень тяжелая для нас». Мы прибыли в Рим 3-го июля, и на следующий день узнали, что противник взял Мардакерт. Это еще больше ухудшило наше положение на переговорном процессе, потому что до взятия города уже более 30% территории НКР было оккупировано азербайджанской армией. Поток беженцев хлынул в Степанакерт - крики, плач, шум. И это в условиях, когда нет ни ресурсов, ни продуктов, экономика разрушена. Только-только по Лачинскому коридору начали доставлять из Республики Армения гуманитарные грузы, ГСМ... По прибытию в Рим, мы первым делом встретились с армянской делегацией: узнать, что они за эти два месяца предприняли, как идут переговоры, что рассматривается, обсуждается. Одним словом проконсультироваться и решить как действовать дальше. Их было четверо: руководитель делегации Кристиан Тер-Степанян, а также Сурен Золян, Хачатур Безирджян и Матевос (Метью) Тер-Манвелян из Бостона. Мы составили текст заявления по поводу азербайджанского наступления и взятия Мардакерта, обсудили его с армянской делегацией и внесли корректировки. Они рассказали, что на переговорах рассматриваются так называемые графики вывода армянских сил из Шуши и Лачина. Мы были поражены и оказались просто в шоковом состоянии: как это так, у нас в Степанакерте понятия не имеют, что здесь обсуждаются такие документы (может один-два человека у нас и были в курсе – не знаю). Роберт Кочарян мне говорит: «Боря, спокойно». А я вышел из себя: «Что вы делаете? Турки на расстоянии 15 км от Степанакерта, на подступах к Аскерану идут бои, а вы здесь рассматриваете сдачу Лачина, Шуши? Что вы нас опять в блокаду загоняете, как нам дальше воевать?! Вы в своем уме?!» Они начали оправдываться, что ситуация такая, они вынуждены рассматривать: «Мы, конечно, не соглашаемся, спорим – обсуждать еще не значит соглашаться». Я говорю им: «Такие предложения вообще не должны рассматриваться. Это уже поражение и то, что вы соглашаетесь обсуждать такие вопросы очень плохо». – «А что ты предлагаешь?» - «Завтра вы сообщите, что прибыла карабахская делегация, пусть она изложит свою позицию. Мы тогда забракуем все прежнее и представим свои предложения: начинать все с чистого листа, и никаких графиков, пока идут боевые действия». Азербайджанская делегация тогда выдвигала предварительные условия. Чтобы они прекратили огонь, карабахцы должны признать территориальную целостность Азербайджана – раз, и вывести войска из Шуши и Лачина - два. И уже обсуждались мероприятия в рамках графика вывода войск из Лачина. В противном случае, Азербайджан оставлял за собой право продолжать боевые действия. Первое наше предложение заключалось в отказе от обсуждения графиков вывода наших войск. Второе предложение: наша делегация должна иметь определенный статус, признанный всеми участниками. Мы имеем равные с Азербайджаном права. Поскольку мы - сторона конфликта, наш статус должен быть равен статусу азербайджанской делегации. Если такого статуса у нас нет, мы не можем гарантировать, что принятые в будущем решения или достигнутые договоренности будут нами соблюдаться. Третий момент: подход должен быть комплексным. То есть по отдельности никакие вопросы не обсуждаются и не решаются. Причем первым пунктом в списке должен идти статус Нагорно-Карабахской Республики, как первопричина конфликта, и уже затем вопросы вывода войск, территориальные проблемы, беженцы и пр. Члены армянской делегации говорят нам: «Они не согласятся». Я отвечаю: «Если не согласятся, мы не будем участвовать в переговорах. Как только начнется заседание, мы выступим с заявлением. Если наш подход принимается – мы начинаем переговоры. В противном случае возвращаемся обратно и выступаем с соответствующим заявлением». Кристиан пообещал поддержать нас на встрече. Порядок работы был следующим: в пленарных заседаниях участвуют только члены Минской группы, а в рабочих встречах и совещаниях, участвуют все - там мы как бы имеем равный со всеми статус и голос. Но мы требовали участия и в пленарных заседаниях, чтобы и там нам предоставили равноправный статус. Долго спорили, обсуждали. Я приводил свои доводы о том, что графики вывода войск нельзя рассматривать, когда на расстоянии 15 км от Степанакерта идут бои. По этому вопросу с нами имели отдельные встречи американцы, русские и другие делегации, кроме, естественно, азербайджанцев. По отдельности мы убедили всех, что в нынешних условиях глупо рассматривать какие-либо графики, - надо аннулировать документы и начать с чистого листа. В первую очередь, убедили американцев. Правда, азербайджанская делегация начала шуметь и кричать. Потом, видимо, турецкая делегация им разъяснила, что это лишено смысла, надо соглашаться. В этом вопросе они уступили, но по статусу нашей делегации уступать не хотели. Остальные согласились, правда, с оговоркой: поскольку вы непризнанная республика, мы не можем официально зафиксировать в документах, что карабахская делегация имеет статус равный с азербайджанской. Мы сделаем по-другому, - приравняем уровень пленарных заседаний к уровню рабочих. То есть не будем проводить пленарных заседаний, только рабочие совещания. Когда достигнем соглашения, тогда уже проведем пленарное заседание. То есть были созданы условия, чтобы наша делегация подтягивалась по статусу и участвовала в переговорах.
-
Прошу вас похоронить меня лицом вниз… чтобы не видеть этого правительства 22 ноября 1965 г. в своей холодной и сырой квартире умирал один из самых талантливых армянских писателей - Лер Камсар. Он с нетерпением ждал редактора издательства «Айастан» Хачика Погосяна, который должен был принести сигнальный экземпляр его «Человека в домашней одежде» - книги, выхода которой он ждал столько лет... Редактор ворвался в комнату с искаженным лицом и, не переводя духа, выпалил: «Варпет, ЦК наложил арест на вашу книгу!..». Эта весть стала последней каплей, подкосившей писателя… Семья уведомила соответствующие органы о его смерти не сразу, а лишь после того, как собрала и припрятала у надежных людей его рукописи и книги - иначе они могли сгнить в подвалах КГБ. Сатирик Арам Товмасян выбрал тернистый путь, который предопределил его полную лишений и страданий судьбу изгнанника. Свои первые фельетоны, опубликованные в газетах родного Вана, он подписывал полюбившимся ему с детства именем Камсар. Как-то раз один из видных горожан, встретив его на улице, поздравил с очередным сатирическим рассказом и, похлопав по плечу, сказал: «Ты не Камсар, нет, ты - великий Камсар, Лер (Скала) Камсар!». Вот так и появился его литературный псевдоним - Лер Камсар. В 1915 г. Камсар вместе с матерью перебрался в Закавказье и начал сотрудничать с издающимися там армянскими изданиями, сразу же завоевав признание читателей. Не было ни одного армянского редактора, который не умолял бы Камсара работать у него. Диапазон затрагиваемых сатириком тем был очень широк - от бытовых мелочей до политики, от узконациональных до общечеловеческих проблем. Как ни странно, власти спускали ему все, пока не наступили времена культа личности, жестоко карающие тех, кто осмеливался иметь свое собственное мнение. То были удобные времена для сведения личных счетов. А врагов у Камсара было предостаточно: слишком уж многих он сделал героями своих фельетонов, слишком многих выставил на всеобщее посмешище своим убийственным сарказмом. Долго раздумывать его недоброжелатели не стали… В 1931 г. по инициативе армянских пролетарских писателей началась травля 43-летнего Камсара. В архивах Службы национальной безопасности Армении хранится папка с личным делом Камсара под грифом «Хранить вечно». Наряду с другими документами она содержит несколько рукописных страниц из дневника самого писателя, рассказывающего о том, как проходило заседание Рабкрина, на котором рассматривался его вопрос. Камсар выражает уверенность, что одним из организаторов этого процесса был Егише Чаренц, с которым сатирик был в свое время очень близок, но в дальнейшем серьезно разочаровался в нем - дело дошло до крупной ссоры. В период увлечения Чаренца футуризмом Лер Камсар в своем фельетоне-рецензии назвал поэта «певцом слюны, соплей и мочи». Именно это, по мнению сатирика, и стало причиной мести со стороны Чаренца, который хоть и явился на заседание с опозданием, но разразился в адрес Камсара самыми суровыми обвинениями - он назвал сатирика дашнаком и с присущей ему горячностью обругал его. А в конце велел председательствующему лишить Камсара последнего слова в свою защиту. «Я понял, что приговор мне вынесен заранее и меня вызвали лишь затем, чтобы я признался в совершении «преступлений», - пишет Камсар. «Судьи» выбрали беспроигрышную тактику и с легкостью завлекли писателя в свою ловушку. Во времена, когда люди боялись даже вздохнуть, дабы власти не восприняли это как недовольство советским строем, Лер Камсар осмелился во всеуслышание заявить: «Турецкое правительство лучше вашего правительства!». Впоследствии писатель так прокомментировал свои слова: «Они прекрасно знали, что я не дашнак, но называли меня дашнаком. От волнения и злости я потерял контроль над собой и стал отвечать на их вопросы спонтанно. Именно этому следует приписать мое непродуманное сравнение правительства младотурок с нашим в пользу первого. И это при том, что именно руками младотурок были истреблены армяне Западной Армении, в том числе и многие мои горячо любимые родственники». После этого злосчастного судилища редакторы газет и журналов, люди искусства стали всячески избегать Камсара. Изо дня в день писатель обивал пороги редакций и министерств в поисках хоть какой-нибудь работы, голодный и усталый стучался в равнодушные двери, но - напрасно. И это было еще «милосердным» наказанием. Осенью 1935 г. чекисты арестовали Камсара, в очередной раз вывезли и сожгли его архив. На этот раз писателя судили как «врага народа», дашнака, и на три года сослали в Воркуту. Стоически отбыв срок, Камсар вернулся в Ереван. Однако правительство, посчитав, что наказание было недостаточным, а может, просто побаиваясь его острого пера, решило изолировать писателя от общества. Лер Камсар не успел даже зайти домой и повидаться с женой и детьми: явились милиционеры и заявили, что ему запрещено проживание в городе. Свидание с родными в тот день так и не состоялось. Камсара сослали в Басаргечар (ныне Варденис) - теперь уже на целых 18 лет! Если некоторых писателей большевистская власть просто расстреляла, то Камсара она обрекла на медленную смерть. «Моя комнатка здесь была ужасно крохотной… Зимой положение становилось воистину невыносимым. Все то, что содержало хоть каплю воды, обращалось в лед. Чтобы разгрызть окаменевший хлеб, я отогревал его в постели за пазухой - чтобы он хоть чуточку отошел от тепла моего тела...». Но даже в таком состоянии он не переставал писать, хотя полноценно мог работать лишь в теплую погоду, прислонившись к копнам сена. Лер Камсар отправился в ссылку молодым, полным сил и энергии человеком, а вернулся постаревшим телом и душой. Преследования не прекратились и после 1954-го - года амнистии. ЦК, пресса, Театральное управление и даже Союз писателей не давали ему писать и печататься. И лишь в годы «оттепели», когда жизнь уже казалась ему лишенной смысла, правительство восстановило его писательские права и назначило мизерную пенсию для дальнейшего существования. …Камсару не суждено было уйти из жизни умиротворенным - ему было отказано даже в этом. В 1965 г. готовится к печати его сборник «Человек в домашней одежде», ставший лебединой песней Камсара. Выходу книги в свет помешал злополучный фельетон «Директор театра», который Камсар написал по заказу журнала «Возни», будучи не знаком с прообразом «героя» - директором театра имени Сундукяна Казаром Казаряном. Последний задействовал все свои возможности и посредством ЦК добился-таки запрета на продажу книги. Вот так закончилась мученическая жизнь дарящего своим читателям смех человека. Перед смертью он успел сказать лишь: «Прошу вас похоронить меня лицом вниз… чтобы не видеть этого правительства. Не сомневайтесь: когда-нибудь режим сменится, и я, даже весь истлевший, снова перевернусь на спину». Тагуи Асланян
-
Станислав ТАРАСОВ Кто и как создал «дело о бакинских комиссарах» В январе 2009 года в Баку демонтировали памятник 26 бакинским комиссарам. Этот мемориал был создан еще в конце 1960-х годов и являлся одной из архитектурных достопримечательностей города. Постсоветские события вдохновили азербайджанские власти к сведению счетов со своим историческим прошлым, особенно с лидером Бакинской коммуны Степаном Шаумяном. По информации, в могиле были обнаружены останки только 23 человек. Судебно-криминалистическая экспертиза, проведенная специалистами Академии наук и Объединения судмедэкспертизы и патанатомии Минздрава Азербайджана, выявила, что все люди погибли от многочисленных ранений, полученных от винтовочных выстрелов и ножевых ударов. Между тем история ареста и гибели бакинских комиссаров в августе 1918 года до сих пор остается не до конца выясненной. Предлагаемая статья, очевидно, тоже одна из очередных версий, впрочем, достаточно правдоподобная. В качестве любопытного дополнения приводим отрывки из доклада главного коммуниста Азербайджана незабвенного Гейдара Алиева, который 11 октября 1978 года выступил на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения Степана Шаумяна... Прекрасная иллюстрация банальной истины, что от любви до ненависти — один шаг. Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат парламента Ягуб Махмудов выступил с заявлением о том, что в могиле 26 бакинских комиссаров нет останков Степана Шаумяна, Татевоса Амиряна и Арсена Авакяна. Депутат парламента Азербайджана историк Насиб Насибли прокомментировал этот факт следующим образом: «Еще в середине 80-х годов ХХ века, во времена горбачевской перестройки, в прессе было много публикаций относительно того, что англичане расстреляли не всех 26 бакинских комиссаров. В частности, не был расстрелян Степан Шаумян и несколько других армян. Они были перевезены в Индию, которая в то время была колонией Великобритании, и скончались там своей смертью». В этой связи историк Керем Мамедов уверенно заявил, что «Степан Шаумян еще в 70-е годы жил в Индии». Причем в качестве одного из доказательств выдвинутой им версии приводился обнаруженный в Национальном архивном управлении Азербайджана любопытный документ: телеграмма, отправленная 8 марта 1919 года из Тифлиса военным атташе Азербайджана в Тифлисе полковником Мамедбеком Алиевым главе правительства и министру иностранных дел Азербайджанской народной республики Хан-Хойскому. В ней, со ссылкой на перехват 26 февраля 1919 года Тифлисской радиостанцией сообщения, посланного из Астрахани некоему Соколову, «предлагался обмен арестованного представителя Союзнической миссии — Союзникам и называли США, Великобританию и Францию — на Степана Шаумяна и других военнопленных». В этой связи Институту истории Национальной академии наук Азербайджана было поручено провести историческое изучение неожиданно возникшей проблемы. ЛОВУШКА ДЛЯ ШАУМЯНА Обстоятельства, связанные с исчезновением бакинских комиссаров, остаются во многом загадочными. 25 июля 1918 года на расширенном заседании Баксовета при обсуждении вопроса обороны города от наступления турецко-мусаватистских войск 258 голосами против 236 было принято решение об обращении за помощью к находившимся в соседней Персии англичанам. Совнарком решил сложить свои полномочия под предлогом, что помощь англичан «противоречит условиям Брестского договора». Баксовет образовывал новое правительство — Диктатуру Центрокаспия. 9 августа 1918 года глава правительства Советской России Владимир Ленин посылает запрос председателю астраханского военсовета: «Положение Баку для меня неясно. Кто у власти? Где Шаумян? Запросите Сталина и действуйте по соображениям всех обстоятельств. Вы знаете, что я доверяю Шаумяну полностью». Вскоре в Баку появляется со своим отрядом Г. Петров. 3 сентября 1918 года газета «Известия ВЦИК» печатает сообщение из Баку: «15 августа весь день на Петровской пристани выгружаются пароходы, прибывшие из Астрахани. На них находится большое количество вооружений. Эти части, прибыв в Баку и узнав, что Советской власти в городе больше не существует, а в Баку находятся несколько сот англичан, на своих собраниях выносили резолюции с требованием восстановления Советской власти». Г. Петров срочно телеграфирует Ленину: «Приходится вести борьбу с партиями, о которых в России почти не слышали. Как-то: Дашнакцутюн и пр. Главное, у многих партий явно английская ориентация. Теперь все зависит от быстроты переброски моих частей сюда». Но у Петрова в Баку ничего не получилось. Он принимает решение покинуть Баку. Ночью во время сильного шторма отряд Петрова вместе с комиссарами покидает на пароходах город. Однако им вдогонку бросились военные суда Каспийской флотилии, которые под угрозой обстрела заставляют корабли вернуться назад в Баку. Комиссаров арестовывают, обвиняя их в дезертирстве. Начинаются непростые переговоры. В конце августа 1918 года в Баку прибывает из Астрахани Георгий Стуруа. Эсерам Саакянцу и Велунцу и меньшевику Садовскому — лидерам новой бакинской власти — он предлагает план. Большевики согласны оказывать помощь войсками — в течение недели из Астрахани прибудут 7-8 тысяч красноармейцев, освобождаются из заключения комиссары, начинается отпуск нефти в РСФСР, проблема власти остается открытой до разгрома турок. Переговоры срываются. Объявляется, что бакинские комиссары будут преданы суду. В дело опять вступает Петров. В обмен на освобождение из-под ареста комиссаров он направляет свои части на фронт и отбивает первый штурм турецко-мусаватистских частей. И все же бакинские комиссары на городской конференции принимают окончательное решение: покинуть город. Диктатура Центрокаспия вновь их арестовывает и принимает окончательное решение предать их военно-полевому суду. Но в суматохе комиссарам удается покинуть город. Правда, намечавшийся поначалу план эвакуации на пароходе «Севан» таинственным образом срывается. Анастас Микоян договаривается с дашнаками, они предоставляют свой пароход «Туркмен», на котором и начались необычные приключения. МИКОЯН ОБЪЯСНЯЕТСЯ Дальнейший ход событий описывает в своих мемуарах сам Анастас Микоян. Пароход «Туркмен» был забит беженцами и вооруженными солдатами. Когда он отчалил от пристани и вышел из бухты, Микоян подошел к Шаумяну и сообщил, что все капитаны имеют предписание идти в Петровск, куда эвакуировалась Диктатура Центроскаспия. Микоян предлагает переговорить с капитаном, чтобы заставить его незаметно изменить курс на Астрахань. Поначалу тот соглашается, но взбунтовалась команда, которая не пожелала отправляться к большевикам. Принимается решение идти на Красноводск. Утром 16 сентября «Туркмен» был остановлен на рейде Красноводска баркасом «Бургас» с военными. Шаумян собирает всех в кают-компании и заявляет, что «нас будут арестовывать» и поэтому нужно спуститься вниз, чтобы смешаться с пассажирами, попытаться проскочить через контроль, пробраться в город с тем, чтобы добраться потом до Астрахани или до Ташкента. Удалось пройти два пункта проверки. Но на третьем было арестовано 35 человек. Их поместили в арестный дом, стали выяснять, кто из задержанных Шаумян, Азизбеков, Джапаридзе. Позже, как пишет Микоян, часть арестованных была переправлена в ашхабадскую тюрьму. Вскоре в Баку стали циркулировать слухи о том, что одни комиссары расстреляны в Закаспии, других же вывезли через Персию в Индию. Поэтому Москва не располагала точной информацией об их судьбе. 24 января 1919 года Советское правительство предложило Лондону «обмен... тов. Шаумяна, Джапаридзе и других членов Бакинского правительства с их семьями, увезенными англичанами из Баку, на английскую миссию, задержанную во Владикавказе». 13 февраля Кремль затребовал у британского правительства разрешение для въезда в страну комиссии «для принятия всех подготовительных мер для общего обмена». Лондон отмалчивался. Это объясняется следующими обстоятельствами. Державы Согласия приняли решение организовать встречу всех российских правительств и правительств стран, отделившихся от России, с представителями Союзников на Принцевых островах в Мраморном море. Встречу предлагалось открыть 15 февраля 1919-го. 4 февраля 1919-го большевистский Нарком по иностранным делам Георгий Чичерин по радио отправил ответ Союзникам. Большевики заявили о готовности выплатить иностранные долги, о готовности предоставить горнорудные, лесные и другие концессии гражданам Союзных стран, о готовности на территориальные уступки Союзным державам. Эсеры высказались против вмешательства держав. В московских газетах стали появляться многочисленные заявления лидеров русских эсеров. Например, в одном из них, от 7 февраля 1919 года, говорилось: «После октябрьского переворота 1917 года партия социалистов-революционеров, желая отстаивать свою программу, начала активную борьбу с Советской властью. Теперь обвинения большевиков в том, что они — суть наемные слуги германского империализма — ничем не обоснованы. Поэтому в отношении России державы Согласия становятся на путь удушения Русской революции, поскольку на окраинах бывшей Российской империи сформирована «реакция, обрамленная в национальные одежды». Именно в этой связи по заданию ЦК партии эсеров в Закаспий, а затем в Закавказье выехал член ЦК, бывший депутат Государственной Думы от Туркестана Вадим Чайкин. Ему была поставлена задача: собрать материал, доказывающий «причастность английских оккупационных войск к расправе над бакинскими комиссарами». НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ИГРЫ Вилфрид Маллесон, руководитель британской военной миссии в Индии, Афганистане и Закаспийской области, в 1918-1919 годах пишет в своих мемуарах: «Британская миссия не желала, чтобы бакинские комиссары проникли в Закаспий и остались там. Но мы не желали, чтобы их убивали. Они были гораздо ценнее для нас живыми. Поэтому было решено настаивать, чтобы комиссары были немедленно переданы нам и посланы в Индию, где они были бы в заключении, не подвергаясь никакой опасности. Но было уже слишком поздно. В этот период времени мы не имели в Красноводске войск, ни представителей, хотя через несколько недель мы имели и то и другое. Порт и его ближайшие окрестности управлялись неким русским по фамилии Кун, властным и безжалостным человеком. Он посадил комиссаров в поезд под предлогом отправки в Ашхабад, но в нескольких милях от Красноводска жертвы были высажены из поезда, расстреляны и зарыты в пустыне, вдоль железнодорожного полотна. Судьба комиссаров и предпринятые мною действия для получения их в свои руки, были надлежащим образом доведены до сведения Симлы, и мне было приказано выразить ашхабадским властям ужас и отвращение, с которыми английское правительство отнеслось к этому жестокому преступлению. В самом деле, инцидент мог бы пройти почти незамеченным, если бы не было только двух факторов: высокое положение некоторых из жертв и возможность, представившаяся большевикам, создать предубежденное отношение к Англии. Человеком, благодаря которому это событие было вновь вскрыто и оформлено так, как он этого желал, был некто Чайкин. Он прибыл в Ашхабад из Ташкента в феврале 1919 года, спустя 5 месяцев после убийства. Он представился мне как социалист-революционер, бежавший от большевиков и страстно стремившийся присоединиться к деникинским войскам на Северном Кавказе». Маллесон о контакте с Чайкиным сразу сообщил в Лондон. Там было решено затормозить переговоры с большевиками об обмене военнопленными до «прояснения ситуации». Точнее, англичанам необходимо было найти убедительные аргументы для того, чтобы доказать свою непричастность к расправе над бакинскими комиссарами. И они, похоже, их нашли. Супруга Мустафы Чокая Мария Горина пишет: «В Тбилиси я встретила Вадима Чайкина. В этот период Чайкин занимался делом 26 бакинских комиссаров, приговоренных англичанами в 1918 году к расстрелу. Чайкин был зол на англичан. Ему удалось найти истинных виновников, которыми оказались большевики, эсеры и социал-демократы. По версии Чайкина, инициатором расправы над Шаумяном являлся работник Тамбовского ЧК Лев Дружкин, который для этого цели специально выехал из Москвы через Царицын в Ашхабад». В марте 1919 года Вадим Чайкин появился в Баку. «Он добивался встречи со мной, и мы встретились на нелегальной квартире, — пишет в своих мемуарах Анастас Микоян. — Он сообщил, что находился более месяца в Закаспии, стараясь выяснить все фактические обстоятельства расправы над бакинскими комиссарами. Делал он это не только как профессиональный юрист, но и как член партии эсеров, желая лично убедиться, принимал ли кто-либо из членов его партии, входивших в правительство, участие в этом убийстве. Он хотел первым разоблачить их, осудить и тем самым смыть позорное пятно, дискредитирующее всю партию эсеров, в которую он верил. Чайкин считал твердо, что, не будь за спиной закаспийского эсеровского правительства английского командования, само это правительство не осмелилось бы на это преступление». Таким образом, Чайкин оказывался в западне со всех сторон. Он много раздумывал перед тем, как предать собранную информацию гласности. Сделал он это только осенью 1919 года на страницах издававшейся в Баку эсеровской газеты «Знамя труда», когда англичане были безопасны — они покидали Закавказье. И сразу разразился большой скандал. Вадим Чайкин доказывал, что непосредственным организатором расправы над комиссарами являлся глава британской военной миссии в Ашхабаде Реджинальд Тиг-Джонс. По Чайкину, убийство 26 безоружных людей, которых якобы взяли для вывоза в Индию, было совершено на глухой станции в Закаспии. Причем генерал Томсон помог бежать в Тифлис бежать одному из видных участников убийства — Дружкину. Обращение Чайкина к английскому генералу Маллесону и к английскому генералу Мильну выдать правосудию Дружкина якобы ни к чему не привели. Откликнулся только министр иностранных дел Грузии Гегечкори, который тоже на словах обязался не выпускать Дружкина из Грузии. В это время комитеты русских и грузинских социалистов и русских закавказских меньшевиков подписали совместное заявление, осуждающее «образ действий английских военных властей». К инициативе Чайкина быстро подключилась и Москва. Наркомат иностранных дел, ссылаясь на материалы Чайкина, заявил протест Лондону. В 1922 году материалы Чайкина были изданы отдельной книгой «К истории российской революции. Казнь 26 бакинских комиссаров». Это издание примечательно и тем, что на его страницах впервые географически точно обозначается место предполагаемой расправы над комиссарами — перегон Ахча-Куйма Закаспийской железной дороги. Указывается и конкретный свидетель, который и предоставил Чайкину эту информацию — известный русский тюрколог, арабист, археолог, комиссар по иностранным делам Закаспийского правительства Лев Зимин. Именно он ввел в интригу любопытнейший сюжет: в расправе над «26» были заинтересованы представители Закаспийского розыскного бюро и представитель миссии Великобритании в Закаспии, который, по версии Зимина, «был большевиком, тайным эмиссаром Москвы». ЭПИЛОГ В ноябре 1919 года Лев Зимин переезжает в Баку, где работает на кафедре арабистики в Азербайджанском университете. Он рассчитывает, что может выступить в роли чуть ли не главного свидетеля международного судебного процесса по «делу 26», о подготовке к которому заявил Кремль. И что же? В апреле 1920 года в Баку совершается большевистский переворот. 3 мая Зимина арестовывают и в тот же день расстреливают. В списке казненных, опубликованном в 3-м номере бакинской газеты «Коммунист», в графе причины казни перед фамилией Зимин значится: «За участие в убийстве 26 бакинских комиссаров». После большевизации Закаспия создается специальная комиссия ВЦИК по опознанию останков комиссаров в местечке Ахча-Куйма. Ее возглавляет чекист Я. Петерс. Он прибывает вместе с включенным в комиссию Чайкиным на место казни. Действительно, при вскрытии предполагаемого места захоронения обнаруживаются чьи-то человеческие останки с отрубленными головами. На место для опознания трупов вызываются родственники бакинских комиссаров. Однако они никого не признают. Тем не менее, принимается решение «торжественно захоронить» комиссаров в Баку. Так версия трагедии, предложенная Вадимом Чайкиным, приобретает официальный статус. 1922 год. В Москве готовится политический процесс по делу партии эсеров. Ленин предлагает включить в качестве одного из пунктов обвинений «участие эсеров в расправе над комиссарами». Однако европейские юристы, приглашенные на этот процесс, требуют фактических доказательств. Их у Кремля нет. Весной 1926 года в Баку начинается суд над главой Закаспийского правительства эсером Фунтиковым. В состав суда вошли Камерон, Мир-Башир Касумов и А. И. Анашкин. В качестве главного государственного обвинителя выступал Кавтарадзе. Допрашиваются десятки свидетелей. Фунтикова осудили и расстреляли. Чуть позже Камерон в своей докладной записке отметит, что «обстоятельства вывоза из Баку комиссаров и расправа над ними так и не были выяснены до конца». 1 сентября 1941 года во дворе изолятора орловской тюрьмы был расстрелян Вадим Чайкин. Он заявлял сокамерникам, что его взяли за то, что он знает подлинную историю гибели «26», ту, о которой он «не мог по определенным обстоятельствам» писать в своей книге. Так что не приходится удивляться тому, что в Баку продолжают циркулировать слухи о «таинственном исчезновении комиссаров в Индии». Анастас Микоян в своих мемуарах, например, писал, что, будучи в Индии с официальным визитом, он интересовался, запрашивал местные власти о «деле 26». Любопытно: такая папка в индийском архиве была, но она оказалась пустой. P. S. Ниже публикуются отрывки из доклада Гейдара Алиева на торжественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения С. Г. Шаумяна (Баку, 11 октября 1978 года). «Товарищи! Вся недолгая, но яркая, наполненная глубоким содержанием жизнь профессионального революционера, многогранная партийная и государственная деятельность Степана Георгиевича Шаумяна — символ беззаветной борьбы за свободу и счастье трудового народа, за торжество идеалов коммунизма. Степана Шаумяна отличали ясный ум, глубина анализа, удивительная способность проникать в самую суть явлений, видеть всю их диалектическую закономерность. Идейная непоколебимость, большевистская принципиальность, беспредельная преданность рабочему классу, бескомпромиссность к врагам революции — таков сплав героического характера Степана Шаумяна (Аплодисменты)... Неутомимо боролся Степан Шаумян за укрепление интернациональной спайки рабочих Баку, всех трудящихся Азербайджана. Большевистская организация придавала все больший размах организаторской и пропагандистской работе с учетом многонационального состава тружеников. Особое внимание уделял С.Шаумян деятельности большевиков среди наиболее многочисленной прослойки пролетариев — рабочих-азербайджанцев. 19 мая 1917 года по его предложению Бакинский комитет РСДРП, рассматривая вопрос «О работе среди мусульман», признал необходимым укрепить большевистскую организацию «Гуммет», приступить к изданию газеты «Гуммет». Ее первый номер вышел в свет 31 июля под редакцией Н. Нариманова. Бакинский комитет рекомендовал также увеличить представительство трудящихся-азербайджанцев в Совете рабочих и военных депутатов. На этом же заседании был обсужден и вопрос и приняты решения об усилении работы среди трудящихся-армян... В марте 1918 года мусаватисты подняли антисоветский мятеж в Баку, намереваясь задушить Советскую власть. Благодаря решительным и твердым мерам, принятым большевиками, мятеж был ликвидирован... Большевики Азербайджана, не щадя сил, вели борьбу за развитие социалистической революции вглубь и вширь. Пренебрегая кознями буржуазных националистов, не страшась смертельной опасности, они несли в массы — на промыслы и заводы, в села и уезды — ленинскую правду. И во всех преобразованиях коммуны был титанический труд председателя Бакинского совнаркома. Как образно говорил о нем Султан Меджид Эфендиев, «Степан Шаумян — вдохновитель Бакинской коммуны, ее ум, мозг, знание, мысль... Железная логика речей Степана метко била и громила врагов коммуны. Он — любимый вождь армии нефтяников»... Благородный образ Степана Георгиевича Шаумяна — вдохновляющий пример для всех поколений трудящихся Азербайджана (Бурные аплодисменты). Он родился в Грузии, где активно включился в революционную деятельность, стоял у истоков большевистской организации Армении, закалился в классовых боях бакинского пролетариата, в Азербайджане сформировался как видный руководитель общероссийского революционного движения (Аплодисменты). И сегодня мы с гордостью и любовью говорим, что великий сын армянского народа Степан Шаумян — это и сын азербайджанского народа, всех народов Закавказья, всего многонационального и единого советского народа (Бурные, продолжительные аплодисменты)».