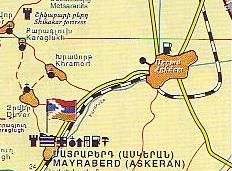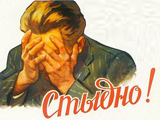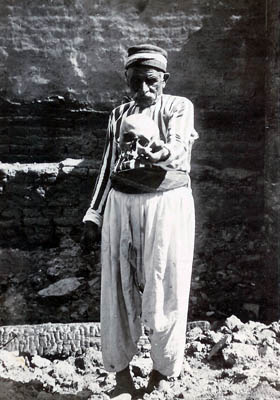-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
Хорошее контрпредложение. Только кто будет определять психическое состояние открывающего?
-
Другой внешний фактор, приведший адыгов к поражению, опять же кроется в уникальной структуре адыгского общества, сформировавшейся в условиях очень тесной и точной встроенности адыгов в систему крымско-турецкого мира — в кодексе Хабзэ, в системе ценностей, в социальных договоренностях различных слоев общества. Он тоже был одним из тех пограничных, рисковых факторов, который однозначно работал на благо системы в период её закрытости и неконкурентности, но после «открытия» системы стал столь же однозначно работать против неё. Это — черкесогаи, армяне, появившиеся на Западном Кавказе с XIII в. и резко увеличившие свое количество c начала века XVIII, в основном, из-за турецких и азербайджанских притеснений в местах их традиционного проживания. В условиях Хабзэ — с его запретом высшему сословию заниматься торговлей, да и вообще, небольшой престижности торговли среди воинственного и трудолюбивого адыгского населения, армяне быстро нашли свою нишу и быстро стали востребованы адыгским обществом. Они практически замкнули на себе всю внутреннюю торговлю, ориентированную как на движение товаропотоков внутри черкесских земель, так и на доставку товаров на побережье для их продажи туркам и генуэзцам. Это была крайне важная задача! Как писал И. Бларамберг об адыгах, «торговля рассматривается у них как презренное занятие. Горец, привыкший жить разбоем и грабежом, считает соответственно их образу мыслей, что значительно более благородно подарить вещь украденную, чем продать свою собственную. Хотя горец вынужден покупать вещи, которых ему недостает, или выменивать их на местные изделия, он считает, что быть купцом чрезвычайно тягостно, и презирает это... Торговлей вразнос по всему Кавказу занимаются армяне, которые переносят все тяготы и опасности такого вида торговли, чтобы иметь огромные барыши, которые можно извлечь из этого». Востребованность черкесогаев в адыгском обществе, их вес и влияние были настолько велики, что за весь рассматриваемый период истории из неадыгов только они и выходцы из высшего сословия Крымского ханства — Гиреи — получали в Черкесии дворянское звание. Причем, Гиреи получали его просто по факту рождения, черкесогаи же — заработали. Весь первый период войны — практически до начала 1820-х гг. — черкесогаи не проявляют особого беспокойства. Они спокойно живут на черкесских землях, трудятся, пользуются благосклонностью адыгов. Более того, не выступая открыто против русских, в этот период армяне, по факту действуют на стороне черкесов; используя свое положение торговцев и возможность под благовидными предлогами проникать в расположение русских войск, они шпионят против русских в интересах адыгов. Тому есть немало примеров, так, в одном из донесений того времени говорилось: «Закубанские армяне» посещают Линию для торговли и доставляют горцам «вернейшие сведения…к вреду российских подданных». Таких армян приказывают ловить, не пропускать через кордоны и т. д. Ситуация меняется, наверное, с приходом Ермолова. Положение в крае обостряется, боевые действия значительно активизируются, кавказские народы начинают терпеть болезненные поражения. Это мало способствует успеху торговли — торговля вообще не любит грома пушек. Мало помалу, черкесогаи начинают понимать, что на Кавказ пришел новый Хозяин — Россия и это меняет их поведение. Постепенно из русских донесений исчезают данные об армянах-шпионах и начинают появляться сводки об армянах, желающих перейти на сторону русских. Начинается массовый исход черкесогаев с адыгских земель. Причем, как правило, уходят они полностью, со всем семейством, скарбом, стадами и денежными накоплениями. В то время в документах казачьих линий можно часто прочесть нечто подобное: «Закубанские Армяне Дударук Чагупов, Хапак и Борок Багарсуковы жительствующие на Атакуме близ Абина изъявляют желание переселиться к нам из за Кубани для чего намерены… перевести постепенно (не заметным для черкес образом) свое состояние в разном имуществе заключающесь». Русское правительство поощряет уход черкесогаев. Оно даже стимулирует его, дает армянам земли, помогает административно. Так, одним из основателей города Армавира, расположенного в Краснодарском крае, становится начальник Кубанской линии генерал-майор барон Г. Ф. фон Засс, достаточно кровавый и безжалостный по отношению к адыгам человек. Когда в 1836 г. группа черкесогаев обращается к нему с просьбой «принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских», барон лично получает у верховных властей страны разрешение на их переселение из горных районов на Кубань, и выделяет им место, где был основан город, названый в честь древней армянской столицы — Армавир. Кстати, семья Богарсуковых не затерялась водовороте истории. Выйдя на российскую часть Кубани и переведя свое состояние, они строят и владеют доходными домами в Армавире, имеют обширную торговлю, уже к началу ХХ в. становятся одними из богатейших купцов Кубани. Дом их потомков можно видеть и сейчас — это одно из самых красивых зданий в Краснодаре, в наши дни в нем располагается краеведческий музей им. Е. Д. Фелицына. Но вопрос не в том, что происходило с армянами, а как их исход повлиял на ситуацию у адыгов. Торговля — это движитель экономики, её концентрированная сущность. Как могло повлиять на экономику то, что какая-то группа людей концентрирует всю торговлю в своих руках, а потом вдруг уходит и торговля прекращается? Представьте, что завтра вы проснетесь, а торговли не будет. Не откроются магазины, не заработают рынки, не выйдут утренние газеты. Позавтракать вы еще сможете потому, что в чулане припрятан мешок картошки с дачи, но вот на работу вам придется идти уже пешком, потому что билет на маршрутку вам тоже не продадут — торговля закончилась! Примерно такой же эффект это оказало на экономику Черкесии — она умирала. Зажатая в тисках экономической блокады, Черкесия была обречена. Конец мог настать раньше или позже, но после 1830 г. он был уже неминуем. Андрей Епифанцев «Причины поражения адыгов в войне»
-
«ДИКТАТОР СЕРДЦА» И «ВИЦЕ-ИМПЕРАТОР» РОССИИ: ГРАФ М. Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВ «Едва успел оглядеться, вдуматься, научиться, вдруг – бац! – иди управлять уже всем государством. Я имел полномочия объявлять по личному усмотрению высочайшие повеления. Ни один временщик – ни Меншиков, ни Аракчеев – никогда не имели такой всеобъемлющей власти». Из разговора М. Т. Лорис-Меликова со знаменитым российским юристом и литератором А. Ф. Кони. «Слава богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан, и весь этот фантастический проект был отвергнут в Совете Министров весьма незначительным меньшинством». Рецензия нового императора Александра III-го в марте 1881 г. на первой странице доклада министра внутренних дел графа М. Т. Лорис-Меликова императору Александру II-му от 28 января 1881 г. с проектом «Конституции». ПРОЛОГ 1 марта 1881 г. российский император Александр II, одобрив проект начала широких либеральных реформ, выработанных и представленных на «высочайшее рассмотрение» министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым, и назначив их обсуждение на заседании Совета министров 4 марта, заехал после развода караула в Михайловский дворец, а затем направился по Инженерной улице на Екатерининский канал Санкт-Петербурга. Однако там его уже ждала группа заговорщиков – революционеров-народовольцев с бомбами. В результате взрыва первой бомбы пострадал эскорт царя и несколько случайных прохожих. Но взрыв второй бомбы, брошенной Игнатием Гриневицким, оказался роковым для Александра II-го – царь был смертельно ранен. Умирающего царя доставили в Зимний дворец, и через несколько часов он скончался. Так закончилось двадцатипятилетнее царствование императора Александра II-го, с именем которого связаны изменившие облик России «Великие реформы», но который так и не успел осуществить не менее радикальные реформы всей системы государственного управления, которые, по имени ее автора, впоследствии стали известны под названием «Конституции Лорис-Меликова». Эти конституционные реформы, как полагают некоторые историки, могли бы кардинально изменить весь ход российской истории и даже привести впоследствии к введению в стране конституционной монархии. Но, как известно, история не признает сослагательного наклонения и, наверное, уже бессмысленно рассуждать, как бы сложилась история Российской империи, а может быть – и всей Европы, если бы не случилась трагедия 1 марта 1881 г. Еще более бессмысленно рассуждать, как бы сложилась дальнейшая судьба и политическая карьера человека, усилиями которого и был подготовлен этот проект конституционных реформ, если император Александр II остался бы жив и реформы воплотились в реальность. Человека, в котором слились качества крупного военачальника, героя войн на Кавказе и государственного деятеля в масштабах всей империи. Но вне зависимости от всего этого, сама история жизни и деятельности графа М. Т. Лорис-Меликова достойна того, чтобы продолжать удивлять историков и служить поразительным примером головокружительной карьеры умного и талантливого человека, храброго генерала и мудрого государственного деятеля. НАЧАЛО ДОЛГОГО ПУТИ... Михаил (Микаэл) Тариелович Лорис-Меликов происходил из известного в Тифлисе армянского дворянского рода. По сохранившимся преданиям, род Лорис-Меликовых вел свое происхождение еще с XVI в. от одного из армянских дворян, бежавшего в ходе ирано-турецких войн из Армении в Грузию и поступившего на службу к грузинскому царю Луарсабу I-му. Впоследствии он получил в управление область Лори, а также наследственную должность мелика – пристава этой местности. В 1602 г. предки М. Т. Лорис-Меликова – лорийские мелики Назар и Дай Калантаровы (от слова «калантар», что на персидском означает управляющий) получили от персидского шаха Аббаса фирман, подтверждающий их наследственные права владетелей области Лори. Впоследствии их потомки переселились в Тифлис, где были причислены к дворянству Грузинского (Картли-Кахетинского) царства под именем Лорис-Меликовых, т. е. «меликов Лори». Фамилия Лорис-Меликов является грузифицированным (а впоследствии уже и русифицированным) вариантом от армянского «Лору Мелик». Будущий военачальник и государственный деятель родился, согласно наиболее распространенной у историков версии, в 1825 г. в семье Тариела Лорис-Меликова – довольно состоятельного армянского дворянина, ведущего (как и многие тогдашние тифлисские армянские дворяне) активную торговую деятельность. Торговая деятельность Тариела Лорис-Меликова была довольно успешной, и в 1820-1830 гг. он смог наладить поставку промышленных и иных товаров в Тифлис даже из немецкого Лейпцига, где впоследствии имелось их семейное торговое представительство. Тариел Лорис-Меликов смог обеспечить своим детям еще в раннем возрасте возможность получить хорошее образование. Юный Михаил (будучи старшим сыном) воспитывался на дому, а впоследствии стал учеником лучшего в Тифлисе пансиона Арзановых и посещал известное армянское училище Нерсисян. С раннего возраста он проявлял особые способности к учебе, особенно к языкам, и кроме армянского, русского и грузинского языков (которыми он владел в совершенстве), также говорил на немецком, французском и турецком языках. В 12-летнем возрасте Лорис-Меликов был отправлен отцом в Москву для продолжения образования в знаменитый Лазаревский институт восточных языков. Это известное в XIX в. высшее учебное заведение было открыто в 1815 г. на средства знаменитого армянского благотворителя И. Л. Лазарева и считалось крупнейшим в России научным и образовательным центром, занимавшимся изучением восточных стран, подготовкой дипломатических кадров и государственных чиновников для работы на восточных и южных окраинах Российской империи. Традиционно значительное количество студентов Лазаревского института составляли молодые выходцы из армянских общин России и Кавказа, в чем также было особо заинтересовано российское правительство, т.к. видело в этом залог постепенной инкорпорации элит народов присоединенных к империи территорий Кавказа в российскую политическую и общественную жизнь. Достаточно сказать, что куратором и почетным попечителем этого учебного заведения являлся сам всесильный А. Х. Бенкендорф – начальник Третьего отделения императорской канцелярии и шеф корпуса жандармов. Кстати, именно благодаря протекции А. Х. Бенкендорфа Михаил Лорис-Меликов, отчисленный из Института за мелкое хулиганство (он намазал клеем стул одного из своих нелюбимых преподавателей по Лазаревскому институт, за что и был отчислен) вскоре смог поступить в Санкт-Петербурге в школу гвардейских подпоручиков и кавалерийских юнкеров – недавно открытое учебное заведение, в котором обучались молодые офицеры для дальнейшей службы в гвардейских полках российской армии. За несколько лет до того эту военную школу, кстати, успел окончить М. Ю. Лермонтов, и она считалась довольно престижной. Так, волею судьбы, будущий генерал от кавалерии и государственный деятель России, довольно неожиданно для самого себя вступил на военную стезю, которая впоследствии явится для него именно той ареной, на которой он смог в полной мере проявить свои способности и личные качества. В школе Лорис-Меликов учился хорошо и зарекомендовал себя как весьма способный курсант. Именно в эти годы будущий имперский военачальник и познакомился со многим известными в истории России деятелями культуры и искусства, как, например, с будущим великим русским поэтом Н. А. Некрасовым, с которым он познакомился в 1841 г. и вместе с ним проживал в одной квартире, снимаемой совместно с князем Нарышкиным. Как считают некоторые историки и биографы Лорис-Меликова, видимо, в эти годы и именно под влиянием Некрасова у Михаила Тариеловича зародилась особая любовь к поэзии и литературе – качество, весьма нехарактерное для полководцев и военачальников российской армии, служивших на суровом Кавказе. 2 августа 1843 г., в возрасте 18 лет молодой корнет лейб-гвардии М. Т. Лорис-Меликов, окончив военную учебу, получил назначение в Гродненский гусарский полк, в котором прослужил 4 года. Однако служба вдали от родины не очень привлекала молодого офицера, да и карьерный рост на Кавказе, в действующей армии, был бы намного быстрее. В результате, в 1847 г. уже в чине поручика Лорис-Меликов перевелся в действующие части российской армии, в Кавказский корпус. Именно здесь, на Кавказе, вблизи от родных мест и в знакомой обстановке, в многочисленных боях против турок и кавказских горцев (в его послужном списке отмечается, что за период 32-летней службы на Кавказе он участвовал в 180 сражениях и стычках) Лорис-Меликову было суждено золотыми буквами вписать свое имя в летопись российской императорской армии. СЛУЖБА НА КАВКАЗЕ: ОТ ПОРУЧИКА ДО ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ 24 июля 1847 г. Лорис-Меликов был назначен офицером для особых поручений при Главнокомандующем Кавказским корпусом М. С. Воронцове. Это был период тяжелых боев царских войск с горцами Северного Кавказа. Особо сложная для русской армии ситуация складывалась в восточной части Северного Кавказа – в Чечне и Дагестане, где они терпели тяжелые потери от горцев во главе с имамом Шамилем. Первые месяцы своей военной службы на Северном Кавказе, с ноября 1847 г. по февраль 1848 г., Лорис-Меликов прослужил в Чеченском отряде генерал-майора Нестерова. С первых же дней своей службы в действующих против горцев частях императорской армии Михаил Тариелович проявил все лучшие качества, необходимые для офицера, в том числе личную храбрость, хладнокровие, знание языков и нравов противника, способность руководить людьми в тяжелые минуты, полководческий талант. Весной 1848 г. Лорис был переведен в Дагестан, в Самурский отряд знаменитого на всем Северном Кавказе генерала Моисея Захаровича Аргутинского-Долгорукого. Выходец из старинного и знаменитого армянского дворянского рода, двоюродный внук армянского католикоса Иосифа Аргутинского-Долгорукого, уроженец Тифлиса, М. З. Аргутинский-Долгорукий, первым из армянских полководцев получивший впоследствии звание генерал-адъютанта императорской российской армии, считался одним из самых талантливых генералов на Северном Кавказе и единственным, кто, будучи командиром одного из отрядов русских войск в Дагестане в 1840-х гг., не потерпел ни одного серьезного поражения от Шамиля. Именно под руководством своего знаменитого земляка Лорис-Меликов отличился в боях при взятии укрепленного аула Гергебиль, в экспедициях Аргутинского на аулы Чох и Салты и других боях и стычках с отрядами горцев Шамиля, за что получил досрочно чин штабс-ротмистра и был награжден своей первой боевой наградой – орденом Св. Анны IV-й степени «за храбрость». В то же время, состоя при главнокомандующем Воронцове, Лорис-Меликов также участвовал с особыми поручениями в стычках и боях в составе других отрядов российских войск в восточной части Северного Кавказа, в том числе выполняя специальные задания командующего Кавказским корпусом. К 1853 г., уже в звании ротмистра, Лорис-Меликов был широко известен на всем Кавказе как один из самых перспективных офицеров, неоднократно поощрялся со стороны командующего Кавказским корпусом и командиров отрядов. Лорис-Меликов участвовал не только в боях, но ему также поручались командованием особые задания, требовавшие специфических качеств и доверия. Например, допрос известного предводителя горцев Хаджи-Мурата, с которым Лорис успел встретиться в боях еще зимой 1851 г. в Большой Чечне. Хаджи-Мурат, который из-за разногласий с Шамилем перешел на сторону русских, впервые был допрошен именно офицером по особым поручениям командующего Кавказским корпусом Лорис-Меликовым, т. к. этому факту российское командование придавало особое значение. Впоследствии именно эти сделанные М. Т. Лорис-Меликовым записи допроса Хаджи-Мурата (опубликованные Михаилом Тариеловичем в литературном виде в 1881 г. в XXX томе журнала «Русская старина» под названием «Записка о Хаджи-Мурате») лягут в основу знаменитой повести Л. Н. Толстого, посвященной известному предводителю горцев Северного Кавказа. К этому времени ротмистр Михаил Тариелович Лорис-Меликов был уже широко известен на всем Кавказе, и главнокомандующий М. С. Воронцов в своем письме военному министру России А. И. Чернышеву характеризовал его как «достойного и очень умного офицера». С началом Крымской войны 1853-1856 гг. Лорис-Меликов вновь многократно отличился в боях, но теперь уже против турок. В частности, с января 1854 г. уже в звании полковника он возглавил особый летучий конный отряд «охотников» (первоначально насчитывающий примерно 300 человек, в основном армян, а также курдов, грузин и кавказских татар), выполнявший специальные миссии командования. «Охотники» Лорис-Меликова вели разведку, а после осады крепости Карс русскими войсками осуществляли набеги на коммуникации и обозы турок в глубоком вражеском тылу. Этот отряд, лично подчинявшийся Лорису, получил настолько большую известность, что новый главнокомандующий (с конца 1854 г.) генерал-адъютант Н. Н. Муравьев так писал об этом (по образному выражению Муравьева) «иностранном легионе» русской Кавказской армии: «...составлены были из сброда людей всякого звания и состояния, большей частью из армян, как турецкоподанных, так и наших. Были между ними и грузины, и жители наших мусульманских провинций, турецкие греки и даже один русский... они заменяли казаков для дальних разъездов и поисков, отчаянно домогались всякой добычи. Не было более надежных для быстрой пересылки важных бумаг в отдаленные места, что избранные гонцы, движимые молодечеством и каким-то чувством чести, всегда исполняли с верностью». В период Крымской войны Лорис-Меликов отличился не только во время сражений, но одновременно с руководством своими «охотниками» вел также разведывательную деятельность, в том числе агентурную, в тылу противника, как в Карсе, так и в Эрзеруме, Ване и др. местах. Поддерживал также контакты с некоторыми из турецких курдов, из числа которых примерно 1300 человек впоследствии перешли на русскую службу. Роль отряда «охотников» Лориса во время осады Карса была очень важной, т. к. они практически ежедневно устраивали ночные засады, перехватывали донесения и вражеские обозы, т. е. фактически полностью хозяйничали во вражеском тылу. После взятия Карса Лорис-Меликов был назначен начальником Карсского пашалыка и, тем самым, впервые смог проявить в полной мере не только свои воинские способности и доблесть, но и административный талант. В управлении Карсской области Михаил Тариелович добился больших результатов, при этом его способности правителя и одновременно справедливое отношение к местному населению были отмечены не только российскими властями, но даже турками. В июле 1856 г., уже после заключения Парижского мира и возврата Турции Карской крепости, султан наградил Лорис-Меликова орденом Меджлиса II степени. С 1858 г. Лорис-Меликов исполнял обязанности начальника войск в Абхазии и инспектора линейных батальонов Кутаисского генерал-губернаторства. По приказу нового наместника на Кавказе А. И. Барятинского Лорис-Меликов в Абхазии осуществил строительство крепости Цебельда, предназначенной для упрочнения русского военно-политического влияния в Абхазии, существенно ограничил в регионе контрабанду оружия, процветавшую веками работорговлю и т. д. В мае 1860 г. он получил должность военного начальника Южного Дагестана и одновременно градоначальника Дербента, а 28 марта 1863 г. Лорис-Меликов стал начальником Терской области (включающей территории современных Северного Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии т. е. практически всех тех областей Северного Кавказа, в которых в течение большей части XIX в. шли наиболее упорные бои русских войск с горцами и которые совсем недавно были с таким трудом приведены к покорности). Именно на этой должности Лорис-Меликов в полной мере проявил свои лучшие административные качества в период службы на Кавказе. В этот период Лорис-Меликов, в частности, отличился как один из главных организаторов кампании по массовому выселению горцев северного Кавказа в Турцию (активно начавшуюся в 1865 г.), а с другой стороны – ликвидировал крепостную зависимость горских крестьян от местных феодалов, распространил на регион российскую налоговую, административную и судебную системы, построил первую на Северном Кавказе железную дорогу из Ростова на Владикавказ, а также на свои средства открыл во Владикавказе первое учебное заведение (Ремесленное училище). Именно на этом посту Лорис-Меликов впервые проявил свой особенный стиль административного и государственного деятеля, совмещавший попытки привлечения представителей общественности и политических элит местного населения (в данном случае – старейшин северокавказских горцев) для совместной работы над реформами и администрированием – с одной стороны, и жесткое отстаивание государственных интересов и подавление всяких попыток к сопротивлению (например, будучи одним из главных организаторов выселения черкесов и чеченцев в Турцию) – с другой. Лишь в мае 1875 г. Лорис-Меликов по собственной просьбе (из-за болезни и необходимости выезда за границу для лечения) был освобожден от должности начальника Терской области и в качестве оценки своих заслуг перед Российской империей на военной и государственной службе 30 августа 1875 г. был произведен в генералы от кавалерии. Однако уже в конце 1876 г. отпуск Лорис-Меликова за границей был прерван, т. к. императорским указом он был назначен командующим Отдельным Кавказским корпусом в преддверии ожидавшейся новой войны с Турцией. Хотя это назначение было для Лорис-Меликова, да и для многих на Кавказе, довольно неожиданным, тем не менее, как показал весь ход боевых действий на Кавказском фронте русско-турецкой войны 1877-78 гг., оно оказалось на редкость удачным. К тому же из действующих высокопоставленных российских генералов никто, кроме Михаила Тариеловича, не знал настолько хорошо будущий театр военных действий на Кавказском фронте. Как считается, это назначение Лориса состоялось по личной инициативе военного министра России и известного либерального реформатора Д. А. Милютина, хорошо знавшего и ценившего Лорис-Меликова еще со времен своей службы на Кавказе. С самого начала войны Лорис-Меликов руководил всеми операциями на Кавказском театре военных действий и блестяще проявил себя как умелый, решительный и одновременно заботливый к подчиненным командующий, снискав себе славу и известность не только в России, но и во всей Европе. За взятие крепости Ардаган 5 (17) мая 1877 г. он был удостоен ордена Св. Георгия III-й степени, а за разгром армии Мухтар-паши на Аладжинских высотах 1–3 (13–15) октября 1877 г. – ордена Св. Георгия II-й степени. За взятие Карса 6 (18) ноября Михаил Тариелович получил новую награду – орден Св. Владимира I-й степени. Вершиной его успехов в ходе русско-турецкой войны 1877-78 гг. стала капитуляция Эрзерума 11 (23) февраля 1878г. По окончании боевых действий 16 апреля 1878г. Лорис-Меликову было пожаловано графское достоинство, и он оказался единственным из генералов российской императорской армии, кто был удостоен этой чести именно за заслуги в этой войне. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ИМПЕРСКИЙ «РАСПОРЯДИТЕЛЬ» Русско-турецкая война 1877-78 гг. сделала прежде малоизвестного кавказского генерала популярным в глазах широкой российской общественности, а предыдущие заслуги Лорис-Меликова на административном поприще открыли для него новые горизонты работы уже в качестве не столько военного, сколько государственного деятеля в масштабах всей империи. Вместе с тем, на фоне активизации народнического движения в России необходима была новая политическая фигура, способная своим авторитетом руководить не только репрессивно-силовыми мерами (зачастую приводившими к контрпродуктивным результатам в борьбе против революционеров), но и влиять на общественное мнение более либеральными и привлекательными шагами по улучшению ситуации в стране. В январе 1879 г. М. Т.Лорис-Меликов был назначен временным губернатором Астраханской, Самарской и Саратовской губерний с неограниченными полномочиями для борьбы с начавшейся в Нижнем Поволжье эпидемией чумы. Благодаря решительным административным мерам и умелому руководству Лорис-Меликов смог быстро остановить распространение болезни. Вследствие этого в кратчайший срок к его авторитету как способного военачальника, добавилась репутация не только эффективного, но и честного администратора. В результате уже в апреле 1879 г. он был назначен императором Александром II-ым временным харьковским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями в связи с растущей волной революционного террора (т. к. прежний генерал-губернатор Д. Н. Кропоткин был убит народовольцем Г. Д. Гольденбергом 9 (21) февраля 1879 г.). Лорис-Меликов начал проводить во вверенной ему губернии более гибкую политику против революционеров, пытаясь ограничить масштабы репрессий и привлекая на свою сторону конструктивно настроенную часть либеральной общественности. Именно благодаря этой умеренности в своих политических действиях Лорис-Меликов оказался среди временных генерал-губернаторов единственным, не внесенным народовольцами в список «приговоренных к смерти». Деятельность Михаила Тариеловича на посту харьковского генерал-губернатора не осталась незамеченной и властями... После взрыва в Зимнем дворце 12 (24) февраля 1880 г. император Александр II, по рекомендации военного министра Д. А. Милютина, назначил Лорис-Меликова главным начальником «Верховной распорядительной комиссии, учреждённой для борьбы с крамолой» с чрезвычайными полномочиями. Ожидалось, что он возглавит непримиримую и жестокую борьбу против революционеров, однако Лорис-Меликов стал действовать иными методами, подтвердив свой образ хотя и строгого, но либерального и конструктивного государственного деятеля. Он обратился к жителям Санкт-Петербурга с особым воззванием, в котором, обещая действовать против революционных настроений без послаблений, в то же время заявлял, что главную силу, способную содействовать успокоению в государстве, он видит в поддержке общества. Такая политика Лорис-Меликова, с первых же шагов на своем посту «верховного распорядителя» подвергавшегося критики со стороны крайне реакционных кругов, получила название «диктатуры сердца», а его самого прозвали «бархатным диктатором». Назначение Лорис-Меликова стало результатом неэффективности прежних, достаточно жестких силовых и административных методов борьбы с народовольцами. Их арестовывали, некоторых казнили, но покушения на царя с завидным постоянством продолжались, а в общественном мнении авторитет «борцов с общественным строем» был очень высок, примером чему явилось оправдание Веры Засулич. Михаил Тариелович после своего назначения сразу же смягчил политику в отношении народовольцев во всех отношениях. С другой стороны, определенная часть революционеров-народников также увидела в этих действиях нового «бархатного диктатора» империи особую опасность, т. к. посчитала, что мягкие действия Лорис-Меликова (прозванные современниками политикой «лисьего хвоста») содержат угрозу для народнического движения, т. к. способны выбить социальную базу и лишить революционеров общественной поддержки. В результате, в начале марта 1880 г. на жизнь Лорис-Меликова было совершено неудачное покушение Молодецким, который, несмотря на личное ходатайство перед Лорис-Меликовым писателя Гаршина, не был помилован императором Александром II-ым и был в течение суток казнен по приговору военного суда. Вскоре Лорис-Меликов занял пост министра внутренних дел Российской империи, и в его руках оказалась сосредоточена поистине неограниченная власть во всей империи. Для успокоения общественности он добился смещения министра просвещения ретрограда Д. А. Толстого (в апреле 1880 г.), по его же предложению 6 (18) августа 1880 г. были упразднены Третье отделение и сама Верховная распорядительная комиссия. Сфера деятельности МВД под руководством Лорис-Меликова значительно расширилась за счет появления в его структуре Департамента государственной полиции, к которому перешли функции политического сыска, прежде находившиеся в компетенции Третьего отделения. Одновременно Михаил Тариелович стал шефом Отдельного корпуса жандармов. Упразднение данных одиозных учреждений сопровождалось, таким образом, одновременной централизацией полицейских институтов. На своем новом посту Лорис-Меликов ослабил цензурные ограничения, подготовил меры, улучшившие экономическое положение крестьян: снизил выкупные платежи, содействовал крестьянам в покупке земли, облегчил условия переселения; успел провести отмену соляного налога. Спад волны террора во второй половине 1880 г. привел к укреплению позиций М. Т. Лорис-Меликова, и он был удостоен высшей российской государственной награды – ордена Св. Андрея Первозванного. В определенной степени Михаилу Тариеловичу удалось добиться поддержки и в значительной степени скептически и даже критически настроенной к властям части общественности и интеллигенции страны. Например, великий русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, после встречи и бесед с «бархатным диктатором» так писал в письме своему не менее знаменитому коллеге по перу А. Н. Островскому: «По цензуре стало теперь легче, да и вообще полегчало. Лорис-Меликов показал мудрость истинного змия библейского: представьте себе, ничего о нем не слыхать, и мы начинаем даже мнить себя в безопасности. Тогда как в прошлом году без ужаса нельзя было подумать о наступлении ночи». Свои проекты Лорис-Меликов предполагал передать на рассмотрение особой комиссии, в состав которой должны были войти, кроме чиновников, выборные от губернских земств и некоторых городских дум. Этот план, включающий также важнейшие законодательные и организационные изменения, впоследствии стал известен в российской истории под названием «Конституции Лорис-Меликова». Хотя надо признать, что проект Лорис-Меликова настоящей конституцией все же не был, т.к. участие общественных деятелей в процессе обсуждения важнейших вопросов допускалось лишь с совещательным голосом. Тем не менее, как считается многими историками, принятие этой «Конституции» Александром II-ым, по позднейшему признанию многих революционеров, могло бы предотвратить подготовку покушения на императора и катастрофу 1 (13) марта. После Молодецкого, покушавшегося на Лорис-Меликова сразу после его назначения и незамедлительно повешенного, «бархатный диктатор» более полугода никого не казнил, а с февраля 1880 г. по 1 марта 1881 г. не было покушений на царя. Главным для Лорис-Меликова была либерализация общественного строя России, на которую далеко не сразу согласился и сам император Александр II. Эта идея коренных либеральных реформ полностью соответствовала характеру и политическим взглядам Лорис-Меликова, известного своим афоризмом «сила не в силе, сила в любви» – афоризма, который он постоянно в течение всей своей административной и политической деятельности пытался претворять в реальную практику. 28 января (9 февраля) 1881 г. Лорис-Меликов представил Александру II-му план реализации своей апрельской программы 1880 г., предложив создать временные комиссии (финансовую и административную) для подготовки намеченных реформ. Это фактически означало введение представительных начал в систему управления Российской империей и являлось неким прообразом конституции. Александр II одобрил план и назначил его обсуждение на 4 марта. Однако этот план держался в строгой тайне и обществу известен не был, а убийство императора Александра II-го 1 марта оказалось роковым для либерального проекта реформ Лорис-Меликова, как впрочем, и для его карьеры на высшем государственном посту. При преемнике убитого царя – новом императоре Александре III-ем в правящих кругах возобладали консерваторы во главе с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым. 8 (20) марта решение по проекту М. Т. Лорис-Меликова было отложено. 29 апреля (11 мая) Александр III обнародовал Манифест, провозгласивший незыблемость самодержавия, что ознаменовало полный отказ от любых политических преобразований, и в результате 4 (16) мая 1881 г. М. Т. Лорис-Меликов ушел в отставку. После отставки он жил в основном за границей, во Франции (в основном в Ницце) и в Германии (в Висбадене). Иногда приезжал в Санкт-Петербург для формального участия в заседаниях Государственного Совета. Либеральному государственному деятелю такого уровня как Лорис-Меликов, уже было невозможно работать в период торжества консервативной реакции в Российской империи… ЭПИЛОГ В Тбилиси, почти на самом берегу Куры, в одном из наиболее известных исторических переулков старого Тифлиса, находится главная армянская церковь – Сурб Геворг. При этой церкви также находится резиденция главы Грузинской епархии Армянской Апостольской Церкви. Сурб Геворг – это не только главный духовный центр армян Грузии: церковь примечательна также тем, что ее дворик является последним пристанищем некоторых выдающихся представителей армянской истории и культуры, выходцев из Тифлиса. Например, там находится могила великого Саят-Нова, именно там, где, согласно преданию, он и был убит во время разорения Тифлиса персидским шахом Ага-Магомед ханом в 1795 г. Несколько поодаль от могилы Саят-Новы, под сенью небольших деревьев находятся могилы выдающихся армянских генералов российской армии XIX в. – Лазарева и Шелковникова. И совсем отдельно находится могильная плита, под которой покоится прах генерала от кавалерии графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова, – человека, который не только вошел в историю Армении и всего Кавказа, но чье имя золотыми буквами вписано также в военную и политическую летопись России. Его поразительная биография, головокружительная и одновременно заслуженная карьера военачальника, а впоследствии – крупнейшего государственного деятеля своей эпохи до сих пор удивляет историков и исследователей жизни этого удивительного армянина, достигшего вершин политической карьеры в масштабах всей Российской империи. Родившийся в Тифлисе, получивший образование в столице, блистательно прослуживший на Кавказе и в двух войнах против турок, достигший высот государственной службы в империи, автор «Конституции», способной создать основы конституционного устройства России и, возможно, изменить весь ход ее истории, либеральный политик и выдающийся военно-административный деятель, М. Т. Лорис-Меликов умер после продолжительной болезни 12 (24) декабря 1888 г. в Ницце и был впоследствии похоронен в своем родном Тифлисе. Кстати, кортеж с телом Лорис-Меликова был доставлен из Франции в Тифлис через территорию Османской империи, и с этим фактом связана довольно трогательная история. Император Александр III, помня о том отношении, которое имелось в Турции к Лорис-Меликову после русско-турецкой войны 1877-78 гг. (что, естественно, объяснялось той значительной ролью, которую сыграл тогдашний командующий Кавказским корпусом в блистательных победах русских над турецкими войсками), и опасаясь каких либо нежелательных инцидентов со стороны турок, обратился со специальным посланием к султану, с просьбой оказать содействие в беспрепятственном прохождении кортежа с гробом «друга его отца» (т. е. покойного императора Александра II-го) через территорию Турции в Тифлис, подкрепив свою просьбу посылкой российского военного корабля в Стамбул. «По политическим своим воззрениям Лорис-Меликов был умеренный постепеновец, последовательный либерал, строго убежденный защитник органического прогресса, с одинаковым несочувствием относившийся ко всем явлениям, задерживающим нормальный рост и правильное развитие народов, с какой бы стороны эти явления ни обнаруживались… Он стоял за возможно широкое распространение народного образования, за нестесняемость науки, за расширение и большую самостоятельность самоуправления и за привлечение выборных от общества к обсуждению законодательных вопросов в качестве совещательных членов…» – писал в своих воспоминаниях доктор Н. А. Белоголовый, подружившийся с Лорис-Меликовым уже во время его проживания за границей. Именно это удивительное сочетание либерально-прогрессивных взглядов, с одной стороны, и присущие боевому генералу жесткость и последовательность в выполнении своего долга – вот те качества, которые являются определяющими, характеризующими уникальную личность М. Т. Лорис-Меликова, человека, которого можно со всем основанием назвать, наверное, самым выдающимся и талантливым политическим и военным деятелем - армянином не только в XIX в., но и в течение многих предыдущих столетий армянской истории. Сергей Минасян, кандидат исторических наук, руководитель департамента политических исследований института Кавказа
-
«Карабах» переезжает в Агдам Для лиц, недостаточно разбирающихся в хитросплетениях насыщенной спортивной жизни соседней страны, скажем, что, как правило, основной целью участия азербайджанских спортсменов в различных соревнованиях, является их победа над армянами. Медали в данном случае не важны. Пусть даже азербайджанский спортсмен займет последнее место в спортивном турнире, лишь бы только при этом был переигран армянин. Этот комплекс психологи объясняют поражением Азербайджана в развязанной им же самим войне против арцахских армян, а также царящей в соседней стране атмосфере разнузданной армянофобии. Однако, поскольку побед над армянами на поле боя нет и не предвидится, а в спортивных состязаниях победы над армянами случаются нечасто, приходится довольствоваться «виртуальными» подвигами. Одним из них является участие в первенстве Азербайджана по футболу команды под кричащим названием «Карабах» из виртуального города Агдам. Город тот, если кто не в курсе, во времена не столь давние являлся основной опорной базой азербайджанской военщины в ее агрессии против армянского населения Нагорного Карабаха, в ходе жестоких боев был взят армянскими войсками и ныне находится и впредь находиться будет под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики, стало быть, никакого отношения ни к Азербайджану, ни, тем паче, к какому-либо из его футбольных клубов, иметь не может. Именно в связи с вышеупомянутыми причинами местом дислокации сего футбольного чуда избран стольный град Баку. Однако бесстрашное сердце аскера, как мы помним, требует реванша. Хотя бы виртуального. И тут азербайджанское общество потрясает сногсшибательная новость о переезде футбольного клуба «Карабах» на «родину» - в Агдам. Общество заволновалось: «Неужели Верховный, наконец, отдал тот самый приказ?!» Тем временем новость сия привела в экстаз и директора футбольного клуба «Карабах» – турецкого функционера Эмраха Челикеля, который на радостях заявил о том, что азербайджанские беженцы (коих в нефтеносном султанате до сих пор, по подсчетам местных чудо-математиков, насчитывается аж миллион человек), будут счастливы увидеть свою команду у себя дома. Господин Челикель, правда, не уточнил, какую местность конкретно счастливые беженцы, коих доселе миллион, считают своим домом и как туда, собственно, собирается попасть футбольный клуб «Карабах». Однако эйфория по поводу победоносного вступления азербайджанской футбольной рати в город-призрак очень быстро пошла на спад, когда выяснилось, что возвращения не предвидится. Все объяснилось просто: в некоем селении с поэтическим названием Гузанлы строится сельский стадион, где, по плану руководства клуба, и будет проводить свои домашние встречи доблестный «Карабах». А суперсовременная спортивная база, равной которой нет в Европе, будет построена – где бы вы думали? – правильно – в Баку, подальше от армян. А патриотический порыв Челикеля, несмотря на «бир миллят», удостоился в азербайджанской прессе следующей нетолерантной оценки: «Господин Челикель, у вас нет никакого права говорить что-то от имени азербайджанских беженцев! Вас не было здесь, когда они становились этими самыми беженцами. Вы не можете знать, что на самом деле их волнует и чего они на самом деле хотят. Этого не позволяет хотя бы ваше гражданство, раз уж президент страны, гражданином которой вы, господин Челикель, являетесь, никогда и нигде не говорил о том, чего хотят вынужденные переселенцы. И даже если бы он об этом говорил, то у вас все равно не было бы этого права – статус позволить не может. Азербайджанские беженцы являются частью азербайджанского народа, а от его имени может говорить только один человек». (dailyaznews.com/2009/04/17/) С этим утверждением трудно не согласиться. Право говорить от имени азербайджанского народа имеет в этой чудесной стране только один человек. Не так давно граждане Азербайджана всенародным референдумом доверили ему это право пожизненно. http://pandukht.livejournal.com/33647.html
-
http://www.vesti.ru/doc.html?id=276460 Ну а статусы? А статусы - потом...
-
Дорогой юзер Sir Christopher! Когда вы явили миру свой так называемый архитектурный набросок, вряд ли сомневались в том, что вас не забросают цветами. Поэтому жаловаться мне в личку на то, что в вас летят какашки, в данном случае не имеет смысла. Успехов вам!
-
-
докладная записка копия в ЦК КПСС В Армянской ССР ежегодно 24 апреля проводятся традиционно сложившиеся общественно-политические мероприятия, связанные с годовщиной геноцида армян, совершенного турецкой реакционной правящей верхушкой в 1915 году. В этот день в г.Ереване Памятник жертвам геноцида посещают около 250-300 тыс. человек. Возлагаются цветы к памятнику, в том числе руководством республики. В 19 часов местного времени по телевидению объявляется минута молчания. Указанные мероприятия трудящимися, населением республики воспринимаются с большой признательностью, дают возможность провести день трагедии в истории народа в спокойной и нормальной обстановке без нарушения трудового ритма. Мероприятия, посвященные дате геноцида, проводятся и во всех зарубежных армянских колониях. К ним проявляют заметный интерес официальные власти соответствующих стран. При этом реакционные круги и спецслужбы ряда из них, особенно США, стараются использовать это в своих целях, имеют место попытки политической спекуляции, всякого рода идеологические диверсии. Оголтелую кампанию по фальсификации истории, отрицанию факта геноцида армян, и наоборот, обвинению их в геноциде турок развернули в настоящее время реакционные турецкие круги. Все это в целях антисоветизма использует националистическая партия «Дашнакцутюн» за рубежом. Идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся об установлении дня памяти жертв геноцида армян, а также для пресечения использования противником факта трагедии народа в своих политических целях, ЦК КП Армении считает целесообразным Указом Президиума Верховного Совета Армянской ССР установить 24 апреля «Днем памяти жертв геноцида». С КГБ СССР согласовано. Просим рассмотреть. Секретарь ЦК КП Армении К. Демирчян 13 декабря 1984 г. №1012/с
-
Из воспоминаний академика Российской Академии наук Камо Демирчяна - старшего брата Карена Демирчяна Отец родился на берегу Евфрата, в деревне Котер Эрзрумского вилайета, недалеко от города Эрзрума. Иногда он с печалью рассказывал, как турки расправились с их деревней, и как ему посчастливилось спастись. Вначале согнали молодых мужчин и увели в неизвестном направлении. Через некоторое время пошел слух, что их всех убили. Потом увели всех красивых женщин и девушек деревни. Отец с болью вспоминал, что среди них была его сестра, красавица Сатеник. В деревне оставались только испуганные, беспомощные старики и дети. Как-то аскеры и их погнали в неизвестное... Куда — никто не знал. Несчастная, без лучика надежды толпа оказалась в западне. Впереди были аскеры, сзади — курдская чернь, бандиты. Когда проходили по мосту, турки сбрасывали в воду мальчиков и потом стреляли в них. Многих так и убили. Отец, выросший у реки, хорошо плавал, ему удалось далеко уплыть и выбраться на берег. С ним спаслись еще 2-3 сверстника. Так начались их скитания. Голодные, уставшие, они обходили дороги, чтобы не столкнуться с турками. Они шли и шли с единственной надеждой встретиться с русскими войсками. Отец рассказывал одну интересную историю, случившуюся во время скитаний. В один из дней мальчишки увидели большую заброшенную пекарню с несколькими печами, где, видимо, пекли хлеб для русских войск. Место было пустынное, вокруг ни души. Ребята вошли в пекарню с тайной надеждой найти кусочек хлеба. Поскольку отец был самым худым и гибким, ему помогли залезть в печь. Он находит там два каравая, радуется, но тут в пекарню за хлебом заходят турки. Ребята прячутся, отец в печи каменеет от страха. Длинным веслом турки в поисках хлеба шарят в печи, лишь чудом не коснувшись отца. Чтоб перестали искать, отец осторожно кладет один из хлебов на деревянное весло. Те, забрав «трофей», уходят. Отец с друзьями, поедая в день крошки хлеба, продолжает путь до Аштарака, где располагался сиротский приемник. Полагаю, это был конец 1915 г. Зиму они провели в приемнике, а к лету в Аштараке открылся сиротский дом. Поскольку еда там была скудной, и дети практически всегда недоедали, чтоб хоть немного утолить голод, воровали алани, суджух, изюм. Впоследствии их переправили в сиротский дом Александрополя. Матушка родилась в Ване в 1906 г. в то время в относительно богатой и образованной семье. Имя и фамилию отца помнила хорошо — Овсеп Караханян. То была достаточно известная семья в Ване. Брат моего деда, получивший образование в Америке, работал в то время в Стамбуле. Двое братьев матери учились в Стамбуле. Мама рассказывала, что они были из княжеского рода. Дед в основном занимался сельским хозяйством и вместе с тем рыбачил в озере. По словам мамы, он был высоким и красивым мужчиной. Когда началась резня, дед решает покинуть Ван вместе с семьей и другими согражданами. В это же время братья мамы возвращаются домой из Стамбула, где ситуация уж обострилась. Собравшись вместе, отправляются в путь. По дороге, пройдя уже достаточное расстояние от города, дед вспоминает, что оставил племенных бычков привязанными в яслях. Просит семью подождать, а сам из жалости к животным возвращается домой. Бабушка с детьми ждет его долго, но тщетно — муж не возвращается. Забеспокоившись, решает вернуться узнать, что произошло. А вернувшись, становится свидетелем ужасающего зрелища — тело убитого мужа, лежащее на земле. Трагедия на этом не закончилась. Турки, напав на них, на глазах матери убивают сыновей. Обезумевшая от горя мать, не в силах совладать с обрушившейся на нее трагедией, просит одного из турок, работника в их доме, убить и ее. По всей видимости, турок идет ей навстречу... Моя мама и ее младшая сестра, спрятавшись в стоге сена, становятся свидетелями этой ужасающей сцены. После долгих скитаний голодные и холодные встречают по пути группу казаков. Они доставляют детей в Эчмиадзин, где сдают в сиротский пункт. В то время Ованнес Туманян, будучи с дочерьми в Эчмиадзине, занимался организацией помощи беженцам и сиротам. Маму они забирают с собой в Тифлис, а тетю — прибывшая из Тифлиса зажиточная семья, очевидно, с целью удочерения. Впоследствии мама никаких известий от нее не получала, да и поиски не дали результатов. Туманяны, продержав некоторое время маму у себя дома, помещают в сиротский дом Александрополя. Мама рассказывала, что, несмотря на то, что семья поэта была многочисленной, а условия довольно скромными, Туманяны приютили немало сирот и окружили их заботой. О семье Туманянов у мамы сохранились самые теплые воспоминания. Позже в Ереване мама была в очень близких отношениях с дочерьми поэта. В доме Туманянов в ней сформировались важнейшие семейные и бытовые принципы, черты характера — скромность в быту, забота о членах семьи, сплоченность. Все эти качества она старалась привить нам с детства. В детском доме Александрополя и познакомились мать с отцом. Отец был синеглазым, белокожим, стройным блондином. Еще в детстве за синие глаза и светлые волосы его прозвали «молоканином». Между родителями и зародилась взаимная симпатия. Меж тем через какое-то время отца за подпольную комсомольскую работу выгоняют, отправив на службу в военную часть Ленинакана. Во время службы посещает военно-политические курсы, после чего назначается на работу в стрелковый полк — вначале в Ленинакане, затем в Канакере. После долгой разлуки отец и мать вновь встречаются, теперь уже навсегда.
-
Во дворе Бутырской прокуратуры убит дворник из Узбекистана Во дворе здания Бутырской прокуратуры Москвы, расположенной на улице Яблочкова, убит гражданин Узбекистана. Как рассказал агентству источник в столичных правоохранительных органах, на узбека, работавшего в Москве дворником, напала группа молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Пытаясь скрыться от нападавших, дворник забежал во двор прокуратуры, но злоумышленники догнали его и избили, нанеся при этом ножевое ранение. По предварительным данным, убийство дворника из Узбекистана было совершено на почве национальной ненависти. По свидетельствам очевидцев, нападавшие были похожи на скинхедов. Интерфакс
-
Грета Каграманова «ВЫСЕК Я В СКАЛЕ ДОМ БОЖИЙ...» «Возьми наследие отцов своих и владей им!» (ГЕТЕ. «ФАУСТ») Это не было хождение по святым местам, это был, скорее, блицкриг, двухнедельный блицкриг с конкретной целью — сделать киносценарий об историко-архитектурных памятниках Нагорного Карабаха; на это надо бы, по меньшей мере, тысячу шестьсот дней, потому как именно этим числом, по неполным данным, исчисляются святыни небольшой автономной области, отчей земли. Но как раз в эти две недели я полностью постигла смысл этих слов — «отчая земля»; в кратчайший срок вместилась нестерпимо долгая жизнь, не века - тысячелетья; я с удивлением и некоторой растерянностью прозревала в ней черты жизни своих предков — свою пражизнь, и с почти физической болью ощутила пуповину, которая связывает меня с этой землей. Я всегда остерегалась слов о родном очаге, может быть, остерегалась произносить их всуе, но скорее не ощущала их, полагая, что это всего лишь ностальгические сантименты, от которых меня за четверть века до моего рождения избавил дед, бросивши свой дом и вертоград в карабахской деревне и подавшись в Баку, на сураханские нефтепромыслы. ...Но вот я вышла из машины, сделала несколько шагов вверх по пологому холму и - так бывает только в сновидениях с их вольной игрой пространства и времени — камни древнего городища закричали во мне, и горсть воды из могучего родника не утолила вдруг вспыхнувшей жажды. ...Родник этот питают воды горной реки Хачен, просочившиеся в почву в ее верхнем течении и проделавшие под землей таинственный, очистительный путь сюда; родник этот сыграл решающую роль в выборе места для древнего Тигранакерта - одного из четырех одноименных городов, которые построил в I веке до нашей эры армянский царь Тигран Второй. Городище прикинулось обыкновенным холмом, и если бы не мой спутник, историк и заядлый краевед Вардгес Сафарян, я бы — в который раз уже? — проехала мимо древнего Тигранакерта, разве что на миг зацепившись взглядом за обилие камней с письменами и архаическими узорами и мимолетно вспомнив Андрея Белого: «Хоровод веков впаяны древности в почву; и камни природные передряхлели скульптуру; и статуи, треснувши, в землю уйдя, поднимают кусты; не поймешь, что ты видишь: природу ль, культуру ль?» В десятом веке нашей эры Тигранакерт стоял уже в развалинах, а в двадцатом здесь нашли золотую монету с портретом Тиграна Второго, железные стрелы, кинжалы, керамические сосуды. Нашли — не в смысле искали и нашли, нет, археологи сюда еще не добрались, земля сама извергла вещественные знаки своей истории, то ли сель прошел, то ли трактор. ...А вот это старинный иджеванатун — постоялый двор — на дороге Степанакерт — Гадрут — прикинулся овчарней. В арочном зале и сводчатых с красивыми старинными каминами комнатах стоят овцы; хорошо еще, церковь догадались запереть от них; я спросила у ребят, сидевших под деревом возле церкви, что они знают об этом памятнике и почему бы им не расчистить его и не приспособить для своего досуга. На первую часть вопроса ребята ответили, что это — каравансарай шаха Абасса («Шаха Аббаса? Разве шах Аббас ставил кресты на своих строениях?» — ребята пожали плечами), а на вторую: «Пусть думает райком. Не наше дело». И не раз еще я увижу на своем пути храмы, превращенные в хлевы, и от зловещей игры этих превращений меня захлестнет чувство непоправимой вины. Потому что, когда бесценными хачкарами мостят дворы, а в памятник, признанный шедевром мировой культуры, стреляют, невиновных нет. Хожу по древнему Амарасскому монастырю и, теряясь в заповедных письменах, бормочу стихи Германа Гессе: Но если бы дикарь иль марсианин Вперился взглядом в наши письмена, Ему б узор и чуден был и странен, Чужой, волшебный мир ему б открылся... ... Слева от крепостных ворот в монастырском дворе глубокие ниши с арочными сводами — коновязи; за ними ряд келий с мемориальными досками, из которых явствует, что кельи восстановлены гражданами славного города Шуши на протяжении полувека — от середины девятнадцатого и до начала двадцатого века. Выглядят эти доски так: «Шушинец Михаил С. Хубларянц отстроил эту комнату в 1890 году, 10 июля». Но Амарасский храм — один из древнейших в Карабахе, ему тысяча шестьсот лет, и старые мастера, они не ставили мемориальных досок, они врезали помять в камень — на вечные времена. Эти камни помнят Григория Просветителя и Месропа Маштоца. В одном из этих помещений была школа, в которой юные ученики Маштоца выводили остроконечными палочками на навощенных алфавитных дисках-пнакитах буквы родного языка, похожие на звонкие подковки. И юноши переводили на армянский притчи Соломоновы: «Познать мудрость и наставления, понять изречения разума...» «Однажды, — гласит легенда, — святой Месроп, творя молитву, увидел, как чья-то рука выводит на скале странные знаки. Он сразу понял, в чем дело, встал и, начертав эти знаки, создал наш алфавит». На деле все было куда сложнее, и «Житие Маштоца», оставленное его учеником и сподвижником Корюном, совсем не похоже на агиографию, а создание письменности — на чудо, ниспосланное с небес; это результат творческой одержимости и великого труда. Месроп Маштоц — сын знатного мужа из гавара Тарон с детства обучался греческому языку, с юных лет служил при дворе Аршакуни, был сведущ в мирских порядках, а знанием военного дела снискал любовь своих воинов. Но вскоре покинул царский двор, надел власяницу и ушел жить в пещеру. Стал отшельником, спал на голой земле, питался травами, словом, готовил свой дух и тело к великим испытаниям. Звезда Армении клонилась к закату, ей грозили раскол и порабощение, и горячие молитвы о спасении родины выкристаллизовались в могучую мечту о создании армянской письменности. Что, как не память, спасет народ в грядущих бедствиях, а память заключена в письменах... Не иначе, как по велению времени царь Врамшапух и католикос Саак Партев созывают совет «блаженных братий, дабы создать алфавит для армянского народа». На совете решают отправить посла к сирийскому епископу Даниелу, у которого, по сведениям царя Врамшапуха, хранятся затерянные некогда письмена армянского языка. Но письмена, привезенные из Сирии, оказываются несовершенными и недостаточными, чтобы выразить все силлабы-слоги армянского языка, и Месроп Маштоц, взяв с собою группу отроков, с благословения царя и католикоса едет в Месопотамию. Там он пристраивает одну группу детей в Эдессе изучать сирийскую грамоту, другую в Самосате — постигать греческую, сам же начинает работу по созданию армянского алфавита. «Так претерпел он много лишений в (деле) оказания доброй помощи своему народу. И ему было даровано такое счастье всемилостивейшим богом. Святой десницей своей он, как отец, породил новое и чудесное дитя — письмена армянского языка», — пишет Корюн. Начертав буквы, дав им названия и расположив их по силлабам-слогам, Маштоц обратился к греческому каллиграфу Ропаносу, с помощью которого окончательно изобразил и приноровил все различия букв — тонкие и жирные, короткие и долгие, отдельные и двойные приставные. И, покончив с этим, тотчас приступил со своими учениками к переводу Библии. Произошло это, как пишет Корюн, в 392-393 годах. «В то время, несомненно, стала чудесной наша желанная и благодатная Армения, куда внезапно, благодаря двум равным мужам, прибыли и стали говорить по-армянски законоучитель Моисей вместе с сонмом пророков и шествующий впереди Павел со всем отрядом апостолов... И какая там была радость сердцам и какое зрелище, ласкающее глаз. Ибо страна, которая ничего не знала о тех краях, где были сотворены все божественные чудеса, вскоре, за короткое время, была осведомлена обо всех совершившихся событиях... о том, что было до того и после того в вечности, о начале и конце», — вот какие слова, торжественные и вместе с тем неподдельно радостные, нашел Корюн, чтобы описать победное возвращение Маштоца на родину. Не в единоборстве с дьяволом, как положено святому, творил свой подвиг Месроп Маштоц, а в творческом содружестве с деятелями просвещения самых разных стран — от Сирии и Греции и до соседних Иверии и Албании. Создав армянскую письменность, он поспешил к соседям — иверам и албанам, чтобы составить и для них письмена, отвечающие особенностям их родных языков. «И вот тех, — пишет Корюн, — которые были собраны из отдельных племен, он связал божественными заветами и сделал их единым народом». Историк Лео пишет о переводческой школе Маштоца в Амарасском монастыре... Какой захватывающий азарт, какая мука — угадывать по очертаниям развалин, что тут было полторы тысячи лет тому назад! Может быть, вот в этом продолговатом строении с крошечной кельей и помещалась школа Месропа Маштоца... сейчас здесь стоят колхозные весы... Маштоц, как пишет Корюн, «взял и бросил их (учеников) в горнило учения и всей силой духовной любви соскреб с них ржавчину и грязь суеверного поклонения идолам...» ... а в покоях отца-настоятеля стоит инкубаторский стол... «Так во всех краях Армении, Иверии и Агванка в течение всей своей жизни, летом и зимой, днем и ночью, отважно и безотлагательно, своим евангельским и праведным поведением нес он на себе имя всеспасителя Христа перед царями и князьями, перед всеми язычниками...» — пишет Корюн. ... стол стоит здесь со времен первой в области сельскохозяйственной коммуны... «Многих узников и заключенных и трепещущих перед лицом насильников он вызволил всесильной властью Христа. Он разорвал много несправедливых долговых обязательств...» — пишет Корюн. ... здесь, в коммуне, тоже жили по законам евангельского братства, кормили всех голодных и пускали на ночлег всех бездомных, а работы не спрашивали, работали добровольно... и прогорели, всего-то и продержались, что два года, с 1926-го по 1928-ой... С тех незабвенных лет и стоит в покоях отца-настоятеля допотопный инкубаторский стол, реквизированный у какого-то кулака-новатора... ни одного цыпленка здесь не вывели, все яйца пошли на одну гигантскую коллективную яичницу... На церковной стене — солнечные часы, тень от стержня в центре диаметра скользит против часовой стрелки, и от этого кажется, что минуты текут вспять, и в магическом театре теней, что зовется Временем, мелькают силуэты великих мужей... Про Григория Просветителя, основателя христианства в Армении, основателя Амарасского храма, я узнала в Москве, в храме Василия Блаженного, один из приделов которого посвящен армянскому первосвященнику. Много позже, в книге «Казанская история» я прочитала историю этого посвящения. Сооружая в честь Казанской победы в Москве Покровский собор, Иван Грозный отметил самоотверженную помощь армян-пушкарей тем, что посвятил один из девяти приделов Григорию Арменскому или, как называют его армяне, Григору Лусаворичу. Родился Григор за тысячу двести лет до Казанской победы, в 239 году в семье, которую вскоре истребили; уцелел лишь младенец Григор, которого его няня София переправила в камышовой корзине через реку за пределы страны. Мальчик рос в Кесарии, в христианской среде, вернувшись в Армению, служил при дворе царя Трдата. Однажды, отказавшись возложить венок на языческую богиню Анаит, Григор так разгневал царя, что его, подвергнув страшным мучениям, бросили в Хор Вирап, куда бросали смертников. Но Григор не погиб, его от голодной смерти спасла какая-то бедная женщина, которая из сострадания бросала ему в ров скудную еду. Тем временем, как повествует историк пятого века Агафангел, царь-язычник сошел с ума и, бросив страну на произвол судьбы, скитался в лесах диким вепрем; его сестре приснился вещий сон, благодаря которому из Хор Вирапа освободили давно забытого узника, и он спас царя и страну, обратив их в христианскую веру. В Армении христианство распространялось еще с первого века, в 301-м оно принято официально, в 302-м Григорий рукоположен епископом Кесарии Леонтием, а в 303-м основал в столице Вагаршапате Эчмиадзинский кафедральный собор. И до самой своей кончины в 325-м году Григор Лусаворич строил монастыри, церкви, школы, богадельни. На берегу реки Амарас в Арцахе он основал монастырь, а достроил его внук Лусаворича Григорис — первый отец-настоятель Амарасского монастыря и епископ областей Арцах и Утик. ... В отремонтированных покоях ванаайра — отца-настоятеля - полевой стан. Сейчас здесь живет колхозный сторож Амбарцум Балаян. Свеженастланные полы еще пахнут лесом, в углу стоит большой цветной телевизор. Из окон видны старые тутовые сады и кудрявые виноградники. Святой Григорис, тот видел из окон славный город Амарас. Нашествие турок-османов в XVI веке разрушило его, а в семнадцатом из камней городища возвели крепостные стены Амарасского Монастыря. Память веков врезана в камни монастыря, роем преданий носится в воздухе. ... О том, как Тимур Ленк повелел выстроиться своему войску от Амараса и до Аракса, разобрать храм и по камню сбросить его в реку. ...О дочери византийского императора — жене монгольского завоевателя, которая отобрала из награбленного монастырского имущества посох св. Григориса и золотой его крест с тридцатью шестью бриллиантами и отправила их в Константинополь. Еще надежней хранит народная память имена строителей, неизменно возрождавших из огня и пепла Амарас, — царя армянского Агванка Вачагана Благочестивого, князя Дизака Есайи Абу-Мусе, католикоса Петроса Гишеци, горожан богатого города Шуши. Это они, шушинцы, в 1858 году последний раз восстанавливали и достраивали монастырь. Двумя веками раньше епископ Петрос Гишеци возвел крепостные стены и реконструировал жилье и хозяйственные постройки. Единственно подлинным с четвертого века в многострадальном Амарасском монастыре сохранился мавзолей Св. Григориса, очень похожий на мавзолей Месропа Маштоца, сооруженный в 442-443 гг. в Ошакане Вааном Аматуни. Сохранилось много древних хачкаров, которые использовались позднейшими реставраторами как строительный материал. Мы пытаемся спуститься в мавзолей из боковой приалтарной ризницы. Под скопившейся грязью горбатятся осклизлые ступени, луч фонарика выхватывает из мрака плотно пригнанные цельные плиты старинного свода, лаконичные фризы маленькой исповедальни, каменную скамью и нависшую над ней каменную плиту, которая когда-то дрогнула и сместилась под ударом стенобитных орудий, но не сорвалась, а застряла в конусе на вечные времена; отсюда, из исповедальни вел ход в гробницу, но он давно замурован. При последней реконструкции из мавзолея вынесли надгробный камень — хачкар Св. Григориса и поставили в церкви, где он и стоит. На хачкаре вырезаны знаки епископской власти — посох и крест (те самые, что отправила в Константинополь дочь византийского императора) и надпись: «Мавзолей в честь Григория Лусаворича и его внука Григориса католикоса Агванка. Родился в 332-м году, рукоположен в 340-м году и умер в 348-м году в Дербенте у мазкутского царя Санесана, принесен в Амарас». Культура здесь встроена в культуру, век в век, и из-под осыпавшейся штукатурки 1858 года выглядывает хачкар 925 года. Животворящий крест превращается в виноградную лозу, под средокрестием — две птицы клюв к клюву, линии ножек легко и свободно перетекают в две спирали — два знака вечности; за изящным обрамлением символической композиции следует жанровая сценка — двое мужчин, обнявшись за плечи, руки в боки, лица в фас, фигуры в профиль — танцуют?.. Пленительная загадка. Нечитанная книга. На хачкаре 1091 года со стилизованными гроздьями винограда Вардгес по слогам прочитал: «Ес, каз-мох Га-за-рос...» Казмох — это мастер, делатель, творец. «Я мастер Газарос, сделал хачкар, поминайте в молитвах...» ...а подкоп под мавзолей Св. Григориса даже не потрудились засыпать. «Это аспиранты, — простодушно объясняют местные жители, — приехали трое, главного звали Насими, наняли школьников по пятерке в день копать здесь, клад с золотыми монетами искали, чтобы диссертацию защитить. Хорошие ребята, из Баку, без пяти минут кандидаты наук». «Каких наук? — подумала я. — Мародерских?» А школьники, копавшие тут за пятерку в день, знали они, понимали, что делают? Сказал им кто, что Амарасский монастырь — это живая история, что не монету тут надо искать, а постигать начала отечественной культуры?.. В близлежащем селении Гер-Гер располагалась летняя резиденция амарасских владык. Над южной дверью небольшой церкви ктиторская надпись: «Волею Христа я, Барсег епископ, ученик Петроса католикоса и мой настоятель восстановили блистательный престол Амараса, окружили его крепостью, построили эту церковь Святого Григориса». ... В 1672 году амарасский католикос Петрос Гишеци отправил письмо русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой покровительствовать исфаганским армянским купцам и всему армянскому народу и тем положил начало политическим связям с Россией. Поперек арки встроена плита, где под тысячелетней патиной, ничуть не подозревая, что их опрокинули, величаво стоят князь и княгиня (и здесь мастера использовали прекрасные хачкары как строительный материал). Трилистники на концах креста внизу прихотливо переходят в очертания крыльев. Сколько тут игры, фантазии, вкуса, чувства меры — ни одной фальшивой ноты! Мы вошли в церковь — на обильно унавоженном полу валяются дивные хачкары. Каменная купель, в которой крестили многие поколения моих земляков. Полустертая лигатура на алтарном фризе. Вардгес пытается прочитать ее: «И-ше-цек...» Поминайте... В ответ — образчик современного художества на алтарной стене: намалеванная углем пышнотелая русалка. В церковь привычно зашел баран, встал, посмотрел на нас и тревожно-вопросительно заблеял. Мы вторглись в его убежище. Старуха с клюкой гнала овец от храма. — И что это вы все ездите — смотрите, пишете, снимаете? — спросила она нас. — А святыня как стояла без кровли, так и стоит, и дожди ее заливают, и овцы сюда забредают. В загон превратили храм божий... — А как же он кровли лишился? — Да как... на глазах у нас и сорвали ее. Приставили высокую лестницу, взобрались, сняли лист за листом всю жесть и унесли. — Кто? — глупо спросила я. — Да кто же, как не активисты наши... Пришли — молодые, горластые, разорили дом божий и ушли, довольные... И колокол тогда же сняли... Я начинаю соображать, что старуха рассказывает о делах давно минувших дней... — ...А мы стояли и смотрели, будто так и надо. Молодая была, глупая, будь у меня тогда нынешнее разумение, я бы лестницу у них из-под ног выдернула да вот этой палкой огрела! — запоздало погрозила старуха своей клюкой. — А вы откудошние будете? - Из Гиши, — ответила я неуверенно. — Так ведь и я из Гиши! — обрадовалась старуха. — Замуж сюда выдана, в этой вот церкви и венчалась с мужем, длинный он у меня был, как поднялся с колен, так чуть было венец у батюшки из рук не выбил, еле я сдержалась, чтобы не рассмеяться, очень смешно это вышло... А колокола звонили — до самого до престольного Амараса слышно... А в войну и муж, и сын погибли, две похоронки в дом пришли... — и речь ее потекла сплошным ровным потоком, как течет река, когда уже близка к своему устью — то ли сказ, то ли плач... — Э-э, словами всего не расскажешь, — заключила она и попросила вдруг жалостно и страстно: — А вы поставьте кровлю, сделайте доброе дело — и бог вас сохранит. Что из того, что вы другой власти люди, бог власти не помеха, от него — свет и красота, а деньги мы соберем, я сама хоть сейчас десятку-другую дам, у меня свои деньги, я в колхозе сорок лет работала, пенсию получаю... А то, что же вы — ездите, снимаете, пишете, а храм как стоял без кровли, так и стоит... Мы слушали и молчали, ответить нам было нечего и, бросив совестить нас, старуха снова засеменила выгонять овец, забредших от зноя в прохладную церковь: — У-у, окаянные! На обратном пути в деревне Мачкалашен нам попался еще один хачкар с надписью: «В году армянском 540 (1091) я, Абраам иерей поставил этот хачкар. Помяните в молитвах». Помните. Помните. Помните. В сущности, подумалось мне, учреждение Советского фонда культуры — это эхо, эхо народного голоса; от неведомого мастера Газароса, жившего почти тысячу лет тому назад, до нашей современницы — вдовы и матери погибших воинов Айкануш Айрапетян из селения Гер-Гер, и группы донецких шахтеров, которых я встретила в Комарово под Ленинградом; они сбились с ног, отыскивая несуществующий дом-музей Анны Ахматовой; они знали, что — должен быть, и спрашивали дорогу к нему, и совестно было отвечать, что дома — нет. Есть стихи, которые действуют, как короткое замыкание. Много лет тому назад, когда имя Осипа Мандельштама как бы не существовало в природе, мой редактор из Ленинграда прочитал мне его стихи о карабахском городе Шуше и подарил отпечатанный на машинке цикл стихов об Армении. Какая роскошь — в нищенском селенье Волосяная музыка воды... Я прочитала это — и у меня прорезался слух, и я услышала двухголосие Верхнего и Нижнего родников в святилище Воски Хач в давно забытой маминой деревне Гиши. У меня прорезалось зрение, и я, как в магическом свете, увидела узорную тень священных реликтовых дзелькв, осеняющих родники; и высокий Глен Хут на распутье меж трех сел, круглую, как чаша, крепость на скале с остатками древних стен, следами гончарни, обломками глазурованной керамики и окаменелыми зернами пшеницы и винограда; и «виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов и нахохленных орлов с совиными крыльями» на старинных хачкарах. Но я ведь даже не подозревала, что хачкары Нагорного Карабаха — это целое мироздание, что в затерянных в ущельях и на труднодоступных горных вершинах монастырях уникальные собрания хачкаров, законченные тематические циклы — религиозные, светские, бытовые, сельскохозяйственные. Адам и Ева возле Древа познания, возвращение князя с охоты; сцена сражения, сцена пахоты: упряжка волов, пахарь с лицом карабахского крестьянина и женщина, присевшая отдохнуть, она сидит, расставив натруженные ноги под широкой юбкой, как сидят святые на картинах средневековых мастеров; и два царственных павлина клюв к клюву; и ритмические ряды животворящих крестов, где символ распятия неизменно превращается в плодоносящую лозу, и бессчетно повторяющийся знак вечности, символ непрерывной жизни. Воистину, это «Гермесы и Афродиты древней армянской скульптуры», как называет их греческий писатель, большой друг нашей страны Мицос Александропулос. «Хачкар, — пишет он в книге «Путешествие в Армению», — явление чисто армянское, не похож на арабески ни по технике, ни по внешнему виду, ни по идее. История хачкара отсылает нас к искусству армянской миниатюры, Хачкар, по всей вероятности, вышел из хорана. Хоран— это ниша, дверь, царские врата, ведущие в алтарь, и те, что расписывали художники на старинных рукописях, врата древних Евангелий. Украшения и архитектурные элементы переносятся с камня на страницу рукописи, из скульптуры в живопись. Хачкар — это тоже врата, вход в мир армянского искусства, в армянскую историю и жизнь. В тонко обработанной каменной плите отразились талант и темперамент армянина, его трудолюбие, способность не потеряться в сложных переплетениях искусств. Плита эта — история и география, особая, характерная поступь на каменистой земле и в суровой истории. О многом важном повествуют эти каменные книги...» Как жаль, что Мицос не видел карабахских хачкаров... Какая потеря, что в школах у нас не учат читать эти каменные книги... И как стыдно, что сама я так поздно открыла для себя и так смутно понимаю их смысл... Вот эти три юные танцующие женщины в коротких складчатых юбках перед всадником с жезлом и соколом — что это? Возвращение князя с охоты? Праздник встречи? Никакой обрядовой торжественности, а чистая радость и ликование. Чем же, как не танцем, выразить это мастеру? Но завершив эту прелестную группу, скульптор снова высек рельеф князя, в той же позе, с теми же атрибутами — может быть, для того, чтобы запечатлеть весь долгий путь возвращения? Кто еще на этом пути встречает князя? Но как раз в этом месте плита расколота, песня оборвалась. Первое большое собрание хачкаров я увидела в Бри-Ехци — Дикой церкви, расположенной на окраине села Хаци Мартунинского района. Это ансамбль, состоящий из четырех церквей, притвора, нескольких часовен и трех стел, сложенных из хачкаров. Согласно строительной надписи, ансамбль построен в XII—XIII вв., но еще раньше здесь стоял раннесредневековый храм, построенный по преданию Вачаганом Благочестивым — обломки гладкотесанных круглых колонн дают зримое представление о великолепии этого храма. Церквушки — однонефные базилики, строгие и легкие постройки, частью из дикого камня, частью — из обработанного, ничем как будто не примечательные, красоты не показной, потаенной, поражающей то сложно орнаментированным порталом с птицами, охраняющими вход, то легкими, изящными перекрестными арками притвора, то сплошной стеной сказочных хачкаров, а то — Словом, идущим из таких немыслимых глубин, что становится не по себе. ОНИ ТУТ БЫЛИ. А ТЫ — КТО ТЫ И ЧТО ТЫ, И ПОЧЕМУ В ТЕБЕ НЕТ СИЛЫ ПРИНЯТЬ ЗАВЕЩАННОЕ НАСЛЕДСТВО? Два выбитых камня в стене, две затерянные строки, из уцелевших явствует, что «церковь была сооружена во времена Ованнеса католикоса Агванкского и его брата Нерсеса католикоса в 1235 году». Рядом автограф зодчего: «Варпета Шаена поминайте в молитвах во имя творца». Варпет — это опять же мастер. На хачкаре с тончайшим ромбовидным орнаментом еще один драгоценный автограф: «Поминайте в молитвах во имя Христа варпета Хаченика». Хаченик Анеци — выдающийся зодчий и скульптор XII века — оставил свои хачкары по всему Карабаху, мы еще увидим их в Дахраве, Гтичаванке, Ванке и других местах. Из Бри-Ехци наш путь лежит в древний Аветараноц — нынешнее село Чанахчи. Аветараноц был крепостью мелика Варанды — нынешних Мартунинского и Аскеранского районов. Остатки крепостных стен, дозорные башни, часовни и церкви, среди которых привлекает внимание храм Св. Богородицы середины ХVII-го века. Притвор церкви, построенной «сестрами Рипсимэ и Гаянэ при содействии Тер-Аракела», служил усыпальницей Мелик-Шахназарянов; на плите мелика Усейна, которую почему-то вынесли и бросили на старом сельском кладбище, весьма выразительный некролог: «Он был обилен хлебом, покровительствовал всем народам, прекрасен собой, был гордостью армянского народа, истреблял иноземцев-татчиков, воевал с османцами, никогда не отступал, был крепкой крепостью для народа». Эпизод истории становится легендой, легенда — фольклором, фольклор — первоначальным историческим самосознанием, и это самосознание в немалой степени формирует людей, которые, в свою очередь, делают историю. Древняя арцахская земля дала в Великую Отечественную маршалов Баграмяна, Бабаджаняна, Худякова-Ханферянца, адмирала Исакова, дважды Героя Нельсона Степаняна и несоразмерно малочисленности жителей большое число Героев и просто воинов-армян. Появились историки, которые тщатся доказать, что армяне — пришельцы на этой земле. Разве чужбина родит героев? И кто решится утверждать, что беспримерный всплеск отваги и мужества никак не связан с народной памятью? С этими вот камнями? В одном из преданий, связанных с османским нашествием в XVII веке, рассказывается, что военачальник Сулейман-бек, стоявший со своим гарнизоном в Чанахчи, прослышав о неземной красоте дочери мелика - Гаянэ, послал сватов. Их приняли, принуждены были дать согласие, но под разными предлогами оттягивали свадьбу. То гороскоп неблагоприятный, а то мелик срочно отлучился по делам и пропал на полгода в надежде, что без него семью не потревожат. Но Сулейман-бек становился все нетерпеливее и настаивал все грубее. Пришлось княгине Анне, не дожидаясь мужа, назначить день свадьбы. И начать приготовления. Но не к свадьбе, нет. В назначенный день жители села под предводительством княгини Анны перебили турецкий гарнизон, а незваного жениха заколола на пороге отчего дома сама Гаянэ. После чего постриглась в монахини и ушла в монастырь. Народная артистка Азербайджанской ССР М. Баласанян рассказывала, как смотрели в селе Чанахчи спектакль «Дочь мелика» по одноименной пьесе Лео. Устаревший спектакль, тяготы гастрольного быта, наскоро сколоченные подмостки, которые грозят рассыпаться под тобой... Но вот из первых рядов, где сидели старики в трехах и старухи в архалуках, донесся бормоток: «Да стану я твоей жертвой, святая дева Гаянэ...» — и сработала обратная связь, спектакль ожил, роль наполнилась живой силой. На церкви Св. Гаянэ в Чанахчи висит увеличенный портрет народной артистки в роли дочери мелика Усейна — «крепкой крепости и гордости армянского народа». Не так давно учёные обнаружили в Азохской пещере, что стоит, разинув пасть, прямо напротив деревни Азох в Гадрутском районе, следы доисторического человека, жившего тут миллион лет назад. Что ни говорите, а это обязывает. Это делает тебя гражданином человечества и человеком миллионолетней истории. Вот какова она оказалась - эта наша, давно обжитая пещера, о которой с пятого века, то есть с обретения письменности, упоминают армянские историки. В годы вражеских нашествий в этой пещере амарасские владыки хранили сокровища Арцаха. Пещера служила убежищем для населения; здесь создавались отряды борцов освободительного движения, никогда не затухавшего в свободолюбивом Арцахе. Еще в конце девятнадцатого века в пещере видели каменную статую женщины в арцахском одеянии. Слово «Азох» здесь переводят как «незрелый виноград», потому что виноград здесь созревает поздно. Мы проехали мимо пещеры, оставив ее на потом, хотя я давно уже знаю, что «потом» — это самый увертливый зверек, и уж он найдет способ улизнуть и оставить тебя ни с чем. Но пещера — вот она, с ней успеется, а крепость Гтич — на самой вершине Тогасара, и туда еще надо добраться... Такова логика путешествий. Крепость Гтич, укрытая с севера некогда непроходимыми лесами, с юго-запада — глубоким ущельем, только с восточной стороны обнесена стенами; это естественное укрепление, одна из военных цитаделей княжества Дизак, как назывался прежде достославный Гадрут. В самом деле, поговорите три минуты с местным уроженцем, и в длинном списке знаменитых земляков он назовет полководцев древности и героев последней войны, даже маршала назовет, и всенепременно — Гарри Каспарова, который по материнской линии происходит отсюда, и пусть поле сражений гениального юноши — шахматная доска, неукротимостью духа он весь в своих земляков. С крепостью Гтич связано имя дизакского князя Есаи Абу Мусе, который с небольшим отрядом более года отражал осаду арабского полководца Буги. Двадцать восемь раз в течение 853-го года Буга шел на приступ Гтича, и двадцать восемь раз был отброшен назад малыми силами княжеского отряда. Разъяренный позорным поражением, арабский полководец снес с лица земли святыни армян, разрушил церковь и часть крепостных стен. И тогда защитники крепости в самый разгар сражений на глазах у неприятеля построили на самой высокой точке горы новую церковь, к которой на вечные времена пристало название «Жаркая». Мы ходили по развалинам крепости, стараясь не оступиться в воронки продовольственных колодцев, водоемов и провалившихся домов; цитадель почти целиком ушла под землю, от крепостных стен уцелел лишь фундамент, частью гладкотесанный — это первоначальный, а частью бутовый — это когда достраивали под огнем врага... И обломки хачкаров, сквозь которые проросли деревья. Сюда, в крепость, сходилось население Дизака в годы чужеземных нашествий. Здесь гранился дух свободы и сопротивления, здесь оттачивалось воинское мастерство. Но музы не молчали, когда стреляли пушки, то бишь огнеметные орудия, и труд созидания не прекращался ни на день, вот ведь в чем, может быть, великая тайна народа, его неизбывной жизненной силы. Вот она — Жаркая церковь, небольшая базилика из дикого камня с рельефом Богородицы с младенцем, пятью маленькими хачкарами из белого гладко полированного камня и композицией с крестом и двумя коленопреклоненными апостолами — зримый образ непрерывности жизни, чудесно возрождающейся на своем пепелище. Я провожу пальцем по наивно-угловатым и каким-то первозданным линиям рельефа и, как в волшебном фонаре, возникают образы строителей, созидающих космос в хаосе огня и смерти. ...Двадцать восемь раз шел приступом Буга с двухсоттысячным войском на крепость Гтич, но с бою так и не сумел ее взять. И, как всегда, когда сила бессильна, побеждает коварство. Буга отвел свое войско, зазвал к себе, посулив мир и дружбу, храброго Есаи, пленил его и разрушил крепость. Но от тех баснословных времен осталась стоять Жаркая церковь из дикого камня с барельефами неведомого мастера, который умел сохранить в трагический час крепость руки и чувство гармонии. ...А на фундаменте разрушенной арабами церкви два брата амарасского епископа Саргис и Врданес построили в XIII веке главный храм крепости Гтич — Гтичаванк. В строительной надписи сообщается, что сооружение церкви начато в 1241-м и завершено в 1246-м. Стоит себе, затерявшись в горах, строгое и скромное здание, так соприродное горам древнего Арцаха, что кажется — не строилось, а выросло, как вырастают деревья. Но подходишь ближе — и гладкая, сильная стена пленяет изысканным витым наличником высокого узкого окна и каменным кружевом креста. Войдешь в церковь — и первое впечатление, что зодчий размахнулся строить широко, но недостаток площади заставил его теснее сомкнуть паруса под куполом, вжать колонны в стены — получились полуколонны, строго расчленившие стены, закруглил капители «рулонами каменного сукна», соединил подкупольный объем фризом и с непогрешимым вкусом завершил лаконичный интерьер. Пол притвора покрыт каменными хачкарами дизакских князей — меликов и духовников монастыря; в узкие стрельчатые окна бьют снопы света, и сквозь золотую пыльцу со стены смотрит хачкар невиданной красоты. В сплошном ковровом узоре каменных кружев не вдруг прочитаешь закодированный сюжет. Трилистники, венчающие концы животворящего креста, смыкаются со стилизованными виноградными гроздьями, под средокрестием — два херувима в полете поддерживают руками крест, а резные крылья незаметно перетекают в узор виноградных гроздей. Над полукруглым витым обрамлением — Иисус Христос в нимбе, по обе стороны от него - двенадцать апостолов. Первую пару мастер поставил на колени и обратил с воздетыми руками к сыну Божьему; второй паре дал в руки по посоху; остальным велел застыть с молитвенно сложенными руками. В подкрестье — большая розетка сплошного каменного кружева, и такая пленительная игра линий, что глаз не оторвешь. Вся композиция заключена в раму из резных квадратов, неповторимых при очевидном сходстве. У этого хачкара была пара, она стоит сейчас в Эчмиадзине, и в судьбе ее повторилась сказка о Золушке; на новом месте хачкар обрел утерянную самоценность, туристы со всего света любуются им как редчайшим шедевром. А этот какие-то вандалы замазали ядовито-синей масляной краской, обезобразив дивную розетку. Надо же было додуматься притащить в заповедное место краску, чтобы испохабить этакую красоту. Один из великолепнейших заповедных памятников Нагорного Карабаха — монастырь Гтичаванк — любимое место забав современных дикарей. Весь свод притвора исписан их именами. И как они взобрались туда? Поднялись, говорят, потайным внутристенным ходом, перекинули толстое бревно сквозь верхние окна в боковых стенах и, балансируя на нем, аршинными, корявыми несмываемыми буквами «обессмертили» свои имена. В стенах притвора, богато декорированных вставными хачкарами, плита однатысячного года и плита с переплетением шестиугольников, известных под названием «звезды Давида». Много хачкаров и на заброшенном монастырском кладбище, плиты сдвинуты, перевернуты, расколоты — это кладоискатели ищут золото. Развалины жилых, хозяйственных и учебных помещений густо поросли кустарником, и нужно усилие, чтобы представить, как тут работала школа, библиотека, как в этих кельях создавались рукописные книги и, не далее как в девятнадцатом веке, отец-настоятель Аракел Костаньянц писал здесь свое трехтомное историко-этнографическое исследование, посвященное Дизакскому княжеству. Крепость Гтич известна еще и как крепость Тог — по названию древнего села, в котором находилась резиденция дизакских владетельных князей-меликов. Собственно, за околицей этого села и стоит на скале монастырь Гтичаванк. Родники в селе украшены хачкарами старинной работы, и даже в кладке домов и оград можно углядеть плиту с письменами на грабаре. Примечательна церковь Св. Ованнеса в центре села. Она построена так, что северная стена наполовину врыта в землю, а южная - целиком над землей. В юго-западном углу церковной ограды стоит круглая башня, с которой открывается широкая панорама виноградников и пашен, лесистого ущелья и горных вершин. Такую вот великолепную смотровую площадку соорудил зодчий. Церковь Св. Ованнеса построена в XIII веке, а восстановлена в ХVII-м меликом Еганом. Об отваге, мужестве и доброте мелика Егана сохранилось много преданий, а ключом к ним — строка на портале резиденции мелика Егана: «Я не давал, чтоб угоняли в плен из Айастана моего». Здесь, в старинном селе Тог я, кажется, впервые ощутила, как опасно визуальное приближение к Истории. Почти так же, как к Солнцу — испепелит! В церковной ограде похоронены мелик Еган и два сына его — Арам и Есайи. О последнем сохранилось предание, что храбростью он превзошел своего отца, славного мелика Егана; и был весьма ценим персидским шахом Надиром, который обращался к нему не иначе как «отец». В церкви два возвышения, одно — это алтарь, а второе — клубная сцена, ибо до постройки нового здания здесь размещался сельский клуб, и комсомольцы не пожелали играть свои самодеятельные спектакли на церковном алтаре и воздвигли для своего искусства новый. Ну, а у нынешних комсомольцев другие заботы, с помощью школы они взялись за ремонт древней церкви, чтобы организовать здесь краеведческий музей. Завуч Тогской школы Виген Самвелович Григорян вот уже несколько лет водит учеников в ближние и дальние экскурсии по историческим местам, организует воскресники по расчистке заповедников. И, может быть, как раз нынешние дети спасут от тлена наши памятники и вдохнут в них новую жизнь. Летом, на праздник Вардавар (Преображения) армянки и азербайджанки из окрестных сел ходят на гору Дизапайт к большому камню над могилой святых Мовсеса и Ераноса гадать на обгорелых злаках полуторатысячелетней давности; кто вытащит из-под камня пшеничное зерно — родит сына, кто ячменное — дочку. А шагов на четыреста повыше (но каких шагов — почти по вертикали!) стоит монастырь Катарованк. Какие дали открываются тут с церковной кровли! Даже Аракс отсюда видно, реку, с которой издревле связаны судьбы закавказских народов и которую Вергилий назвал «Аракс, мостов не терпящий». Теперь-то он укрощен, наш древний Ерасх, и мостам не страшен. Историк Фавстос Бюзанд пишет, что в 335 году мазкутский царь Санесан, воспользовавшись отсутствием армянского полководца Ваче Мамиконяна, который находился в Греции, собрал полудикие племена Албании, перешел Куру и в течение целого года разорял страну. В погоне за сыновьями, принявшими христианство, Санесан дошел до Катарованка, напал на него, убил своих сыновей и вместе с ними 3800 мирян, молившихся в церкви, повелел сложить их трупы, как складывают дрова в поленницу, и сжечь. С тех самых пор гору называют Дизапайт — поленница, а гавар — Дизак. Церковь Катарованк, построенную еще Вачаганом Благочестивым, Санесан сжег. Новую церковь — базилику построили в Катарованке уже в XVIII веке. ...Высоко в небе описывает круги белый кречет; вот он спикировал вниз — и от горлицы осталась горстка пуха; и снова все дышит миром — и белесое от зноя небо, и скалы, томительно пахнущие чабрецом, и старинная церковь, с кровли которой видно древний Ерасх. И трагической фуге истории вторит шелест выжженных трав. На обратном пути мы заехали в село Мец Таглар, чтобы осмотреть дом-музей маршала авиации Худякова (Ханферьянца Арменака Артемовича). В судьбе этого человека с такой силой выразился наш противоречивый, полный влетов и падений, прекрасный и яростный век, что даже беглая запись по следам скудных материалов сельского музея выстраивается в глубокий и ослепительно яркий роман. Жизнь уже написала его. Кто следующий? Кому он под силу? ...Организатор музея, собиратель, гид, рабочий и сторож в одном лице — ветеран войны Егише Ефимович Джавакян. Человек весьма почтенного возраста, он по собственной инициативе поехал в Москву, прошел все высокие инстанции и доставил в деревню списанный самолет, зримую память о маршале авиации Худякове-Ханферьянце. Много лет собирает Егише Ефимович фотографии, письма, ордена, медали, документы воинской доблести своих земляков. Двести восемьдесят восемь мецтагларцев отдали свои жизни за спасение родины. У Егише Ефимовича большая переписка со всей страной. Сегодня он получил письмо с Дальнего Востока от бывшего летчика, служившего на Балтике под командованием Худякова-Ханферьянца. ...А потом был мягкий, звездный вечер в селе Азох, откуда видно разверстую пасть теперь уже всесветно известной пещеры, мы ужинали на летней веранде гостеприимного дома и уже понимали, что пещера откладывается до следующего раза, которого, может быть, никогда не будет... И полуторагодовалый малыш, самый младший член семьи, прошлепал на неокрепших еще ножках через весь двор, бесстрашно прильнул к отдыхавшей под деревом корове и что-то ласково и невнятно стал лопотать ей на своем языке. ...А наутро мы поехали в старинное село Харар. На развалины села Харар. На левом берегу реки Агару на развилке самой короткой и удобной дороги, ведущей из Карабаха в Сюник, стоит церковь Иоанна Крестителя, каменный родник, несколько двухэтажных домов с пустыми глазницами окон, большое кладбище с очень древними хачкарами, а самые поздние датированы 1918 годом. Это год последнего разорения села Харар, на сей раз турками; в долгой истории села были нашествия, насильственные переселения и опустошения, но харарцы неизменно возвращались на родное пепелище и село — ворота в Сюник — в Арцахских горах снова и снова возрождалось к жизни. Случается, говорят, и сейчас приехать кому-то из старых харарцев или их потомков, приедут, посмотрят на родной очаг, напьются из родника и уедут... Ах, этот привычный с детства рефрен о притяжении родной воды, он навсегда слился для меня с журчанием карабахских родников. Говорят, это род недуга, тоска, похожая на жажду, и утолить ее может только вода родного с детства источника; в Чардахлы, родном селении Ивана Христофоровича Баграмяна, мне рассказывали, что, приезжая, маршал перво-наперво шел к роднику, а в один из последних приездов он набрал термос родниковой воды и отвез умирающему в Москве брату. ...А в восточной части горы Дизапайт в селе Цор стоит церковь Всеспаса и часовня Просветителя с подземным мавзолеем и хачкарами со сценами Священного писания; в Спитак Хачванке — хачкары с охотничьими, военными и сельскохозяйственными сценами; городища, селища, святилища, не сподобившиеся доныне внимания исследователей. И Харар - зияющая рана истории... Какая «Илиада» погребена в горах древнего Дизака... ...Сызмала влекло к дальним пределам, а самые ошеломительные открытия подстерегали на родной земле. Именно подстерегали, потому что я врезалась в них, как врезаются на полном ходу в стену или фонарный столб. Что бы вы ощутили, читатель, если бы набрели невзначай на неведомый миру Акрополь? Что бы почувствовали, если б пришли с геологами на склад со взрывчаткой и со стены древней колокольни медленно, словно бы проявляясь, просияли на удивление чистые краски полуосыпавшейся фрески Благовещения? Складские помещения располагались в монастырском комплексе Дадиванк, памятнике III —IV вв. нашей эры. Много позже я увижу рукописное Евангелие, заказанное нижнехаченским князем Вахтангом и его женой княгиней Хоришах, которые «пожелали получить святое евангелие... и приказали написать.., украсив многочисленными и разноцветными красками и снабдив начала евангелий золотым письмом», — и живописное Благовещение в рукописи, известной под названием «Евангелия Вахтанга» поразит сходством с фреской в Дадиванке — та же гармония полнозвучных насыщенных красок, та же первозданно-наивная ясность, плоскостное решение, фресковые приемы письма. Сомкнулись два звена одной цепи, проснулось смутное ощущение прошлого, жизни глубокой и неведомой, покрытой травой забвения. Дадиванкский монастырь стоит на левом берегу реки Тартар в его верхнем течении на стыке Карабахского и Мравского хребтов. Согласно ишатакарану — памятной записи к «Xронике» историка Михаила Сирийца - первая церковь построена в память мученически погибшего здесь во второй половине первого века Дади — ученика апостола Фаддея. Раннехристианские армянские храмы — это небольшие, скромные постройки, весьма схожие со старинным крестьянским домом — глхатуном, где все — от светового окна-дымохода в кровле и до скупого декора было предельно практично. Собственно, это и был дом, божий дом, куда сходились, чтобы строить свою духовную жизнь, но нередко — увы! — и обороняться от завоевателей. Позже, спустя века, эти строгие постройки стали постепенно усложняться и обогащаться парусами, барабанами, куполами, ризницами, колоннами, портиками, барельефами и резными картинами — хачкарами. В самой тесной связи с народным строительным искусством и из него выковалось известное миру армянское зодчество, о котором во второй половине XX века академик И. В. Жолтовский скажет: «Простые, ясные формы архитектуры органически сливаются с суровым горным пейзажем страны. Живые пропорции, прекрасное владение материалом-камнем, сочетание сильной стены и объемов с нежным декором, правильное использование света и тени — все это свидетельствует о высоком мастерстве армянских зодчих. Античные корни питают это мастерство...» Самая первая церковь, построенная на месте гибели Дади, стояла века и выстояла в страшное землетрясение 1139 года, которое разрушило города и деревни Хачена и превратило их в жалкие руины. Очевидец, историк Мхитар Гош пишет, что землетрясение, разрушив город Гандзак, «словно выбросило его в ад», и расценивает это как «кару небесную». Но едва народ отстроился и восстановил свои святыни, как на страну напали полчища сельджуков. Мхитар Гош пишет в «Событиях», что военачальник Чоли «овладевает всеми крепостями, разрушает церкви и сжигает монастыри, вырезает вельмож, уводит в плен военных, подвергает разным мучениям всех...» Спустя два года Чоли с огромным войском снова напал на Хачен и, не сумев покорить крепости, обрушил свою месть на безоружные села и монастыри. «Таким образом, — пишет Мхитар Гош, — и сжег апостольскую святыню-церковь, которая названа по имени Дади». Ближе всего по архитектурному облику к сожженной апостольской церкви, должно быть, вот эти две — небольшие и самые древние в монастырском комплексе. Одна из них северной стеной и частью восточной уже в земле; к югу от нее узкая и невысокая церквушка из дикого камня, хотя, если вглядеться, увидишь в кладке и отменно обработанные камни. На век или на два позже построена церковь Асана Великого с редкостным для здешних мест кирпичным куполом. Среди великого множества карабахских храмов это второй, в строительстве которого использован кирпич. Стены церкви сложены из полуобработанных камней, в них вставлено множество хачкаров, они небольшие, и самый древний датирован 1182 годом; стало быть, ко времени укрепления этой плиты церковь уже стояла тут. Южнее церкви Асана Великого стоит большая, в три проходных зала часовня, построенная в 1211 году Григором епископом. Им же построена в 1224 году еще одна часовня-притвор, близкая по архитектурному стилю к народному жилищу — глхатуну, если бы не торжественные ряды встроенных в стены хачкаров, в рельефах и надписях которых запечатлена летопись дома верхнехаченских князей. На протяжении веков притвор служил усыпальницей верхнехаченских князей. ...Сейчас здесь овчарня. В годы расцвета грузино-армянского военно-политического союза от чужеземных захватчиков были освобождены все области Восточной Армении, строились и восстанавливались многочисленные храмы, и это легко читается по датам строительных надписей зданий дадиванского комплекса. И снова мы гадаем по очертаниям руин, и по бесчисленным курганам вокруг монастыря — какая память об отчей земле погребена в них? Дадиванкский монастырь разрушали и грабили персы, сельджуки, монголы, османы и снова персы, и снова турки... Но разве можно уничтожить строительный гений народа? И на месте сожженного храма встает новый... Хотя бы вот эта церковь Арзу-хатун Арцруни — жемчужина Дадиванка. На южной стене — рельефное изображение двух ктиторов, поддерживающих макет храма, лица у них в фас, фигуры в профиль, руки подняты в плавном, молитвенном жесте, они едва касаются плоскости, на которой стоит макет храма. Но в крупных породистых лицах ктиторов — не благолепие, а воля и мудрость. Такие лица и сейчас встречаются в Карабахе, поистине, «потомство индивидуальностей... не уничтожит и не заменит вечных и своеобразных черт своих предков» (Вернадский). Под скульптурной группой обширная строительная надпись, где подробнейшим образом рассказывается о великой княгине Арзу-хатун и предпринятом ею строительстве. Церковь заложена в 1214 году; позже к ней пристроили портик с колоннадой, какими по средневековой архитектурной традиции часто заменяли притвор. На колоннах три надписи, две из них настолько разрушены, что не поддаются прочтению, из третьей, сохранившейся, явствует, что портик-притвор построен Смбатом. А вот эту колокольню с куполом, на каменных подпорках которого висели колокола, построил сын князя Ваграма Допяна Саргис епископ в XIII веке. Лет двадцать тому назад, когда я впервые попала сюда, колокола давно уже отзвучали, звучали взрывы — поисковые, строительные. Строилась Сарсангская ГЭС, геологи сводили леса и буравили горы. В колокольне тринадцатого века хранилась взрывчатка и со стены ее беззаконно светилась полуосыпавшаяся фреска Благовещения. А бесценное сокровище Дадиванка — вот эти два хачкара у входа в колокольню — как же я их проглядела тогда? Поистине, видишь только то, что знаешь. Симметрично расположенные хачкары смотрятся, как близнецы, но стоит приглядеться, как обнаруживается неповторимость каждого. В этом — их тайна, и происходит она, должно быть, от волшебной игры линий и гармонического равновесия, в каком мастер дает многообразие элементов. Немногие знают, что эти хачкары состоят каждый из двух неравных частей, плотно пригнанных друг к другу, из которых нижняя в четыре раза больше верхней и является основной. А тонкость и сложность резьбы придают твердому камню пластичность, возможную разве что в старинном золотом шитье. Летописные источники, как правило, дают имена строителей-заказчиков и опускают имена зодчих и скульпторов, авторов неповторимых храмов и хачкаров. Анонимность - как обрыв в цепи. Есть магия имени — назовешь мастера и, кажется, что видишь его въявь. И памятник, сотворенный им, тверже стоит на земле. И сильнее ощущаешь бесконечность жизни. Ибо «бесконечно все, к чему прикасается человеческий дух» (Вернадский). Поиски в темных лабиринтах истории ничуть не менее ценны, чем поиски в недрах земли, и открытие имени забытого гения равно открытию его памятника. Имя автора дадиванкских хачкаров, так же как и шедевров Гошаванка и Дехдзута — Погос, жил и работал в XIII веке. Есть предположение, что каменотес Погос перенес на дадиванкские хачкары узоры с алтарных покровов, вышитых Арзу-хатун в дар церкви. О чудесной красоте этих вышивок с восхищением пишет Киракос Гандзакеци: «Она... сделала вместе с дочерьми своими из очень мягкой, покрашенной в различные цвета козьей шерсти прекрасный, всем на диво, занавес — покров для святого алтарного возвышения, украшенный в точности отражающими страсти спасителя и иных святых накладными узорами и вышитыми изображениями, которые всех приводили в восхищение. И видевшие благословляли бога, даровавшего женщинам искусство ткачих и совершенство в изображении». Давно убрали из монастырского комплекса складские помещения и даже приставили сторожа. Но хорошо бы еще сторож знал, что он хранит, и не превращал храм в хлев. Мы приехали и уехали, так и не встретившись с ним. В родовой усыпальнице верхнехаченских князей скучились, хоронясь от зноя, овцы. Осел, привязанный к колокольне, осатанело закричал-зарыдал нам вслед. Я оглянулась на него с каким-то мистическим страхом, мне показалось на миг, что я вижу Колесо фортуны в действии. В монастырь Ерицманкац с нами поехал заведующий отделом культуры Мардакертского райисполкома Армен Ефремович Осипян, которого здесь называют «министром культуры». Хотя, надо сказать, для министра он слишком хороший гид, и счастлива земля, которая имеет таких проводников, ибо без них придешь и уйдешь незрячим. По дороге то и дело останавливали уазик, чтобы посмотреть арочный мостик XIII века, построенный все той же верхнехаченской великой княгиней Арзу-хатун, или монастырь апостола Егише, что стоит у подножья горы Мрав. По преданью, первый храм этого ансамбля построен еще Вачаганом Благочестивым, о котором говорят, что он построил церквей по числу дней в году. Сам он погребен тут же, под подлинной плитой пятого века, в склепе. «Когда он приезжал в село, то перво-наперво заходил в школу, — рассказывает старый пастух на склоне горы Мрав, и я не сразу соображаю, о ком речь. — Соберет вокруг себя детвору, станет задачки им задавать или попросит громко и отчетливо прочитать урок. И если дитя отвечает успешно, то царь Вачаган радуется этому больше, чем, если бы, нашел самый драгоценный клад». Он сказал «царь Вачаган» — как сказал бы «мой дед Петрос». Я прочитаю потом у летописца о Вачагане Благочестивом и узнаю в его рассказе интонации старого пастуха, которого мы встретили на склоне горы Мрав. И — в который раз! — подивлюсь чуду народной памяти, так крепко цементирующей историю края. И подумаю о том, что это вот и есть бессмертие — когда о человеке, жившем четырнадцать веков назад, говорят в настоящем времени. ...И еще одна остановка — у небольшого изящного мостика, перекинутого через реку Тартар под селом Тонашен. На опоре-быке две памятные доски. На одной: «Этот мост построен в 1902 году на средства жителя села Тонашен Арутюна Айрапетяна». На другой: «Этот мост построил мастер из села Гюней Чартар Абрахам Камалянц». Какая скупая и выразительная документация! Сколько заявлений, отношений, разрешений, смет, проектов, утверждений и подписей лиц, в сущности, не причастных к делу, понадобилось бы сейчас для постройки такого моста? А тут два десятка слов на двух медных досках — и вот он, мост. Один заказал. Другой построил. И погнал домой буйвола с буйволицей. Вознаграждение за труд. Это уже комментарий Армена Ефремовича. ...На левом берегу Тартара на вершине утеса показалась полуразрушенная башня крепости Джраберд. «В бешено грохочущий Тартар под острым углом впадает река Трга. Из этого угла и поднимается утес, на вершине которого возвели крепость. От главных ворот крепости остались лишь могучие арки. Входим в ворота и по змеящейся дорожке, врезанной в грудь скалы, поднимаемся вверх. Ничто не уцелело, полуразрушенные башни, обвалившиеся стены, некогда роскошные комнаты и залы с рухнувшей кровлей. В скале, насквозь продолбленной от вершины до подножья, высечены ступени — тайный ход для доставки воды из реки. Путь этот назывался Джрагох — Водяной вор. На каждой ступени стоял человек, который принимал пустую посудину и передавал полную. За несколько минут наполнялась огромная цистерна на вершине. Еще один тайный ход вел из крепости и терялся в лесу — путь отступления. Холм, на котором возвели дворец-замок князей Джраберда, напоминал полумесяц. На кончиках его рогов возвышались башни, вероятнее всего сторожевые, поскольку они перекрывали два единственных подхода, ведущих к замку. Дворец из белого, схожего с мрамором, полированного камня, был гармоничным и в то же время сложным строением со множеством некогда роскошных залов, коридоров и анфилад, с большими окнами и широкими дверями. Огромные деревья разрослись среди развалин, выворотив плиты, сдвинув кладку, пробив потолки. Под густым переплетением кустов, бурьяна и вьюнка погребена былая слава властителей, которые жили в этих чудесных лесах и горах-великанах». Так писал Раффи о крепости Джраберд. «Ну, что ж, - сказала я себе, - раз Раффи поднимался туда в конце прошлого века, то что мешает и мне сделать это в конце нынешнего? Дома — не люди, век для них не срок, и уж, наверное, там есть что посмотреть, а если повезет, отыскать Джрагох и спуститься по внутрискальной лестнице к реке, чтобы хоть на краткий миг ощутить себя «водяным вором», добывающим спасительную влагу для осажденной крепости». Но где они — могучие арки ворот? Где дорога, врезанная в грудь скалы? Нигде... ничего... Водитель Игнат присел на валун и загляделся на буйные воды Тартара, а мы втроем прошли сквозь штольню, пробитую здесь геологами, и попытались подойти к крепости с другой стороны. Но и здесь — крутой, обрывистый склон. Ни намека на тропинку. Вардгес без дороги полез вверх, я, было, последовала за ним, но чуть было не сорвалась и повернула назад. Увы, я разучилась ходить по земле, на которой мои предки просто жили. Повседневно. — Там уже нечего смотреть, — попытался утешить меня Армен Ефремович — Я знаю, лазил туда мальчишкой. Смотрите, ежевика поспела, давайте есть ежевику! Мы ели с куста роскошно крупную ежевику, поглядывали на крутой склон, где исчез Вардгес, и сочная сладость ягод отдавала терпкой горечью каких-то смутных потерь... Вардгес спустился совсем с другой стороны и в память о невосхождении оставил в моем блокноте план руин бывшего замка-крепости; линию крепостных стен с полуразрушенными башнями, врезавшиеся в землю очертания бывшего дворца и других строений; следов Джрагоха он не нашел и едва не провалился сквозь рухнувшую, тонко задерненную и поросшую быльем кровлю какого-то дома. От Джраберда до монастыря Ерицманкац ехать всего семь километров. Но каких! Наш уазик встает на дыбы, крепится набок, висит над пропастью, с акробатической ловкостью берет повороты; вот только замкнутое лицо Игната становится в эти минуты еще более бесстрастным. Лицо Игната — старинной лепки, оно будто с дадиванкского барельефа, оно внушает надежду и рассеивает страхи, даже когда колесо — над пропастью. И все же, и все же - по этим дорогам куда разумней ездить на конях... ...В 1651 году сын сельского священника Симеон из Хоторашена поссорился с могущественным Гандзасарским католикосатом и в диком ущелье Тартара основал монастырь Ерицманкац. Но сколько же надо решимости и силы, чтобы обжить это скалистое ущелье... Трехоконный приземистый домик без дверей, сорванных так давно, что и следы уже сглажены, с задерненной кровли свисают длинные космы трав-самосевок, она лезет даже из стыков кладки на стене, и — красивый арочный вход, обработанный глубокими каннелюрами. В крошечной прихожей два дверных проема, один — в келью, другой — в довольно просторную длинную комнату, возможно, трапезную. Пилястры с трапециевидными выступами для подсвечников, копоть, запустенье, кровать с проржавленной сеткой, истлевший обрывок паласа, кукла с оторванной головой. Похоже, что тут во время кочевки стоят пастухи. И как аннотация в музейном зале, записка на тетрадном листке в клеточку, вдетая в гвоздь на стене. Корявый почерк редко пишущего человека, лавина гнева и возмущения на головы разрушителей. И снова, и снова — гнетущее чувство вины. Но разве мы — разрушители? Но мы и не строители. И не хранители, увы! Я споткнулась о камень, посмотрела под ноги и увидела уже замшелый обломок хачкара — четыре с половиной женщины движутся в плавном ритме кругового танца — ведущая подняла руки в картинном жесте, остальные сомкнули ладони — прихлопывают себе в такт музыки. Так на наших свадьбах танцуют и сейчас. Я села на землю, протерла платком круглые, как маленькие солнца, лица своих юных прабабок и спросила: «Что же делать? Как быть с вами?» И тут я увидела рядом еще один вросший в землю хачкар, и еще... о, о, сколько их тут, и каждый совершенно неповторим; надо было споткнуться, чтобы открыть редчайшую коллекцию, неотвратимо поглощаемую землей. Из церкви на горе донеслась старинная армянская песня, голос был глубокий и благозвучный; я бросила танцующих красавиц и поспешила в церковь. В полуразрушенных алтарных стенах торчали обнажившиеся горловины кувшинов-голосников, и один из спутников просто-напросто пробовал великолепную акустику зала. На одном из вставленных в стену хачкаров автограф зодчего: «Строителя и варпета этой церкви Саргиса поминайте во имя Христа». Ну, что бы тебе поподробнее рассказать о себе, варпет Саргис? Как ты додумался так гениально вписать храм в панораму родных гор, так вычислить кривые наибольшего сопротивления разрыву, чтобы купол не обвалился, так рассчитать уровень закладки кувшинов-голосников, чтобы голос с амвона звучал как глас божий, потому как чуть выше — и сорвется на визг, чуть ниже — невнятно забубнит; как сумел ты так органично сочетать эти земные, даже приземистые пропорции с тончайшей резьбой, превращающей простой местный камень в драгоценную слоновую кость? Потому что и резной крест на стене, и наличники узких окон, и обрамления арок, и грани монументальных колонн, поддерживающих легкий купол — все это кажется вырезанным из слоновой кости, на всем — печать изящества. И это тревожное, заклинающее — «поминайте!» Твои колонны снизу доверху испещрены именами мальчишек, они не посчитались даже с твоим автографом, перечеркнули и его, впрочем, вряд ли они читали твои слова. Твои хачкары разбиты и разбросаны, в них искали клады. Но ты не сердись на них, варпет Саргис, это ведь тоже память, память со знаком минус, другой их никто не научил, а самим связать разорванную цепь времен — дело нелегкое, на это иной раз и жизни не хватает. Откуда им, в самом деле, знать, что клады не в хачкарах замурованы, а дивно запечатлены на них, что их — не разбивать, а читать надо, как читают Книгу родины. Откуда им знать, что Ерицманкац — не мертвый знак отжившей жизни, а живое прошлое их дедов и бабок, материальное воплощение их великой и терпеливой любви к родной земле, их вечный к нам призыв: «Помните!» А мы — что мы без них? Всего лишь горсть песка на ветру... Солнце выжигает золотые клейма на листве буковой рощи, куда вот по этой тропе спускались к роднику мои юные прабабки. Гремит безымянная речушка, перекатывая через валуны к Тартару; в шум ее тонко вплетаются журчанье родника и еще какие-то неясные звуки, то ли птичьи посвисты, то ли жужжанье шмелей, а может быть, в роще заблудилось эхо охотничьего рога, при звуках которого в крепости-замке Джраберд начинали готовиться к встрече Князя с охоты... Нет, знал строптивый Симеон, где ставить обитель... Мгновенья тут глубоки, как века... Я пила воду из монастырского родника и никак не могла напиться. Я сидела на вывороченных корнях гигантского старого каштана и, кажется, просидела бы так целый век. Но надо вставать и ехать. Зачем? Зачем я приезжаю и уезжаю? Обедали мы в деревне Матагиз, в одном из тех домов, где труд гостеприимства похож скорее на праздничную игру и очень напоминает сказку о скатерти-самобранке. Старшая хозяйка - ветеран партии и колхозного движения, персональная пенсионерка, и я не без некоторой опаски спросила ее, бывала ли она когда-нибудь в Ерицманкаце. Лицо ее стало непроницаемым, и она обронила скупо: «Была однажды. В детстве». Но потом, за столом, она подобрела и выложила все, как на духу. — Хоть и партийные мы люди, товарищ Осипян, — вроде как извинилась она перед бывшим начальством, — но дело прошлое, так уже и быть, расскажу, коль спросили. Трижды в монастырь ходила. Первый раз в детстве, всем миром, на праздник Вардавар. Ну а потом не до этого стало — колхоз строили, войну пережили, хозяйство из разрухи поднимали. Про монастырь и думать забыли, вроде бы он вовсе с лица земли исчез. После войны ты в нашем колхозе руководил, сам помнишь, как работали, и днем, и ночью... — Помню. Вместе колхоз поднимали... — С войны во мне тревога угнездилась, ночами не сплю, когда кто из домочадцев из дому уедет. Младшего моего призвали на срочную службу, ну, проводили, как положено, не на войну же, на два всего года. Но, поди ж ты, затосковала я вдруг, покой потеряла, ну и пошла, никому не сказавшись, однажды ночью в монастырь. Молиться сроду не умела, а так, попросила своими словами, чтобы сын мой вернулся жив-здоров, чтобы женила его, и чтобы родился у него сын Борик. И все, как загадала, так и вышло. Вернулся сын, сыграли свадьбу, и внук Борик родился через год. А про обет свой, ну, что барашка черного в жертву принесу, я и думать позабыла. Да и стеснялась, правду сказать, попреков боялась, всю жизнь на виду, в руководстве как-никак. Ну, а сыну сны всякие сниться стали. Встанет утром, бывало, и говорит: «Опять турки снились, страшные, с ножами, ходят по дворам, долги требуют отдать». Ну, думаю, делать нечего, придется в третий раз идти в монастырь, долги отдавать. Ну и пошли, расплатились, как говорится. Чего уж таиться, было такое дело, хоть и не пристало это нам, партийным людям. Мы дружно посмеялись над «криминальной» тайной старой хозяйки, перед глазами у меня заплясали юные прабабки в круговом свадебном танце, и вдруг насквозь прошила мысль, что мы ведь бросили их, бросили на верную погибель; мне с донкихотской неистовостью захотелось вернуться в церковь варпета Саргиса — послушать старинные армянские шараканы. А почему бы и нет? Эти храмы — они просто созданы для того, чтобы стать концертными залами. Краеведческими музеями. Художественными школами. Библиотеками. Очагами нашей современной культуры, которая так обмелела на местах и будто бы в погоне за какими-то миражами ринулась в большие города. Вот ведь абсурд: в Сорбонне, в курсе архитектуры Гандзасарский монастырь называют в числе пяти выдающихся памятников армянского зодчества, вошедших в золотой фонд мировой культуры, а мы — прямые наследники и самые что ни на есть законные хозяева этого шедевра — уничтожаем его забвением. И не только забвением. О Гандзасаре у нас не говорят ни в школе, ни в университете, его нет ни в одном путеводителе, ни в одном туристском маршруте! Годы настоящего бума телевизионных открытий заповедных уголков нашей родины роковым образом не коснулись Гандзасара, о нем не встретишь ни слова в периодической печати, во всех этих рубриках — «По родному краю», «Уроки родины» и т. д.; впечатление такое, что слово это под негласным запретом. Мы знаем про Акрополь и Колизей, знаем про Собор Парижской Богоматери; но проведите опрос в нашей республике — многие ли знают про Гандзасар? Про Дадиванк? Про Амарасский монастырь? Тот самый случай, когда не-знание неизбежно оборачивается не-вежеством. От слова «не ведать». Заведомо или нет, но мы сами в себе и в своих детях культивируем невежество, сами отрываем себя от своих корней, а потом удивляемся равнодушию, безответственности, вандализму, социальной инертности. Счастье, что я знакомилась с родной землей не по справочникам. Просто ходила по ней и однажды пришла в Гандзасар. Помнится, мы вышли из Мехманы и пошли наугад, расспрашивая у встречных дорогу; в попутном селе Члдран к нам присоединились директор школы с племянником, студентом МГУ, а в бывшем монастырском селе Ванк — лудильщик дядя Миша. Увидев незнакомцев на базарной площади, он вышел из своей мастерской, подошел к нам, не то спросил, не то сказал: «Вы - в Гандзасар!» — и повел нас. ...В эту богом забытую глушь, для обозначения которой на обычном почтовом конверте даже аббревиатурой не хватает места, тысячу лет назад из Византии шли письма с кратчайшим в мире адресом: «Князю Хачена, Армения». Визазантийский император и историк X века Константин Порфирородный отмечал Хаченское княжество в числе важнейших государственных образований Армении, с которыми византийский двор имел переписку. И письма с адресом в три слова доходили сюда с другого края земли. На северной стене церкви Иоанна Крестителя под узким окном выбита строительная надпись в 27 строк: «Именем Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа надпись свою повелел выбить я, слуга Божий Джалал Дола Асан, сын Вахтанга, внук Асана Великого, властитель высокого и великого края Арцахского, царь Хохонаберда с обширными нахангами. Отец мой перед смертью, безвозвратным уходом из мира сего, завещал мне и матери моей Хоришах – дочери великого князя князей Саргиса построить церковь на кладбище отцов наших в Гандзасаре, строительство которой начали мы в 765 году армянского летосчисления (1216) с помощью Дарителя Благ (Бога) и когда возвели восточную стену выше окна, мать моя, отказавшись от светской жизни, в третий раз отправилась в Иерусалим, где, надев власяницу и проведя многие годы в отшельничестве у врат Храма Воскресения, почила во Христе в день Пасхи и там же была предана земле. Мы же, помня о многих напастях, подстерегающих (нас) в жизни, поспешили завершить постройку и закончили милостью и благословением Всемилосердного Бога в 1238 г.». Историк Киракос Гандзакеци — очевидец строительства пишет, что церковь построена на том месте, где еще в IX-X вв. стояло святилище. О том же свидетельствуют хачкары, датированные XI, XII, началом XIII века. Архитектурный облик собора без существенных изменений воспроизводит крестово-купольную композицию армянского храма, выработанную еще в начале X века и представленную такими памятниками, как соборы в Ахпате, Санаине, Кечаруке. Вот что писал о строителях Гандзасарского монастыря известный советский ученый А. Л. Якобсон: «Создавая эти здания, они использовали огромный, накопленный веками арсенал технических и художественных средств, — архитектурных и декоративных, — которыми творцы Гандзасара в совершенстве владели. Они претворили эти средства в произведения, которые мы с полным правом можем назвать энциклопедией армянского зодчества XIII столетия». Мы входим в притвор, над порталом которого высечены львы, попирающие змей (герб хаченских князей?), и попадаем в большой бесстолбный зал с двумя парами перекрещивающихся арок-кервюр со сталактитовым сводом в перекрестье, над которым возвышается легкая восьмигранная ротонда. Притвор, в который могли ходить не только христиане, но и неверующие, и еретики, и иноверцы, соответственно своему полу-светскому назначению отделан скромно. Основное его украшение — крупные сталактиты под карнизом, отделяющим стены от свода. Вход из притвора в храм Иоанна Крестителя обрамлен простым порталом с полукруглой аркой. Гандзасарская церковь не поражает ни пышностью католических соборов, ни аскетизмом протестантских, она вообще не поражает, она принимает тебя как в дом, и долго потом прорастает в тебе прапамятью об изначальном стремлении человека к мировой гармонии. Что же, как не это стремление двигало мыслью и рукой зодчего, так чисто и строго расчленившего пучками ритмически чередующихся тяг эти стены, эти колонны, обрамляющие центральный неф и подчеркивающие округлые стыки подкупольного объема; эти замечательно цельные скульптурные головы быков, удивленно взирающие на вас с высокого фриза, эти узкие окна с полукруглыми верхами, от которых веером разбегаются глубокие каннелюры; всю эту плавность и непрерывность линий — ни одного острого угла! Чем совершеннее произведение рук человеческих, тем труднее представить себе процесс труда; кажется, что Гандзасарский храм родился не в строительном грохоте и пыли, а только из одного могучего и чистого вдохновения, похожего вот на этот сноп света, бьющего в восточное окно. Вардгес догадался прихватить с собой полевой бинокль, и мы подробнейшим образом рассмотрели шестнадцатигранный барабан, поддерживающий купол храма — это поистине виртуозное по технике и богатое по смыслу творение зодчего. Каждая из шестнадцати граней барабана завершается небольшим фронтоном-щипцом, и от этого конус купола нависает над храмом, как изящный, филигранной работы, зонт. Барельефы на гранях барабана несут определенную символику, читать их — увлекательнейшая игра. Вот скульптурная группа двух ктиторов, симметрично занимающих ниши восьмой и десятой граней. Бородатые ктиторы сидят, поджав ноги, и каждый держит на голове плоскость с макетом храма; у одного — крестово-купольный, как Гандзасар, у другого — ротондальный, весьма напоминающий знаменитый Звартноц. Один из ктиторов — сам князь Хаченский Асан Джалал, другой, возможно, его сын Иванэ-Атабек, упомянутый в ктиторской надписи храма. На фронтоне промежуточной грани — рельеф Христа на фоне сплошного кружевного орнамента, под ним в нише Древо жизни и фигуры Адама и Евы. «Ктиторские рельефы XII—XIII вв. известны... по другим памятникам, — пишет Якобсон, — но композиция их в Гандзасаре совершенно оригинальна и уникальна; ни одного другого подобного памятника в Армении мы назвать не можем». Вторая скульптурная группа — это опять же расчлененная на три грани, но единая по замыслу композиция Богоматери с двумя апостолами. Преклонив колена, апостолы — головы в нимбах — воздели руки к Богородице, их осеняют херувимы, и очертания крыльев в лад повторяются обрамлением полукруглых ниш. В центре группы на фронтоне — Богоматерь с запеленатым младенцем. С фронтонов смотрят бычьи головы, и орел распростер крылья над храмом. Стражи-охранители. Образы «звериного и басенного христианства». Этим-то пленяет Гандзасар — первозданностью, наивным и сильным чувством. В лике Богоматери вы узнаете черты лица карабахской крестьянки, а в жесте, которым она держит запеленатого младенца, ее уверенный до небрежности, отнюдь не благоговейный жест. Двумя жемчужинами тысячелетней армянской архитектуры и пластики назвал А. Л. Якобсон Гандзасарский храм и его гавит — притвор. Но гений места покинул Гандзасар, и никому, кажется, кроме сторожа Рашида, да еще нескольких энтузиастов и болельщиков, нет до него дела. Сама Книга отзывов, которую завел, наверное, тот же сторож, ибо другого штата здесь нет, выглядит полным анахронизмом. И тем более неожиданными оказались записи гостей, бог весть какими ветрами занесенными сюда из самых разных точек нашей страны. Я выписала себе в блокнот несколько автографов за последний месяц. «Группа туристов из Белоруссии (г. Минск, МАЗ) посетила древний храм. Спасибо большое вашему народу за любовь к своему прошлому, за бережное отношение к сокровищам нашей древней культуры. Группа 1211, руководитель Гриневич Е. Р. S . Думаю, еще вернемся сюда в скором времени». Мне понравился и постскриптум, и такая точная в беглой записи расстановка местоимений — «вашему народу» — «к нашей древней культуре». Потому что культура, созданная одним народом, неизбежно становится достоянием всех народов, и самые большие бедствия на земле происходят из нежелания понять это. «Любой народ может гордиться такими древними архитектурными памятниками, которые имеются на этой территории небольшого Карабаха. Я впервые нахожусь здесь на один час, был и в Шуше, посмотрел там древние строения. Удивительно красивая армянская церковь там, с каким мастерством построена она. Также удивляет церковь Гандзасар, как можно построить на такой высоте такую неповторимую красоту. Ее надо всячески беречь, охранять и гордиться. Сорокин из Ленинграда». Некто из Новосибирска с неразборчивой подписью написал коротко и выразительно: «Умирая, памятники тащат за собой в могилу народ, создавший их. Гандзасар должен жить вечно! Будет жить вечно!» Кроме нас, в этот день в Гандзасарский монастырь приехала семья Маловых из Москвы: муж, жена и дочь. Однажды плененные Гарни, они уже несколько лет ездят по местам, где стоят армянские храмы, так и на Гандзасар вышли. «Что же делать? Что делать? — все повторяла Тамара Васильевна Малова, вдруг обнаруживая следы пуль на колоннах, поврежденную выстрелом голову быка или торчащие на фризе ролики, с которых сорваны паникадила. — Что делать? Надо же что-то делать!» Согласно документации Гандзасарский монастырь с 1982 года находится на реставрации. Реставраторов мы не видели, их отозвали в Баку на более важную и срочную работу (так нам объяснили их отсутствие). Что же касается результатов их четырехлетних трудов, то это, по точному выражению академика Лихачева, скорее фальсификация, нежели реставрация. Хуже того - это удручающе безграмотное, а возможно, и осознанное глумление над великим памятником. «Вера в гений места, — писал известный польский писатель Ян Парандовски в послевоенной статье «Варшава», - не предрассудок. Это символ той таинственной силы, каковой обладают некоторые места, бесконечно возрождающиеся из праха, бессмертные. Такой силы не имели Вавилон, Ниневия, Карфаген, но ею были наделены Рим, Афины. Когда после освобождения из-под турецкого ига решался вопрос, где основать столицу независимой Греции, король Оттон назвал Афины. Это казалось абсурдом. Афины представляли собой скопление заселенных нищими мазанок под развалинами Акрополя. Но король уперся и победил. Ибо Афины в своей пустоте были чем-то большим, нежели пространством, в котором можно распланировать улицы и возвести дома. То был лозунг, магическое заклятье, призывающее к жизни гения этого клочка спекшейся земли». А кажется — чего проще? Организовать здесь музей, и пусть Гандзасарский монастырь распахнет двери в свою историю. Пусть покажет древнюю карту международных отношений Арцаха-Хачена-Карабаха — от Византии и до Монголии, от Сирии и до Рима, от Западной Европы и до России, дружба с которой, раз начавшись, уже не прерывалась. Пусть покажет золотую монету с портретом французского короля, которую завез сюда, по всей вероятности, посол Армении Исраел Ори; и проезжий лист, выданный ему польским королем, и «Любительную грамоту» Римского цесаря к царю Петру Алексеевичу», и ответ Петра: «... понеже Мы оной Армянской народ в особливую нашу милость и протекцию приняли...» И переписку карабахских меликов с Петром Великим и полководцем Суворовым. И миниатюры, нотные сборники и рукописи, которые создавались под сводами этих келий и на последней странице которых неизменно делалась памятная запись — ишатакаран, где сообщались имена писца, художника, заказчика и следовал наказ: «Берегите написанное мною, во времена бегства и в годину войн увозите книгу эту в город и скройте ее, в мирное же время верните в монастырь и читайте ее; и не прячьте, не держите закрытой, ибо закрытые книги — всего лишь идолы». Здесь, в этих кельях веками не прерывалась научная жизнь, здесь, может быть, искали квадратуру круга, философский камень, эликсир жизни; здесь, на этой земле, Мхитар Гош создавал свой «Судебник», Киракос Гандзакеци писал «Историю Армении» и составлял армянский Айсмавурк — Четьи-Минеи, Есаи Асан Джалал — «Краткую историю Агванка». Здесь создавалось известное «Евангелие Вахтанга»; в XVI веке его похитили турки; опустошив Ереван и Нахичевань, они, по свидетельству турецкого историка и участника нашествия Ибрагима Фечеви, «вошли в край, названный Карабахом, который со своими горами и плодородными садами известен в стране Аджема. Вдруг край покрылся такой пылью, что нельзя было различить людей, ясный день превратился в темную ночь. Но все же нашлись кое-где хранимые и в пещерах спрятанные драгоценности и разные вещи. Войско приобрело бесчисленное богатство и добычу, а часть этих богатств, которую невозможно было таскать с собой, предали огню и уничтожению». Великий князь Нижнего Хачена Джалал выкупил у турок фамильное Евангелие и вернул его в Гандзасар; сейчас оно хранится в Матенадаране. ...Здесь, на этой земле, строили свой дух и построили храм на горе, который исследователи XX века назовут жемчужиной и энциклопедией армянского зодчества. Так пусть же в Гандзасар вернется гений этой земли, пусть в старых стенах заиграет новая жизнь, чтобы не опустела земля, так дивно обустроенная отцами, так щедро политая их кровью. Случай свел меня в тот день с сельским жителем, потомком католикоса Исайи — поборника освободительного движения, того самого, который в одном из своих писем к Петру Великому просил «освободить всех христиан Востока» и, собрав ополчение, вышел ему навстречу. Воодушевленные обещаниями Петра, карабахцы собирали народное ополчение и строили крепости; об обстоятельствах постройки крепости Шош на месте будущего города Шуши пишет в эти годы генерал Матюшкин. Но Петру пришлось вернуться назад из Астрахани, а последнее письмо католикоса Исайи отправлено в Санкт-Петербург 10 марта 1725 года, спустя сорок один день после кончины Петра. Исак Оганян называет своего знаменитого пращура «пятый дед», и не то, чтобы он вкладывал в это какой-то особый смысл, нет, он просто констатирует степень родства. «Пятый дед», — говорит он, — и история уплотняется и становится чем-то вроде дома родного, но — у-у! — какие бешеные ветры сотрясают этот дом... «Что Гандзасар? — сердито вмешивается в наш разговор старик-сосед. — Горе нам от него и ничего больше! Не будь его, и мы давно разъехались бы по белу свету, жили бы, как люди, по городам...» Сердитый старик рассказал, как лет двенадцать назад прилетели на вертолете два больших начальника, поели-выпили, а потом вошли в храм и стали расстреливать его... Говорил он об этом совсем не сердито, скорее — отрешенно, как говорят о том, о чем много думано-передумано, а выхода нет, тупик. «А вы?! Где были вы?!» — хотела крикнуть я, но крик застрял в горле. А где была я? И где были все? Разве есть невиновные, когда расстреливают культуру?! И разве не из нашего всеобщего невежества в конечном счете отлиты те пули?! И кто, кто из нас оставит по себе надпись, какую оставил Прош1 на стене Гегарда: «Высек я в скале дом Божий...» ...Зато Шуша подарила нам радость встречи с настоящим реставратором, варпетом Владимиром Седраковичем Бабаяном. В свое время он работал на реставрации храма в Гарни в Армении, теперь реставрирует церковь Газанчецоц в Шуше. Приехал сюда в октябре 1981 года из Еревана вместе с тремя другими реставраторами. «Дождь шел проливной, — вспоминает Владимир Седракович, — а церковь стоит разрушенная, плачет в три ручья, сама себя оплакивает...» Спустя двадцать дней трое товарищей вернулись домой, остался один Бабаян. «Смотрел я тогда на эту разруху, да что же это, думаю, почему это, господи? Деды строили — мы разрушаем... Слово себе дал, что не вернусь домой, пока не отстрою заново Газанчецоц. А когда ребята уехали, я до того расстроился, что даже стихи сочинил...» Владимир Седракович высекает новую голову из шушинского мрамора для обезглавленного херувима с колокольни и читает нам свое стихотворение. «Трудности трудностям — рознь, - отвечает он на вопрос, как ему работается у нас. — Месяцами ждешь леса, арматуры, швеллеров — это трудность привычная. Но ведь за пять долгих лет ни один собрат-художник не пришел спросить: что работаешь, мастер?» Из всех неповторимых пейзажей, что я увозила из Карабаха, вид возносящейся из руин церкви Газанчецоц на фоне экскаватора и рабочей бригады был, может быть, самым отрадным. Но в этот день нас ожидала еще одна встреча. В историко-краеведческом музее мы познакомились с двумя молодыми москвичами, которые приехали познакомиться с родиной своих родителей. Ребята безуспешно пытались получить какие-то адреса и сведения начала века. «...Реальное училище, - говорили они, - Мариинская прогимназия, Хандамиряновский театр... Богдан Кнунянц, - говорили они, - Акоп Гюрджян, Нельсон Степанян...» Мы пошли с Таней и Ваганом и без особого труда нашли и прогимназию, в которой училась Танина бабушка, и Реальное училище, где учился дед Вагана, и пустырь, где стоял Хандамиряновский театр, в котором в 1898 году соратник В. И. Ленина и двоюродный дед ребят Богдан Кнунянц прочитал первую марксистскую лекцию «О философии Маркса...» Мы нашли даже дедов дом, в одной из комнат которого размещался первый ревком, и получали свои партбилеты первые большевики Шуши. Нынешний хозяин дома, ветеран партии, сам получал партбилет в этой комнате-ревкоме, и беседа завязалась сразу и надолго. А потом он таинственно поманил за собой Вагана и показал встроенный в стену дома хачкар с памятной записью о бракосочетании деда и бабушки молодого Шахгельдяна... ...Зачем мы приезжаем и уезжаем? Август-сентябрь 1986 г. 1Прош — крупный деятель XIII в., главнокомандующий армяно-грузинскими войсками, основатель Гладзорского университета, храма в Гегарде.
-
Предлагаю Вашему вниманию пронзительный очерк прозаика Греты Каграмановой, написанный еще в довоенные годы.
-
Назель джан, только это тыква, а не дыня. И необязательно хапама должна быть сладкой. Моя hоркуйр, например, готовит ее без меда.
-
Это в ЖЖ выставил френд arin_berd
-
Сразу же после заседания 18 июля академик Сахаров пишет новое – второе письмо Горбачеву. Это письмо Сахаров намеревался отправить от имени группы видных московских интеллектуалов, входивших в неформальную ассоциацию «Московская трибуна». Однако те отказались его подписать, поскольку считали, что подпись под письмом и, стало быть, согласие с идеями, в нем выраженными, недвусмысленно ставит их в оппозицию генсеку, с которым они продолжали связывать свои надежды. В итоге письмо так и осталось не отправленным, и было опубликовано только спустя четыре с лишним года – 27 октября 1992 г. в «Независимой газете». Вот его текст: «Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! Я вновь обращаюсь к Вам по проблеме Нагорного Карабаха. Я пытался звонить Вам до и после заседания Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля, но не получилось. Я не могу выступать от имени целого народа, на это у меня нет права. Но мне кажется, я могу и обязан выступить от имени значительной части советской интеллигенции, а именно той ее части, которая наиболее активно поддерживает Вас и Вашу политику, поддерживает перестройку, страдает от ее неудач и промахов и готова искренне радоваться первым успехам. Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что в этих слоях нашего общества принятая Вами линия поведения к проблеме Нагорного Карабаха и решение Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля вызывают глубокое разочарование. Причем сложилось так, что проблема Нагорного Карабаха стала как бы пробным камнем всей политики перестройки. Люди говорят: если в этой проблеме пренебрегается волей народа целой области, пренебрегается решением Совета народных депутатов, что же остается от Советов, что же остается от перестройки? Для меня несомненно, что выбор линии в этом частном вопросе Нагорного Карабаха сильнейшим образом сказывается на Вашем авторитете, на общих перспективах перестройки. Люди ждут от Вас активности, наступательности на всех направлениях, во всех острых вопросах межнациональных отношений, начиная - так исторически получилось - с Нагорного Карабаха и с последовательным решением всего комплекса вопросов, подлинной, а не бумажной экономической реформы, ликвидации диктата ведомств и парторганов, ликвидации системы привилегий. Меры экономического и социального характера важны и необходимы, но сегодня их уже недостаточно! Болезнь, требующая хирургического лечения, загоняется внутрь. Не мне говорить Вам, как это опасно и как это разлагает и деморализует людей, лишает их жизненной и общественной активности. Больший удар по перестройке трудно было нанести! Это глубоко чувствуют не только армяне, но все, кому она дорога. Постановление Президиума Верховного Совета СССР вызвало глубокое разочарование во всем армянском народе, а в Нагорном Карабахе просто отчаяние. (Дискредитированы многочисленные заверения о роли Советов, народного волеизъявления, народной инициативы. Люди задумываются: неужели это были только слова?) Трое суток длились чудовищная резня, издевательства над беззащитными людьми, насилия и убийства армян - все это в часе езды от Баку. Передо мной копии свидетельств о смерти и краткие описания судеб людей. Даты смерти в них 27, 28, 29 февраля. Это ужасающие документы (я мог бы Вам их переслать). Среди них - свидетельство об изнасиловании и зверском убийстве 75-летней женщины. Рассказ о группе армян, которые 8 часов держали оборону в верхнем этаже дома, на помощь убийцам была подогнана пожарная машина с раздвижными лестницами, после чего большинство было убито, среди убитых несколько вернувшихся из Афганистана военнослужащих, одного (или двоих) из них сожгли заживо, изнасилования с загонянием во влагалище водопроводной трубы. Говорят, что списки армян составлялись по домоуправлениям заранее по распоряжению райкомов и попали в руки убийц (но это последнее утверждение нуждается в проверке). Азербайджанцы, живущие рядом с армянами, были заранее предупреждены оставить включенным свет. Воинствующие толпы водили по улицам обнаженных женщин, подвергали их издевательствам и пыткам. Трупы изнасилованных уродовались, в глумлении над жертвами принимали участие подростки. В свете этого всего вряд ли можно говорить, что это были стихийные действия подонков, и что просто войска опоздали на несколько часов. Если кто-либо мог сомневаться в необходимости отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана до Сумгаита, то после этой трагедии каждому должна быть ясна нравственная неизбежность этого решения. После этой трагедии не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности НКАО к Азербайджану. Официальные списки погибших в Сумгаите не опубликованы, это заставляет сомневаться в точности официальных данных о числе погибших. Нет сообщений о ходе следствия. Такое преступление не могло не иметь организаторов. Кто они? Не было официального соболезнования правительства СССР семьям погибших! Перехожу к вопросу, имеющему принципиальное значение. На заседании Президиума были попытки утверждать, что вопрос о Нагорном Карабахе искусственно создан и раздут усилиями экстремистов (Щербицкий даже говорил о мифических антисоветских силах). Все это опасная нелепость, уводящая от правильного понимания проблемы и необходимости ее решать. Было бы ударом по перестройке, если нормализовать положение власти попытаются репрессивными методами, дополненными клеветой и провокациями в духе эпохи застоя (некоторые примеры подобной тактики мы уже имеем). В действительности, забастовки - законный акт волеизъявления народа. Чем скорее власти пойдут навстречу, отказавшись от иллюзий и маневрирования, тем меньше будет потерь. Что же конкретно можно сделать сейчас? Проблема Нагорного Карабаха приобрела огромное значение. По существу от ее решения зависит, будут ли миллионы армян активными и инициативными участниками жизни нашей станы, или они окажутся на ее периферии, в глубокой апатии и разочаровании. Но и судьба перестройки во всей стране тоже в значительной степени зависит от того, будут ли удовлетворены законные требования армянского народа. (Глубокое разочарование Постановлением Президиума Верховного Совета - во всем армянском народе. А в Нагорном Карабахе - просто отчаяние. Я не знаю, что Вам докладывают о положении и настроениях людей в Армении и НКАО Ваши советники. Скажу, что известно мне из многочисленных бесед. Общее убеждение народа - абсолютная невозможность для автономной области оставаться в рамках Азербайджана. Это аксиома, вокруг которой группируются все остальные варианты и способы решения проблемы.) Слишком много наболело в душе армянского народа за прошедшие годы сталинизма и застоя, за всю его многовековую безмерно трагическую историю, чтобы можно было приглушить эту горечь косметическими средствами и обещаниями. Никакие полумеры не смогут успокоить людей, никакие разговоры о дружбе народов. Если кто-то мог сомневаться в этом до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остается никакой нравственной возможности настаивать на сохранении территориальной принадлежности НКАО к Азербайджану. (Вы неправильно говорили, что ввод войск запоздал на несколько часов. Чудовищная резня, издевательства над беззащитными людьми, насилие и убийства армян длились трое суток. Сумгаит в менее чем часе езды от Баку.) Я убежден, что справедливое решение проблемы Нагорного Карабаха в соответствии с волей населения НКАО так же и в интересах азербайджанского народа. Есть такой прием - говорят, что нельзя решать проблемы одного народа за счет другого народа. Это, конечно, в принципе правильно, часто приходится искать компромиссные решения. Но в данном случае это чистейшая демагогия. Народ, который отказывает другому народу в праве на самоопределение, сам не может быть свободным. Так говорили Маркс, Энгельс, Ленин. И в Азербайджане это видно наглядно. Многие годы руководители республики искусно использовали карабахский вопрос для отвлечения народа от своих темных дел. Лжеученые им в этом помогали. Социальные проблемы уходили на задний план. Хлопок выращивался с пренебрежением требований экологии и здоровья людей. Расцветала коррупция. Азербайджанцам, которыми так долго манипулировала мафия, именно это надо объяснить! Михаил Сергеевич! Вы упомянули в своем выступлении проблему Конституции. В постановлении Президиума Верховного Совета СССР и в ряде выступлений содержалась ссылка на статью 78 Конституции СССР, согласно которой территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Эта статья противоречит в применении к малым национально-государственным образованиям, входящим в состав союзной республики, основополагающему принципу самоопределения наций и должна быть поэтому отменена. Я считаю чрезвычайно важным недвусмысленное заявление по этому поводу Политбюро или в специальном письме. Необходимо подчеркнуть, что очищая нашу жизнь от наследия прошлых лет, мы видим в сталинско-брежневской Конституции ряд дефектов, порожденных сталинизмом и застоем (как и во всей системе законодательства). Необходимо указать, что Конституция должна быть пересмотрена и в других отношениях (она должна отразить дух перестройки - демократизацию, роль Советов, гласность. Заявление будет способствовать развитию и укреплению авторитета ее лидеров. Такое заявление будет иметь очень большое политическое значение, способствуя вместе с другими мерами уменьшению напряжения в НКАО и в Армении в период, предшествующий кардинальному решению проблемы Нагорного Карабаха.). В Постановлении Президиума содержится важный пункт о посылке в НКАО представителей Верховного Совета СССР. Но я убежден, что этого совершенно недостаточно в реальной трагически острой ситуации, в особенности - в общем контексте Постановления, не содержащего указания на возможность выхода НКАО из Азербайджанской ССР в будущем и, наоборот, отвергающего такую возможность. (Михаил Сергеевич! В качестве минимальной и срочной меры необходима передача власти в автономной области временной администрации, непосредственно подчиненной верховным органам СССР. Ядром этой системы власти может стать комиссия Верховного Совета, создаваемая в рамках принятого Постановления Президиума. Для этого ее следует наделить соответствующими широкими полномочиями.)
-
Самый надежный путь во внешний мир для Армении не иллюзорно открытые границы Турции, а автономная республика Самцхе-Джавахка Сегодня, когда Армения находится в сложнейшей ситуации, руководство страны и экспертные группы должны реально оценить сложившуюся политическую атмосферу и разработать четкие военно-политические, экономические и национальные задачи и цели на несколько десяток лет вперед. Вполне очевидно, что нынешняя ситуация Карабаха вполне выгодна армянской стороне, однако остро стоит вопрос экономического развития и демографическая проблема, поскольку армянский Карабах как фактор это прежде всего большое население и формирующаяся из нее армия. После августовских событий у Армении был великолепный шанс активизироваться во взаимоотношениях с Грузией. Спасение Армении и Грузии в момент активизации двух исторических соперников обеих кавказских республик - это сотрудничество. Однако для начала, армянская сторона должна быть уверена, по крайней мере, в двух обстоятельствах. Во-первых, это касается безопасности армян Самцхе-Джавахка. Руководство Грузии уже много лет, из-за робости и инертности внешней политики Армении активными темпами пытается решить армянский вопрос Грузии путем постоянного и всевозможного давления на армянство Самцхе-Джавахка. Аресты свободомыслящей армянской молодежи, постоянные убийства на национальной почве, грузинизация школ и церквей, а также целенаправленное заселение армянского региона грузинским этническим элементом, доказывает всю враждебность Грузии в отношении Армении. С началом разгрома грузинской армии в августе 2008 г., именно армянская сторона должна была поднять во всеуслышание вопрос автономизации Грузии, а не Турция и Азербайджан. Именно автономизация Самцхе-Джавахка, включение в состав губернии Цалкского района и создание армянской автономной республики может стать серьезным препятствием для без уклонного процесса разложения грузинской государственности. Для политической элиты Армении должно быть очевидно одно - что самым безопасным и надежным путем во внешний мир может быть не иллюзорные открытые границы Турции, а именно армянонаселенная и укрепляющая автономная республика Самцхе-Джавахка, которая станет гарантом безопасности и стабильности в обеспечении транспортно-экономического коридора для Армении. Более того, путем получения автономии в Самцхе-Джавахке, Армения может стать активным внешнеполитическим игроком в вопросе транспортировок энергоресурсов, пути которых без исключения проходят через Самцхе-Джавахк. Кроме того, Ереван должен серьезно отнестись к аджарскому фактору, поскольку удачливость и продуктивность ее соперничества в регионе связано именно с Аджарией. Усиление армянского населения Аджарии, ее постепенная активизация в этнополитической жизни автономной республики может стать важным рычагом в руках умелых политиков в Ереване. Для Тбилиси подобная активизация армянского фактора на юге страны также выгодна, поскольку вялая и безопасная «арменизация» Аджарии с Самцхе-Джавахком нейтрализирует турецко-азербайджанскую экспансионистическую политику в стране. Грузия, сжатая между Россией и Турцией, не имеет другого выхода, как прислушаться к воле армянского государства, в противном случае Ереван должен будет сделать все, дабы полностью обеспечить и обезопасить свои пути к внешнему миру любыми доступными средствами, поскольку без решения этих вопросов сотрудничество между Арменией и Грузией не имеет смысла. Эдуард Абрамян, эксперт аналитического центра "Митк"
-
«АРМЯНИН - ЭТО СУДЬБА...» (ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АРМЕНА-КЛОДА МУТАФЯНА) В пригороде Парижа Кламаре издавна обосновалась большая и сплоченная армянская община. Там в свое время располагались офисы армянских газет, армянские мастерские, штаб-квартиры политических партий, даже армянский книжный магазин. Вероятно, поэтому многие по сей день называют Кламар «армянским Парижем». В этом парижском пригороде в 1942 году родился видный армянский математик и историк Армен (Клод) Мутафян. Он - почетный доктор ЕГУ, иностранный член Национальной академии наук РА. Армен (Клод) Мутафян окончил в 1965 году Парижский южный университет по специальности математика. Преподаванию математики в различных вузах, причем не только во Франции, но и в вузах США, Кубы, Мексики и Армении, он посвятил более сорока лет. Его основные исследования в области математики посвящены теории Галуа и задачам линейной алгебры. Каким же ветром занесло состоявшегося, преуспевающего и притом известного и видного математика в дебри истории? Между математикой и историей, как говорится, «дистанция огромного размера». Как правило, историки не ладят с математикой, а математики не жалуют вниманием историю. Обе эти дисциплины любят точность, но у истории это, к сожалению, не очень-то получается. Что касается Клода Мутафяна, то здесь случай особый. С историей у него свои счеты. Наверное, это тот самый случай, когда принято говорить: не было бы счастья, да несчастье помогло. Несчастьем этим был геноцид, который всегда присутствовал в его жизни, в его биографии, в разговорах отца и матери, который звучал в печальных армянских песнях и читался в столь же печальных глазах армян, с которым он вставал и ложился спать... «Во время геноцида, - рассказывает Клод, - мой отец Заре был восьмилетним мальчиком. Вся их семья была полностью истреблена, а он выжил только потому, что его сочли мертвым... Потом его нашли в груде трупов, отправили в детский дом для сирот, организованный американцами. В 1923 году американцы отобрали сто детей сирот и помогли им получить образование в Италии. Мой отец был среди этих сирот: он учился живописи в Милане и впоследствии стал художником». Жертвой геноцида была и мать Клода Мутафяна Айкуи, хотя ей повезло больше, чем отцу. Она вместе со своей семьей оказалась в колонне обреченных на смерть армян, которых под конвоем депортировали в сирийскую пустыню Дер-Зор. Она также чудом избежала смерти. Турецкий ятаган отнял жизнь у отца и пятерых братьев Айкуи - тогда мужчин убивали, невзирая на возраст, даже детей. В школе Клод Мутафян серьезно увлекался литературой, а также античной и средневековой историей. Ему легко давались латинский и древнегреческий языки. В 1977 и 1979 гг. он дважды побывал на своей исторической родине, на земле своих прародителей. Эти поездки, по собственному признанию ученого, перепахали его душу, заняли прочное место в его мыслях и воображении. Для него это было откровением - увидеть Ани, Ахтамар, руины церквей и особенно средневековые замки Киликии... «Они меня просто поразили», - признается ученый. «Я был просто околдован Киликией, - продолжает Клод Мутафян, - я влюбился в нее с первого взгляда!.. Влюбился в необыкновенные замки, они были свидетелями большого периода армянской истории. В этой истории было все: и турки, и византийцы, и романские народы, то есть франки с их крестовыми походами, там были и монголы, и арабы... И в центре всего - армяне!» Из этого интереса рождаются научные исторические исследования, посвященные вопросам Ближнего Востока средневекового периода, вопросам истории, культуры, геополитической и дипломатической роли армянского Киликийского государства, проблемам истории Арцаха... Этому предшествует учеба в Парижском педагогическом институте, углубленное изучение проблем византиноведения в Сорбонском университете, многолетняя научно-исследовательская работа, результаты которой были обобщены и успешно защищены в докторской диссертации. История армянского государства в Киликии, - убежден Клод Мутафян, - это в некоторой степени краткая история армянского народа. На протяжении веков Армения находилась между молотом и наковальней: между Римом и Парфией, между Византией и арабами, между Османской империей и Персией... Киликия же находилась на перекрестке империй. Именно такое название дал ученый своему двухтомному исследованию. В ней речь идет не только об истории армянской Киликии, а обо всей киликийской истории с античных времен до наших дней. Благодаря Клоду Мутафяну Франция, и в первую очередь французские армяне узнали всю правду о геноциде и об арцахском национально-освободительном движении. Перу Мутафяна принадлежат также научно-популярные брошюры об Армянском вопросе. Когда Клода Мутафяна спрашивают: легко ли ему быть армянином, он отвечает: «Я здесь во Франции представляю две культуры. Быть армянином и быть, скажем, французом, это две совершенные вещи. Ты можешь быть армянином по рождению, твоя фамилия может оканчиваться на «-ян», но это еще не означает, что ты армянин. Быть армянином - это испытание, это судьба. Это выбор трудной судьбы, полной испытаний. Во Франции ты получаешь французское гражданство, французский паспорт. И чтобы выбрать судьбу армянина, ты должен чувствовать, ощущать себя армянином». По убеждению Клода Мутафяна, чтобы выбрать судьбу армянина, вовсе не обязательно быть армянином по происхождению. Есть целая плеяда блестящих ученых-арменоведов (Жан-Пьер Маэ, Бернар Утие, Шарль де Ламбертри, отец Рену и другие), которые не будучи армянами по происхождению, выбрали Армению, армянскую историю и культуру. Они выбрали армянскую судьбу, Армения и арменоведение стало для них делом всей жизни. Что может быть лучше этого?.. Гурген Карапетян
-
Альберт Бегракян, сорвавший рекордный джек-пот в лотерею: «Узнав о выигрыше в 100 миллионов рублей, я похудел на 6 кило!» Предприниматель из Колпино (Ленинградская область) Альберт Бегракян угадал 6 номеров из 45. И забрал рекордный джек-пот: 100 миллионов рублей. Плюс еще 118 тысяч - ну это так, мелочь по сравнению с основной суммой. Видимо, верно говорят: деньги - к деньгам. "Хорошо, что не смотрел тираж, был бы сердечный приступ" - Альберт, вам в лотерею с первой попытки повезло? - Нет, я еще во времена СССР играл в Спортлото. Один раз даже 120 рублей выиграл. Тогда у меня система была: высчитывал, перемножал... А сейчас, в Гослото уже просто играю по системе «с божьей помощью». Беру ручку и говорю про себя - пускай Бог моей рукой зачеркнет эти цифры. И я зачеркивал подряд просто. А число 11 постоянно зачеркивал, потому что этот шар чаще других выходит. - Нервничали потом, у телевизора с купоном в руках? - Что вы, мне повезло - я в тот день не успел посмотреть передачу. Время перепутал. Если бы смотрел, как цифры выходят одна за другой, после четвертой точно был бы сердечный приступ. Это ж какой шок был - я когда узнал, что выиграл, похудел на 6 килограммов! "Мы с женой боялись говорить по мобильнику!" - После первого момента эйфории, наверняка началась паника, да? Все-таки билет еще надо было довезти до Москвы... - О, это был просто детектив. Мы с женой две недели дома не ночевали. Телефон я менял постоянно. Батарейку из мобильника доставал, чтоб не засекли по спутнику. Я даже билет не покупал, так "зайцем" и приехал в Москву - чтоб не вычислили... А билет был зашит в майку. Потом я снял несколько ячеек в разных банках. В одну положил конверт с билетом, а в остальные - "обманки". Чувствовал себя разведчиком на вражеской территории! - Не секрет, что далеко не все люди будут рады вашему выигрышу. Начнут говорить, что это нечестно, все подстроено ради пиара... Завидовать будут. - Ну друзья и родственники будут радоваться. А завистливые люди, они ведь и раньше были. Просто сейчас их будет побольше. Мне тоже очень интересна реакция окружающих. - Ну теперь гаишники начнут тормозить на каждом углу... А еще и мафия может наехать. Придут колпинские и скажут: брат, мы тут, типа, "держим" все держим. Вот ты выиграл 100 миллионов, дай и нам копеечку... Не боитесь? - Ну, и у меня круг друзей не маленький! Отобъемся. Тем более сейчас на меня явно обрушится популярность, а это лучшая защита. Все будет нормально. "В жизни ничего менять не собираюсь" - А смотрели «Миллионера из трущоб»? Там мальчик выиграл кучу денег и это полностью перевернуло его жизнь. Колпино - это, конечно, не трущобы. Но вы-то теперь миллионер. Насколько выигрыш изменил ваши жизненные планы? - Я сам работаю, сам зарабатываю, семью кормлю. Деньги и раньше были. С трудностями, но вроде все получается. Мы до кризиса с друзьями хотели построить сеть магазинов. Но все планы остались планами. Мы уже собрали бумаги на магазин, согласовали... И грянул кризис. Так что лотерея подоспела как раз вовремя. - То есть, большой кусок выигрыша пойдет в бизнес. А как же обязательные атрибуты жизни миллионщика: яхта, футбольный клуб, бриллиантовое колье для жены? - Да ерунда все это. Мы купим себе жилье. Куплю сестре квартиру в Армении. Отцу надо машину хорошую, да и себе возьму новенькую. Дачу куплю, если деньги останутся. Плюс у меня две дочки, надо их поднимать. - Отправите в престижную школу за границу? - Нет, нет, мы в Колпино будем жить. Я кардинально что-то менять не буду. - Ну вам еще придется отдать государству 13% налогов. Жаба не душит? - Нисколько. 87 - тоже немаленькая сумма. А то! Не так давно, в 2001 году семья Мухаметзяновых из Уфы выиграла в лотерею 29 миллионов рублей. И за пять лет умудрились пропить почти всю сумму. А здесь вон какие деньжищи. Их и за пятнадцать лет не пропьешь. Эх, молчи, зависть! Молчи... КП
-
Александр Пупко «...Россия не может оставить Кавказ» К 85-летию битвы за Кавказ Светлой памяти моего деда — Василия Дмитриевича Михайлова, участника 1-й мировой войны на Кавказе, посвящается «Наш материалистический век верит только в значение количества и в силу масс, между тем бывают эпохи в истории, когда народы спасаются подвигом немногих личностей — тех "семи праведников", которых не оказалось в наличности в дни гибели Содома. Так бывает всегда в дни упадка духа народного. Когда они наступают, все кажется мертвым, все погружается в какой-то летаргический сон: тогда биение пульса народного чувствуется уже не в массах, а только в отдельных героических личностях. Но доколе есть такие личности, есть и та живая сила, которая воскрешает народы». Князь Евгений Трубецкой. «Из прошлого. Воспоминания. Из путевых заметок беженца». Томск, 2000 г. В настоящее время, в самом начале ХХI века, абсолютному большинству населения нашей планеты все больше становится понятным, что террористы национальности не имеют. Ни одна нация не может, не должна видеть в них национальных героев, признавать в их деятельности воплощения национальной идеи какого-либо народа. Это относится как к ныне существующим террористам, так и к их историческим теоретическим и практическим предшественникам, которые зачастую с помощью террора осуществляли политику национального гнета, кровавого разбоя и геноцида по отношению к обездоленным и неполноправным национальным меньшинствам, их дискриминации как по этническому, так и по религиозному принципу. Однако, признавая этот факт, человеческое сообщество должно признать справедливость и другого положения: истинный героизм, самопожертвование во имя справедливости, спасения жизни других людей, во имя гуманных целей борьбы с терроризмом, во имя добра, в том числе и во имя освобождения какого-либо народа от национального или религиозного гнета, от уничтожения, носит поистине наднациональный характер. Деятельность людей, во имя этих принципов жертвующих своей жизнью, выходит за рамки их национальной принадлежности и является достоянием всего человечества. И человеческое сообщество должно чтить память тех героев, чья деятельность, чьи поступки направлены на спасение чести, достоинства и самой жизни других людей, и особенно самого существования других народов и наций. История хранит немало примеров подобных подвигов выдающихся личностей прошлых веков, участников давно отшумевших событий, в том числе и героев прошлых войн. В качестве примера можно привести и сопоставить два факта из истории минувшей эпохи — начала ХIХ и ХХ веков, которые разделяет почти сто лет. Печально окончился поход Великой армии под руководством Наполеона на Россию в 1812 году. Как известно, тела воинов этой армии устилали обратную дорогу из Москвы вперемежку с трупами лошадей, брошеными орудиями и другим военным снаряжением. Уже за Березиной, когда от Великой армии осталась кучка голодных, обмороженных и израненных людей, к последнему костру, на котором оставшиеся в живых французские солдаты поджаривали куски павших лошадей, подошел смертельно уставший, обросший бородой человек в порванной и прожженной в нескольких местах шинели. Бережно отложив в сторону заряженное ружье, он протянул к костру обмороженные руки и на вопрос солдат: «Кто он такой?» — ответил: «Я арьергард Великой армии. Я — маршал Ней». Да, это исторический факт. Один из самых блестящих и талантливых маршалов Франции в одиночку замыкал печальное шествие своих солдат и из последних сил охранял их от возможной опасности, безусловно, жертвуя своей жизнью во имя их спасения. Да, это был наш противник. Но мы, профессиональные военные, и сейчас склоняем головы перед мужеством этого человека, перед величием его духа, позволявшего ему в неимоверно тяжелых условиях честно выполнять свой долг командира и спасти жизнь многим из своих солдат. Но во сто крат большую дань уважения мы должны отдать тому герою, который проявил подобную силу духа, подобное самопожертвование, подобное понимание воинского долга по отношению к нашим соотечественникам — русским солдатам, отдававшим свою жизнь во имя помощи другим народам, во имя спасения их от террора, от геноцида. Таких примеров в истории насчитывается немало. Но мы хотим остановиться на одном из них, связанном с именем легендарного руководителя освободительной борьбы угнетенных народов Османской империи — генерала русской армии Андраника Озаняна, вошедшего в мировую историю под боевым псевдонимом Андраник Сасунский. Как известно, 19 июня (1 августа) 1914 года Германия объявила войну России и началась Первая мировая война. А 11 октября 1914 года войну России объявила и Турция, которая никогда не упускала случая использовать тяжелое положение северного соседа для попыток отвоевать у него территории, в частности, на Кавказском направлении. Достаточно вспомнить войну 1854 года, войну 1877 года, а также многочисленные войны предыдущего ХVIII и начала ХIХ века. Да и в ХХ веке, во время Второй мировой войны, только разгром немцев под Сталинградом удержал Турцию от объявления войны Советскому Союзу и вторжения на Кавказ. И это несмотря на то, что многочисленные войны России и Турции всегда оканчивались разгромом последней, вопреки усилиям некоторых ее европейских союзников. Так, на образовавшемся в период Первой мировой войны Кавказском фронте русская армия под командованием генерала Н. И. Воронцова-Дашкова в ряде блестяще проведенных боевых операций нанесла тяжелое поражение турецкой армии и продвинулась в глубь территории противника почти на 250 км. Овладев несколькими важными городами, армия вышла на южный берег озера Ван, а отряд генерала Багратова вплотную подошел к границе Ирана. Однако затем общее положение в России, состояние Германского фронта и произошедшие революции предопределили прекращение наступления на Кавказском фронте и заключение 18 (31) декабря 1917 года перемирия между Советской Россией и Турцией. Начался массовый отход русских войск на территорию России. Историки до сих пор спорят, был ли он в то время оправдан или нет. Но отход состоялся. Бросая военное снаряжение, терпя бедствия от недостатка транспорта, продовольствия, русская армия в условиях бездорожья и холодов двигалась к своим границам. Этим-то и поспешила воспользоваться турецкая армия. Нарушив перемирие, турецкие войска нападали на отступающие русские части, попутно безжалостно истребляя армянское, езидское, ассирийское, греческое и русское мирное население, обвиненное в симпатиях и помощи русским единоверцам. И в арьергарде отступающей русской армии шла дивизия во главе с генерал-майором русской армии Андраником Сасунским, которая, наряду с армянскими добровольцами и представителями других кавказских народов, включала донских, кубанских, терских и сибирских казаков, а также русских солдат и офицеров. Я не знаю, подходил ли он к последнему костру отступающей русской армии, называл ли он себя ее арьергардом. Но от своего деда, Михайлова Василия Дмитриевича, участника этих событий на Кавказе, генерала русской армии, я слышал о том, как армянские добровольческие дружины спасали транспорты с ранеными русскими солдатами, обозы с военным имуществом и оружием. А желающих напасть на «умирающего льва» и поживиться за его счет было немало. Так, 8 января 1918 года мусаватистские круги Азербайджана организовали у станции Шамхор близ Гянджи резню отступающей части русской армии, в которой погибло более пяти тысяч русских солдат и офицеров. Среди тех, кто немедленно и резко осудил произошедшую трагедию и решительным образом принял меры против ее повторения, ведущее место принадлежит генерал-майору русской армии, кавалеру высших русских орденов, герою борьбы за свободу Кавказа против турецкой агрессии Андранику Сасунскому, который заявил: «Гянджийский инцидент наводит на грустные размышления. Нельзя так относится к сынам России, проливавшим на протяжении трех лет борьбы свою кровь в наших горах. Русский народ не должен повернуться спиной к традиционному курсу своих отцов, предать забвению пролитую его отцами и дедами кровь на Кавказских горах… На Кавказе должна быть сохранена общероссийская государственность…» С позиций сегодняшнего дня мы можем оценить, что это слова не просто солдата, болеющего душой за своих товарищей по оружию, не просто командира, заботящегося о безопасности своих подчиненных. Это слова мудрого государственного деятеля, понимающего, что только в союзе с Россией кавказские народы могут приобрести самостоятельность, защиту от любых агрессоров и обрести надежду на равноправное, исторически обусловленное участие в общем движении по пути прогресса и процветания. А ведь если бы не вмешательство Андраника Сасунского, гянджийский инцидент мог бы и повториться. Так, известен факт, когда в марте 1918 года в Тифлисе Закавказским сеймом обсуждался план разоружения русских войск, направлявшихся в Россию. В частности, было принято решение разобрать рельсы на железнодорожном пути из Александрополя в Ани, остановить поезд и разоружить солдат. Более того, учитывая, что русские солдаты, естественно, откажутся добровольно сложить оружие, служившее для них в сложившихся обстоятельствах единственной гарантией безопасности и беспрепятственного проезда в Россию, на этом совещании было предложено разоружить их с применением силы. Что было бы потом с разоруженными солдатами, в чьи руки попало бы оружие, какие жертвы были бы с обеих сторон в данном конфликте— можно только предполагать. Положение спас именно Андраник Сасунский, присутствовавший на этом совещании. Возмущенно ударив кулаком по столу, он сказал: «Как же вы смогли принять столь спешное и пагубное решение, не думая о результатах завтрашнего дня?.. Кто вы такие, чтобы разоружить русского солдата, выдумав какие-то предлоги? Россия оставила нам огромное количество боеприпасов, продовольствие и обмундирование, мы не нуждаемся в нескольких ружьях, мы нуждаемся в их дружбе… наш единственный друг — это Россия. Вы своим пагубным решением хотите отдалить ее от нас!» Кто же такой Андраник Сасунский, какое место он занимает в русской и мировой истории, почему сейчас как никогда актуально знание его подвигов во имя военной славы России, его деятельности по защите мирного населения во имя благополучия и дружбы народов, и прежде всего народов Кавказа и России? Андраник Торосович Озанян родился 25 февраля 1865 года в городе Шапин-Гарахисар, столице области Горного Сасуна Западной (Турецкой) Армении. Эта область всегда служила центром сопротивления армянского и езидского народов турецкому игу. Следует отметить, что Порта никогда не была зоной спокойной жизни для христианских народов — терроризм в Турции всегда существовал как на бытовом уровне, так и принимал характер государственной политики. Так что турецкий геноцид 1915 года по отношению к армянам, грекам, ассирийцам, езидам, приведший к зверской резне миллионов мирного населения, не был случайностью — он веками планомерно подготавливался и осуществлялся всеми структурами власти Оттоманской империи, ее религиозными деятелями и общественными организациями, воспитывался в турецком народе как поощряемая норма жизни. Однако и находящиеся под турецким гнетом христианские народы никогда не нагибали головы — они давали достойный отпор турецким террористам, в частности, используя такой эффективный способ вооруженного сопротивления, как создание гайдукских (фидаинских) отрядов. Как уже подчеркивалось, со второй половины XIX столетия Горный Сасун, остававшийся на протяжении долгих веков турецкой оккупации лишь формально подчиненным османской администрации, превращается в центр сопротивления всех проживавших здесь православных народов кровавой политике турецких поработителей. Безусловно, действия турецких властей, основанные на пантюркизме и религиозной нетерпимости, направленные на уничтожение мирного православного населения — детей, женщин, стариков и осуществляемые как на уровне использования иррегулярных сил — башибузуков («гамидие»), так и с использованием регулярной армии, носили террористический характер. Но следовательно, противодействие, сопротивление этой изуверской политике, осуществляемое как на уровне гайдукских (фидаинских) отрядов, так и на уровне добровольческих дружин, а в дальнейшем национальных регулярных армий, носило, по нынешней терминологии, антитеррористический характер и было полностью оправдано с позиций общечеловеческой морали. Безусловно, герои антиосманского сопротивления, защищавшие свои народы от национальной и религиозной дискриминации, от тотального истребления, с современных позиций являлись участниками антитеррористической борьбы христианских народов Османской империи за свое существование. И естественно, эта борьба не могла не вызвать симпатии, а в дальнейшем и прямую помощь со стороны единоверческой России, сравнительно недавно, в 1877 году, оказавшей подобную помощь истекавшей кровью Болгарии. Вообще, размеры терроризма, осуществляемого в Оттоманской империи против христианского населения, были поразительны по своим масштабам и, на наш взгляд, могут быть сопоставимы только с действиями немецко-фашистских оккупантов на занятых ими территориях. Так, по историческим данным, в период с 1890 по 1923 год турками было уничтожено 6 миллионов армян и греков, 800 тысяч ассирийцев, 700 тысяч сирийцев-христиан, 500 тысяч болгар, 250 тысяч езидов. Более того, терроризм распространился также и на «единоверцев» — курдов, которых также было уничтожено несколько миллионов. Кстати, геноцид курдского населения продолжается и до настоящего времени. И молодой Андраник со всем пылом своей души, со всей болью за угнетенные и борющиеся за свое существование христианские народы Османской империи сам включился в эту борьбу — он был активным воином в гайдукском (фидаинском) отряде знаменитого сасунского командира Сероба — Ахпюра. Однако в дальнейшем он одним из первых приходит к выводу о том, что положить конец грабежу, издевательствам и резне со стороны турок можно только путем создания дружин народного ополчения — армянских, езидских, ассирийских, греческих, то есть путем вооружения этих народов. И организаторы национально-освободительной борьбы угнетенных христианских народов, к которым вскоре по праву стал относиться и Андраник, начали создавать отряды самообороны, командиром одного из которых он был избран самим населением. О деятельности его в этот период слагаются песни и легенды, до сих пор имеющие хождение у народов православного Востока. При всей возможной гиперболизации его подвигов один пример, причем документально подтвержденный, настолько выходит за рамки обычных представлений о героизме, о возможностях сопротивления и победы в условиях абсолютного количественного превосходства врагов, что его просто необходимо привести в данной статье. Это абсолютно достоверный факт защиты Андраником во главе отряда из 37 бойцов, сасунских горцев, монастыря Святых Апостолов от 6 тысяч солдат Порты зимой 1901 года. Безусловно, история войн знает мало примеров подобного соотношения борющихся сил с таким победоносным исходом. На память приходит знаменитое Фермопильское сражение трехсот гоплитов спартанского царя Леонида против 300 тысяч воинов персидского царя Ксеркса, закончившееся гибелью греков. Но это было более двух тысяч лет тому назад, в Элладе и в эпоху холодного оружия. А здесь подвиг был совершен немногим более ста лет назад в регионе, который является исторической частью Кавказа вблизи нынешних границ России. Это вооруженное сопротивление туркам в одном из самых почитаемых монастырей православной церкви, безусловно, носит эпический характер и достойно войти в историю православного мира, в историю цивилизации. Беспрецедентный характер этого сражения подчеркивается еще и тем, что в дело вмешался сам турецкий султан Абдул-Гамид, который лично отдал из Стамбула приказ: «…ужесточить осаду и вынудить к капитуляции». Нетрудно представить, что могла означать для Андраника и его бойцов сдача в плен. Однако, завернувшись в белые погребальные саваны, чтобы не быть заметными на снегу, после месячных боев андраниковцы с минимальными потерями выскользнули из окружения, уничтожив большое количество солдат противника. Безусловно, этот боевой эпизод является одной из славных страниц не только в истории освободительной борьбы православных народов против турецких поработителей, но и всей мировой военной истории и достоин того, чтобы о нем знали, его изучали и использовали его опыт в антитеррористической борьбе. В дальнейшем Андраник, став общепризнанным вождем борьбы против турецкого терроризма, возглавил победоносное восстание в родной области — Горном Сасуне, после чего по просьбе своих бойцов и всего народа и принял боевой псевдоним — Сасунский, созвучный с именем легендарного героя минувших веков — Давида Сасунского. Это ставило его в глазах народа в один ряд с этой легендарной личностью, и под этим именем Андраник Сасунский вошел в мировую историю. Следующим этапом его боевой деятельности является участие во главе армянского добровольческого отряда, в который также входили представители других народов, в Первой Балканской войне 1912 года, которую вели Сербия, Греция, Болгария и Черногория против векового османского ига. Из событий этой войны, также полных поистине героических деяний, стоит отметить носящую эпический характер битву в декабре 1912 года у села Мергалы на берегу реки Марицы в Македонии, где под натиском отряда андраниковцев численностью в 260 человек сдалась турецкая армия в 10 тысяч солдат во главе с Явер-пашой. За этот подвиг Андраник Сасунский получил от болгарского правительства высшую государственную награду — «Золотой Крест за воинскую отвагу». Как известно, в результате полного поражения Турции в этой войне, в которой с блеском проявился его полководческий талант и в которую внесла свой героический вклад возглавляемая им добровольческая дружина, балканские христианские народы полностью освободились от многовекового османского ига. Мир никогда не должен забывать того, что народы Сербии, Черногории, Болгарии и Греции получили окончательную самостоятельность не в последнюю очередь благодаря подвигам Андраника Сасунского и его воинов. Подводя итоги его участия в этой войне, русская газета «Киевская мысль» в 1913 году писала, что это имя хорошо известно «в Турции, в Закавказье и даже в Европе. Андраник в те времена был народным героем, бойцом свободы, неким воплощением протеста против турецких притеснений». Однако поистине мировое значение имя Андраника Сасунского прежде всего приобретает в период Первой мировой войны, в условиях войны на Кавказе, где в причудливой форме переплелись экономические и геополитические интересы как ведущих мировых держав — России, Германии, Англии и даже Америки, так и интересы государств этого региона — Турции, Армении, Грузии, Азербайджана. Как уже упоминалось, Балканские государства, получившие в результате Первой Балканской войны независимость от Турции, высоко оценили вклад Андраника Сасунского в общее дело борьбы с турецким игом. В частности, правительство Болгарии наградило его «Золотым Крестом за храбрость», а также серебряными крестами III и IV степени, присвоило офицерское звание, предоставило болгарское гражданство и назначило пенсию. Это было уже европейским признанием. Однако потенциально Болгария, к сожалению, тяготела к дружбе с Германией, что в дальнейшем и привело ее к вступлению в Первую мировую войну против России. Этого было достаточно для Андраника Сасунского, никогда, ни за какие блага не предававшего свой главный принцип — дружбу с Россией, любовь к русскому народу. А мировое признание его ожидало на родине. Поэтому с последним русским кораблем он покидает Болгарию и уже 12 августа 1914 года прибывает на Кавказ, где в Тифлисе встречается с высшим командным составом русской Кавказской армии. Его принимают как главного специалиста по ведению войны с Турцией, как знатока Кавказского театра военных действий. На этом совещании он излагает свою концепцию ведения грядущей войны, и в частности, определяет цели и задачи добровольческих дружин, к формированию которых он незамедлительно приступает. Следует отметить, что советы, данные командованию русской Кавказской армии этим несгибаемым, опытным борцом против турецкой экспансии на Кавказе, виртуозно владеющим способами ведения войны в горных условиях, во многом и помогли нанести турецкой армии сокрушительные удары. А созданные им многонациональные по составу добровольческие отряды проявили себя как могучая, эффективная сила — они знали театр военных действий, знали язык врага, его психологию, методы ведения им боевых действий, его нравы и обычаи и всегда были в авангарде наступающих русских войск на самых опасных и важных направлениях. В этой статье мы не сможем подробно остановиться на всех этапах и перипетиях Первой мировой войны на Кавказе, на всех примерах поистине героической эпопеи боевых действий Андраника Сасунского и его воинов. Но есть исторические факты, которые не упомянуть невозможно — настолько они важны для понимания истории как того времени, так и оценки событий сегодняшнего дня. В целом, с нашей точки зрения, ход Кавказской войны в этот период можно условно разбить на два этапа: первый — от начала войны и до отступления русской армии в 1918 году и второй — до окончания Первой мировой войны и после, вплоть до 1920 года. Как известно, война России с Турцией началась 11 октября 1914 года. В Манифесте, которым Россия объявляла войну Турции, подчеркивалось, что безрассудное решение Турции вступить в войну будет иметь для нее роковое значение, откроет перед Россией путь к решению проблем, унаследованных с давних времен. К сожалению, как можем сейчас констатировать, не все эти проблемы были решены, и прежде всего не по вине храброго русского солдата и его союзников, почетное место среди которых занимает Андраник Сасунский. Сошлемся на современников. Так, генерал Чернозубов, командующий группой русских войск в Северном Азербайджане и Ване, так характеризует его боевые подвиги: «Успехи русской армии у Буруш-Хорана, Ханика, Котура, Сарая, Молла-Асана, Белянджика и Гарандели в значительной мере связаны с боевыми действиями Первой армянской дружины, во главе которой находился Андраник— храбрый, опытный начальник, прекрасно понимавший обстановку боя, твердый и настойчивый, он был всегда во главе дружины и пользовался большим авторитетом среди добровольцев. Дружина под начальством Андраника доблестно участвовала в бою под Муканджиком (Дильманом) 15—18 апреля, в котором Кавказ был спасен от вражеского нашествия». В частности, за дильманские бои дружина андраниковцев была удостоена 20 крестами и 20 медалями, а сам он получил высочайшую русскую военную награду — почетное «Золотое оружие». Кроме того, за личное мужество в период Кавказской кампании русским командованием он был награжден Георгиевской медалью IVстепени, Георгиевским крестом III и IV степени, орденом Св. Станислава II степени с мечами и Св. Владимира IV степени. К этому времени его авторитет среди соратников был настолько высок, что в сентябре 1915 года Армянское национальное бюро в Тифлисе обратилось к наместнику Кавказа — великому князю Николаю Николаевичу с просьбой о признании Андраника Сасунского главным начальником всех армянских добровольческих дружин. В свою очередь, его деятельность как полководца была высоко оценена командованием Кавказской армии, присвоившим ему звание генерал-майора. Так, 16 января 1918 года временно исполняющий обязанности начальника штаба Кавказского фронта генерал-майор Лебединский сообщал главнокомандующему Левандовскому, что, по его мнению, Андраник Сасунский, назначенный командиром Западноармянской дивизии, достоин присвоения звания генерала. «Мера эта признается необходимой, — пишет он, — для пользы дела и службы, дабы более поднять авторитет национального героя Андраника Озаняна в глазах солдат и офицеров…» И Андраник Сасунский своими дальнейшими ратными подвигами, особенно на втором этапе Кавказской войны, доказал, что он, как верный друг и союзник России, как талантливый полководец и стратег, достоин присвоения звания русского генерала и награждения высокими русскими орденами. Но немного предыстории. Как уже упоминалось, в 1917 году в результате перемирия между Советской Россией и Турцией начался массовый отход русских войск с Кавказа — Кавказский фронт рухнул. Этим воспользовалась Турция и, нарушив перемирие, 30 января 1918 года двинула в наступление 80-тысячную армию. Турки практически без боя возвращали себе потерянные территории, готовясь захватить весь Кавказ, а затем, используя идею «помощи братьям по вере» и пантюркизма, выйти в Крым, Поволжье, Среднюю Азию. При этом имелись в виду и интересы ее союзника — Германии, которая стремилась сама захватить на Кавказе плацдарм для последующего похода в Афганистан, Ирак, Месопотамию, Аравию, а в дальнейшем и в Индию. Так, как известно, 27 апреля 1918 года в Константинополе было заключено секретное соглашение о разделе сфер влияния на Южном Кавказе, по которому Турции, в частности, отводилась территория Грузии и часть Армении, а оставшаяся часть доставалась Германии. И вот осуществлению этих грандиозных агрессивных планов стран «Оси» в этот период противостоял арьергард отступавшей русской армии во главе с генерал-майором Андраником Сасунским, состоявший из одной дивизии численностью около 4 тысяч человек. Как уже отмечалось, состав дивизии был интернациональным — русские солдаты и офицеры, и прежде всего донские, кубанские, терские и сибирские казаки, армяне, греки, ассирийцы, езиды. Особенно необходимо отметить исключительно важную роль в выполнении боевых задач езидского священника восточно-православной церкви Джангира-Аги, который, считаясь правой рукой Андраника Сасунского, с оружием в руках отстаивал право на существование как своего народа, так и других народов, уничтожавшихся турецкими агрессорами. Дивизия постоянно пополнялась новыми добровольцами, желающими воевать под командованием победоносного генерала. Этому способствовала позиция командования русской Кавказской армии, видевшего в дивизии единственную на тот момент реальную силу, способную противостоять турецкой экспансии. Так, 11 февраля 1918 года приказом главнокомандующего Кавказской армией в дивизию назначаются полковники русской армии Енушевский и Горновский, сразу признавшие авторитет командира дивизии и активно помогавшие ему в решении боевых задач. Особое место в дивизии занимала Сибирская рота во главе с поручиком Колмаковым, впоследствии ставшим близким другом и сподвижником Андраника Сасунского и написавшим интересные воспоминания об этом периоде, вышедшие под названием «Историческая армянская рота (Из воспоминаний поручика Колмакова)». Следует отметить, что политика дружбы народов, политика подлинного интернационализма проводилась Андраником Сасунским не только в пределах его многонациональной дивизии, но и по отношению к мирному, в частности мусульманскому, населению. Так, в период самых ожесточенных боев, в феврале 1918 года в Карсе, он отдает приказ, в котором говорится: «…требую от армян: чтобы никто не посмел бы поднять руку на мусульманина, требую того же от мусульман — в отношении армян». Особенно трепетно в этот период, как, впрочем, и всегда, он относился к дружбе с русскими солдатами. Так, в день прибытия его в город Сарикамыш там готовился к отбытию в Россию последний эшелон русских солдат с оружием. Андраник Сасунский, как уже упоминалось, строго осуждавший факты нападения на русские войска и их разоружение, в этот раз сам лично участвовал в эвакуации этого эшелона и обеспечении безопасного его перемещения по территории, контролируемой андраниковской дивизией. В специальном приказе личному составу он подчеркивал, «что и они сами могли удостоиться такой же участи во время прохождения через турецкую территорию, что и их товарищи по оружию». Вообще, по нашему твердому убеждению, подвиги Андраника Сасунского и его дивизии — самое яркое событие в судьбоносном для Кавказа 1918 году и, безусловно, требуют более подробного осмысления прежде всего с позиций современности; тем более что в настоящем, 2003 году исполняется 85 лет этой великой исторической битвы за Кавказ. Остановимся на нескольких наиболее важных и ярких, с нашей точки зрения, фактах этого периода. Так, в развернувшейся 25–28 мая 1918 года Лорийской битве на Дилижанском направлении дивизия Андраника Сасунского сорвала генеральное наступление турецких войск под началом главнокомандующего турецкой Кавказской армией генерал-лейтенанта Вехиб-паши, пытавшихся через Дилижан выйти к Баку и продвинуться к Дагестану и Чечне. Именно в силу данных обстоятельств Вехиб-паша и не смог перебросить основную часть своих войск на поддержку турецких подразделений в самый разгар Сардарапатской битвы 25–27 мая 1918 года, где свежесозданные армянские воинские части совместно с народным ополчением остановили продвижение превосходящих сил противника на Ереванском направлении и отбросили их назад, предотвратив неминуемую массовую гибель мирного населения. В связи со сказанным очень важно привести следующее историческое свидетельство. Так, орган партии «Дашнакцутюн» газета «Оризон» в августе 1918 года подчеркивала, что «в самую горячую пору Сардарапатского сражения Андраник взял на себя главный удар турецкой армии, защищая участок железной дороги Караклис — Тифлис, откуда турки намеревались двинуться на Баку». Таким образом, судьба всего Кавказского фронта на данном этапе решалась на Дилижанском направлении, где важнейшие боевые задачи выполняла андраниковская дивизия под его личным командованием. Одновременно, отвлекая на себя значительные силы турецкой армии у селения Баш-Апаран, андраниковская конница под предводительством уже упоминавшегося командира Джангира-Аги совместно с дашнакской армией наголову разбила турецкие войска во главе с генералом Карабекир-пашой. Эпический характер носят и бои 16–18 мая 1918 года у поселка Воронцовка, где дивизия Андраника Сасунского в тяжелейших боях дала отпор в двадцать раз превосходящим ее силам турецкой армии и тем самым не только спасла жизни сотен тысяч армянских, греческих, езидских и ассирийских беженцев, но и предотвратила захват Тифлиса. Но безусловно, венцом полководческой деятельности Андраника Сасунского в этот период является так называемая Хойская операция — поход на город Хой в Северном Иране в июне 1918 года. Как известно, в 1918 году турецкие войска оккупировали северные районы Ирана под предлогом помощи единоверцам, хотя помощи, собственно говоря, никто у них и не просил. И сразу турки начали бесчинствовать в традиционной для них манере: осуществляя политику пантюркизма, они вырезали все нетюркское население, поддержавшее в свое время приход сюда русских войск, распространив политику этнического геноцида и на персидский народ. Под угрозой полного уничтожения езиды, армяне и ассирийцы, после ухода русских войск оставшиеся без военной поддержки на территории Персии, восстали. Под руководством своего прославленного ассирийского полководца Петроса-аги они были осаждены превосходящими силами турок в городе Урмия (Северный Иран). Интернационалист Андраник Сасунский в целях помощи восставшим задумал и блестяще осуществил боевую операцию — он зашел в тыл туркам и, разбив их превосходящие силы, освободил иранский город Хой 23 июня 1918 года. Это ослабило давление турок на Урмию, что и дало возможность Петросу-Аге после полугода героического сопротивления, в условиях отсутствия боеприпасов и продовольствия, летом 1918 года оставить город и пробиваться к позициям англичан в Месопотамии, уводя с собой сотни тысяч беженцев. Особо следует отметить, что, осуществляя эту боевую операцию, Андраник Сасунский обратился к персидскому народу с разъяснениями, что его боевые действия ни в коей мере не угрожают независимости и территориальной целостности Ирана и направлены исключительно против общего врага — Турции. И действительно, никаких инцидентов с местным населением не было — мужественный образ Андраника Сасунского, с пышными усами, на великолепном боевом коне, напоминал персам их былинного героя Рустама на верном Рахше. И после выполнения своего блестящего похода, когда наголову были разбиты численно превосходившие силы турок и сорвано готовившееся ими наступление с юго-востока на Кавказ, андраниковцы покинули пределы Ирана и двинулись на защиту Зангезура. Не имея возможности подробно остановиться на характере этой блестящей боевой операции, можно лишь отметить, что в ходе Зангезурской битвы Андранику Сасунскому противостояла большая часть Кавказской турецкой армии. И только ожесточенное сопротивление войск под его командованием не позволило туркам в 1918 году оккупировать весь Кавказ и выйти в Поволжский регион России, а также в Центральную Азию. Как известно, в июле 1918 года Турция подписала с Грузией и Арменией унизительный, кабальный Батумский договор, по которому, в частности, от Восточной (Русской) Армении отходили Карская область, Сурмалинский и часть Александропольского, Шарурского, Эчмиадзинского уездов, а также часть Эриванской губернии. Андраник Сасунский не только не признал этот договор, но и в гневе написал одному из его сторонников: «Вы собственной рукой вновь накладываете на себя цепи шестисотлетнего рабства». Верный дружбе с Россией, он видел только в ней надежный путь освобождения кавказских народов от турецкого ига. Эту дружбу он не предал даже после изменения социального строя в России и установления Советской власти. Как известно, именно Советская Россия издала декрет «О Турецкой Армении», в котором впервые было предоставлено армянскому народу право на самоопределение. И в соответствии со своими основными принципами, исходя из анализа военно-политической обстановки, Андраник Сасунский старался поддержать Бакинскую Коммуну как единственный в то время островок России на Кавказе. В радиограмме 14 июня 1918 года, направленной С. Г. Шаумяну, чрезвычайному комиссару по делам Кавказа Советской России, он уведомляет: «Безусловно подчиняюсь Брест-Литовскому договору. Нахичеванский уезд, где в настоящее время нахожусь и я со своим отрядом, объявил себя неотъемлемой частью Российской Республики. Прошу объявить, кому следует, что я со своим отрядом с сегодняшнего дня нахожусь в распоряжении и подчинении Центрального Российского правительства. Вступлению турецких войск в пределы Нахичеванского уезда постараюсь воспрепятствовать. Жду ответа и распоряжения. Генерал-майор Андраник». Впоследствии, комментируя это историческое решение, он писал: «…в эти дни я почувствовал, что единственно только русская сила, дружественные отношения с русскими могли смягчить всеобъемлющую боль моего народа. Исходя именно из этой перспективы, я и направил эту телеграмму, сообщив московскому правительству, что я и моя армия, мой народ искренне преданы русским». Выполнив свой план урегулирования положения в Нахичевани, он намерен был направиться в Баку для оказания помощи Коммуне, однако не успел. Как известно, 15 сентября турки ворвались в Баку. В начале октября турецкие войска вторглись и в Дагестан, заняв 6 октября Дербент, а 23октября — Темир-Хан-Шуру. Сразу же начались грабежи. Все железные дороги, вся нефтяная промышленность, весь Каспийский торговый флот и нефтепровод Баку—Батуми передавались Турции на пять лет. Продолжавшему же сопротивление Андранику Сасунскому турецкий генерал Нури-паша прислал письмо такого содержания: «Мы, турки, победители всего мира. Баку взят, сдавайтесь и вы. Андранику, его солдатам дарую жизнь, если сдадите оружие; если не сдадите, я разнесу весь Зангезур, а вас предам позорной казни как не подчинившихся турецкой власти». И получил гордый ответ: «Я двадцать лет дерусь с вашим правительством, и не было еще случая, чтобы я сдавал оружие, и сейчас не сдам; идите на нас, готов встретить вас. Померяемся силами». Результат битвы был предсказуем — 44 километра бежали войска Нури-паши, бросая оружие и технику, хотя и во много раз превосходили силы андраниковцев. 1 ноября 1918 года Андраник Сасунский узнал о капитуляции Турции и взятии союзниками Стамбула. Но боевые действия продолжались — пользуясь попустительством союзников, турки не оставляли захваченный ими Карабах. Андраниковцы готовились к наступлению на Шушу с целью окончательного разгрома турок. Однако в дело вмешались новые интервенты — страны Антанты, которые в свою очередь попытались отторгнуть Кавказ от России и превратить его в плацдарм для последующего проникновения в Среднюю Азию и на Ближний Восток. Проводилась эта оккупация в соответствии с англо-французским соглашением, согласно которому территория к юго-востоку от Черного моря становилась зоной действия Великобритании. В соответствии с этим соглашением 17 ноября 1918 года английский генерал Томсон объявляет себя генерал-губернатором города Баку. А 2 декабря Андраник Сасунский получил от него телеграмму с требованием приостановить наступление на турок и полностью прекратить боевые действия. И поскольку генерал Томсон был главнокомандующим союзной армией на Кавказе, то Андраник Сасунский, желая видеть в нем честного союзника по борьбе с Турцией, подчинился, хотя турецким войскам грозил полный разгром. В дальнейшем же ему пришлось узнать истинные цели английской политики на Кавказе и полностью оценить вероломную и коварную позицию союзников, в частности, их попустительство турецким агрессорам по препятствию возвращения армянских беженцев домой, к родным очагам. Решительно возражая против такого вероломства, он заявил, что союзники, «опасаясь решительным образом обуздать карских турок и нахичеванских ханов, препятствуют возвращению армян в свою страну, мотивируя это какими-то турецкими волнениями, и заставляют их оставаться на маленьком клочке земли, где из-за голода, холода и болезней они обречены на смерть». Встретившись в Эчмиадзине с главнокомандующим английскими войсками на Востоке генералом Милем, Андраник Сасунский, указывая на многочисленных беженцев, страдающих от голода и холода по вине англичан, сказал: «Они, генерал, — ваши союзники». Между тем Англия усиливала свое присутствие на Кавказе. 23 декабря 1918 года английский десант высадился в Батуми, а 25 декабря — в Тифлисе. Уже к январю 1919 года на Южном Кавказе находилось до 30 тысяч английских солдат. Армянское правительство, под влиянием англичан вставшее на путь переговоров по заключению унизительного, кабального мира с Турцией, больше не нуждалось ни в доблестном генерале Андранике Сасунском, ни в его победоносных воинах. В этих условиях он созвал военный совет, на котором было принято решение о роспуске отряда и сдаче оружия католикосу в Эчмиадзине. 26апреля 1919 года отряд был распущен, а его победоносный командир навсегда покинул Родину. Перед отъездом он еще раз изложил свой главный жизненный принцип, свое кредо, свою незыблемую позицию, которая в его устах приобретала характер философской концепции и носила пророческий характер: «Для России Кавказ имеет большое стратегическое и экономическое значение. К сожалению, вам кажется, что истерзанная внутренними противоречиями Россия мертва и не придет в себя даже через 50 лет <…> спустя всего несколько лет мы почувствуем силу России. Она станет более могущественным и более сильным государством, чем была до 1914 года. Мои последние требования и просьба к вам <…> обращайтесь к русским по-хорошему, остерегайтесь проявления какой-либо враждебности к ним на окруженном врагами этом участке земли». Как актуальны эти мудрые мысли великого друга России, как необходимо учитывать их некоторым близоруким политикам на Кавказе сегодня! Что же касается западных союзников, в частности англичан и американцев, стремившихся в Закавказье, то, осудив их двуличную политику, он сказал: «…они долго не могут оставаться здесь и обязательно уйдут отсюда…» И действительно, в августе 1919 года английские солдаты, не желавшие участвовать в оккупации, вынудили свое правительство начать вывод войск из Южного Кавказа. Однако уход англичан в свою очередь активизировал деятельность их американских союзников. Так, 2 января 1919 года американский полковник Гаскаль был назначен верховным комиссаром союзников в Армении. В сентябре 1919 года группа американских экспертов во главе с генералом Хаббардом подготовила союзному командованию доклад о путях наведения «порядка» на Южном Кавказе, смысл которого сводился к тому, что необходимо предоставление США мандата на управление всем Закавказьем и Западной Арменией. Но прав был великий друг России победоносный полководец Андраник Сасунский — они долго не смогли оставаться на Кавказе. В результате помощи Советской России народам Южного Кавказа и англичане, и американцы в 1920 году покинули Кавказ. И можно утверждать, что и современные их попытки вернуться также обречены на провал. Но всего этого Андраник Сасунский уже не видел. В первой половине мая 1919 года он с группой своих воинов отплыл из Батума в Европу и больше на Кавказ не возвращался. Глубокий анализ произошедших на Кавказе событий, свидетелем и активным участником которых он был, позволили ему в 1926 году подвести итоги своей боевой деятельности следующим образом: «Трагедия армянского народа явилась результатом преступных происков великих держав, и наши национальные революционеры оказались слепым орудием в их руках… Осуждая все ошибки прошлого, я опускаю свой меч. Отныне местом ему может служить музей истории». Через полгода Андраника Сасунского не стало. Умер он 31 августа 1927 года в городе Фрезно в США. В январе 1928 года его останки были перевезены в Париж и при большом стечении народа, среди которых были представители многих национальностей, и прежде всего представители армянской и русской общин, были похоронены на кладбище Пер-Лашез, рядом с могилами генералов и офицеров русской армии, с некоторыми из которых он был знаком при жизни. В феврале 2000 года он был перезахоронен в Ереване. Его могила в настоящее время является местом паломничества борцов за национальное самоопределение угнетенных наций всех стран и континентов. Это и есть мировое признание его роли в истории. Памятник великому горцу генералу Андранику Сасунскому, на наш взгляд, должен представлять собой стремительный взлет всадника на белом коне — таким он был при жизни. Память его в течение веков будут чтить те, кому дорог завещанный им потомкам призыв к постоянному упрочению дружбы народов Кавказа с великим русским народом. Да, в конце прошлого и начале этого века Кавказ и близкие к нему регионы испытали большие потрясения, последствия которых ощущаются и в настоящее время. Развал Советского Союза и появление в его границах ряда самостоятельных государств вызвали среди правящих элит некоторых стран ближнего зарубежья стремление обособиться от России, забыть тот вклад, который внес русский народ в развитие экономики, культуры, науки этих регионов. Антироссийские настроения сделались модными, превратились своего рода в политическую плату за вступление в различные организации Европы, и прежде всего в организацию НАТО. Особенно это касается некоторых стран региона Кавказа, которые уже однажды проходили этот путь, но, похоже, так ничему и не научились. Пророчески звучит сегодня высказывание пламенного борца за свободу народов Кавказа, великого друга России Андраника Сасунского в адрес тех политических деятелей, которые, как и сегодня, в то время заявляли: «Русские ушли и больше не вернутся». Он, в частности, писал: «На протяжении многих дней, недель и месяцев я часто задавался вопросом: действительно ли русские ушли навсегда, вправду ли, что ушли и не вернутся и что Кавказ останется предоставленным собственной судьбе… и когда я снова задаю эти вопросы, не могу поверить, что русские умерли для нас, ушли навсегда. Начиная с 1827 и до 1917 года русское государство пожертвовало 700 тысячами своих воинов, кровью которых окрашен каждый камень, да и вся земля Кавказа… Мысленно перебирая все это, я все больше убеждаюсь в том, что Россия не может оставить Кавказ». В заключение важно отметить, что в настоящее время в русской философской и политологической мысли делается попытка глубокого анализа исторических событий, где прошлое народов в регионах, связанных с интересами и влиянием России, анализируется через восприятие настоящего их отношения к русскому народу и, как следствие, будущего развития этих отношений. Многими исследователями делается вывод, что серьезной альтернативы политике дружбы с великим русским народом, с обновленной Россией у республик бывшего СССР, и прежде всего Кавказского региона, нет и быть не может. Именно такая постановка проблемы, такая тенденция исторического развития не может не быть связана с личностью Андраника Сасунского, который является идеологом русской ориентации на Кавказе и в какой-то степени на всем постсоветском пространстве и ближневосточно-балканском направлении. С этой точки зрения закономерно появление в современной научной литературе понятия «андраникизм» как воплощения нерушимой дружбы всех народов нашей страны, и прежде всего Кавказа, с великим русским народом, способствующей преодолению всех трудностей сегодняшнего этапа исторического развития. Так, в газете «Красная звезда» от 6 июля 2002 года пишется: «Показ андраникизма как альтернативы ваххабизму и мюридизму, вне всякого сомнения, представляет собой новый подход в создании целостной картины Кавказа как в его прошлом и настоящем, так и в будущем». Таким образом, термин «андраникизм» приобретает значение идеологического символа, символа общности судьбы Кавказа и России, символа, освященного славным именем генерала русской армии, несгибаемого борца за свободу народов Кавказа против турецкого деспотизма, великого друга России Андраника Сасунского, который имел все основания сказать о себе: «Я не националист. Я признаю только одну нацию — нацию угнетенных. Там, где угнетенные, там и мой меч». ----------------------------------------------------------- Александр Борисович Пупко, полковник в отставке, доктор философских наук, профессор кафедры философии Военно-политической академии им. В. И. Ленина (1966–1989 гг.). Советник Главы Временного Государственного комитета по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта (1993–1997 гг.), участник Афганской войны (1985–1987 гг.).
-
Арсен МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВ МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО Процессы, последовавшие после событий августа 2008 года в Южной Осетии и Грузии, в регионе Южного Кавказа и, шире, Малой Азии, породили у широкого круга наблюдателей немало надежд и ожиданий относительно будущего устройства региона. Однако при более тщательном анализе они оказываются если и не призрачными, то, во всяком случае, весьма далекими от радужности. К таким ожиданиям можно отнести и предполагаемые рядом политологов кардинальные изменения в лучшую сторону в армяно-турецких отношениях. Как нам представляется, подобные ожидания себя не оправдали, да и не могли оправдаться с самого начала. Попробуем рассмотреть современные аспекты, предопределяющие неизменность самой сути отношения Анкары к современной Республике Армения и Армянскому вопросу, который хотя и имеет давнюю историю, но и сегодня является более чем актуальным для Турецкой Республики. Два основных вопроса являются определяющими в вышеназванном отношении. Это, во-первых, геноцид армян в Турции, последовательно осуществлявшийся Османской империи и кемалистской Турцией с середины 1890-х гг. до 1923 года (а отнюдь не только в период Первой мировой войны, на что «настраивает» часто упоминающееся словосочетание «геноцид армян 1915 года в Османской империи»), до сих пор так и не повлекший за собой никаких реальных политико-правовых последствий для современной Турецкой Республики – наследницы Османской империи и продолжательницы дела Турции кемалистской. Во-вторых, это карабахская проблема, также являющаяся частью Армянского вопроса. Проблему эту многие исследователи и политологи, в том числе и в России, склонны считать не связанной с предыдущим вопросом, исключать из ряда проблем, порожденным развитием Армянского вопроса в начале XX века. Однако так склонны думать где угодно, но лишь не в самой Анкаре. Не случайно, еще в 1988 году турецкая газета газета «Джумхуриет» писала, что если Нагорный Карабах будет присоединен к Армянской ССР, то «в качестве следующего шага армяне выдвинут территориальные требования к Турции»1. Позиция официальной Анкары в отношении Республики Армения на протяжении всего постоветского периода и строилась прежде всего именно на этих двух вопросах. Не случайно, условия, которые Анкары выдвигала и продолжает де-факто выдвигать и сегодня в качестве предварительных для установления дипломатических отношений между Турией и Арменией, относятся именно к этим вопросам. А именно: отказ официального Еревана от политики, направленной на расширение процесса международно-правового признания геноцида армян 1915-1923 гг., и согласие на урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно на условиях, выдвигаемых сателлитом Турции Азербайджаном. Как показала практика, никаких изменений в позиции Анкары в этих двух вопросах после августа 2008 года не произошло. Несмотря на раздающиеся оптимистические заявления, - в основном из столиц третьих стран, - официальные турецкие лица не устают повторять и вновь заявлять о неизменности позиций Анкары по перечисленным вопросам. Турецкие СМИ также периодически озвучивают обнадеживающе оптимистические высказывания и ожидания второстепенных политиков и общественных деятелей в отношении скорого потепления турецко-армянских отношений (включая и «вбросы» откровенной дезинформации относительно якобы согласия властей РА на создание комиссии «для изучения событий 1915 года»). Однако эти мало что значащие с точки зрения реальной политики заявления являются, на наш взгляд, не чем иным, как попыткой камуфляжа остающихся неизменными целей и задач Анкары в отношении как Республики Армения, так и региона Южного Кавказа в целом. Армянский политолог и историк Армен Айвазян, в чьих работах раскрываются механизмы и методы турецких фальсификаций геноцида армян и информационно-пропагандистской войны, считает, что Турция по-прежнему проводит враждебную, агрессивную политику в отношении Армении на десятках уровней и подуровней, уточнив, в частности, уровни терминологии, международного права, экономики. «Турция действует против нас на всех фронтах - это факт, который почти полностью игнорируется во внешней политике Армении, нацеленной на решение только двух задач: установление дипломатических отношений с Турцией и снятие турецкой блокады, - заявил Айвазян. - Я не вижу сдвигов в армяно-турецких отношениях. Продолжается информационная война, антиармянская пропаганда по всем возможным каналам»2. Айвазян особо отмечает тот факт, что в одном из своих заявлений премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сказал, что позиция Турции по карабахскому вопросу не изменилась и полностью идентична азербайджанской, а также о том, что Турция с Азербайджаном совместно разработали данную программу и продолжают следовать ей. «Что еще надо, чтобы назвать Турцию вражеским государством?», - заявил он, добавив, что «решение карабахского вопроса не будет найдено за столом переговоров»3. Подтверждением последнего заявления является и реальная цель выдвинутой Анкарой после августа 2008-го «Платформы безопасности и стабильности» на Южном Кавказе. Эта «новая концепция» подтвердила, что позиции Анкары и Баку по азербайджано-карабахскому (нагорно-карабахскому, по терминологии ОБСЕ) конфликту тождественны, и заключается сегодня в том, чтобы сломать имеющийся формат переговоров и придать в них больший вес Турции. Так, президент Турции Абдулла Гюль, выступая 24 сентября на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о предлагаемой Анкарой Платформе безопасности и стабильности на Кавказе, коснувшись и возможностей урегулирования карабахского конфликта. «Гюль отметил результативность переговоров в Азербайджане и Армении, заявив, что карабахский конфликт может быть разрешен только в рамках территориальной целостности Азербайджана»4. Буквально в тот же день из Баку последовало сообщение о том, что официальный Баку хочет, чтобы Турция, как посредник, более близко участвовала в решении нагорно-карабахского конфликта. «Азербайджан хотел бы, чтобы Турция стала сопредседателем Минской группы ОБСЕ», - сказал бакинскому информагентству «Trend News» заведующий отделом международных отношений Исполнительного аппарата президента Азербайджана Новруз Мамедов5. 29 сентября 2008 года после трехсторонней встречи глав министерств иностранных дел Армении, Турции и Азербайджана, состоявшейся в Нью-Йорке в рамках работы Генассамблеи ООН, президент Республики Армения Серж Саргсян откровенно заявил: «Особенно сильных ожиданий от этой встречи не было. Было проведено несколько подобных встреч, но какого-то конкретного результата нет»6. Очевидно, что подобная «чехарда» отнюдь не способствует успешному продолжению переговорного процесса, а лишь тормозит его. И здесь мы сталкиваемся с вопросом: а насколько вообще официальная Анкара заинтересована в урегулировании карабахского конфликта, - не важно даже, на какой основе? Ведь после урегулирования у Анкары не останется никакого формального повода продолжать блокаду Республики Армения, осуществляемую Турцией с 1993 года и, в соответствии с нормами международного права, являющейся одной из форм агрессии. Равно как и другие враждебные действия, включая государственную пропаганду, направленную на подрыв позиций и искажение имиджа РА на международном уровне. Не случайно, ряд армянских экспертов полагают, что Турция не может позволить себе «отказаться от Нагорного Карабаха именно как от фактора регионального и международного давления на армянскую государственность. Вектор окончательного изживания армянского политического и, конечно, демографического элемента из региона был и остается в повестке пантуранской идеологии, и в этом отношении лучшую «кандидатуру», чем Арцах7, трудно было придумать. Это именно тот фактор, который не только «аргументирует» обоснованность блокады армянских путей, но и вбирает в себя целый спектр вопросов, полностью «разоблачающих» (в их понимании) историческую необоснованность всяких армянских притязаний»8. Анкара оказывала в ходе вооруженного конфликта и оказывает сегодня Баку военно-техническую помощь; вела обучение, в том числе и на своей территории, многих тысяч азербайджанских солдат и офицеров, которые сразу после этого принимали участие в боевых действиях против Нагорного Карабаха и Республики Армения. На протяжении постсоветского периода Турция «с одной стороны открыто поддерживает Азербайджан и ведет себя, зачастую, как конфликтующая сторона, с другой – вместе с остальными членами Минской группы ОБСЕ является международным посредником», - пишет бывший заместитель министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики, политолог Масис Маилян9. Заместитель начальника пресс-службы министерства обороны России, полковник Николай Баранов, выступая на пресс-конференции в Ереване в ноябре 2005 года, выразил мнение, что «Турция заинтересована в региональной нестабильности во взаимодействии с азербайджанцами»10. Не оставляет никаких сомнений в неизменности турецкой позиции в карабахском вопросе и риторика турецких официальных лиц, заявления, в отношении Нагорного Карабаха, звучащие как в самой Турции, так и в Азербайджане, который, по словам Гейдара Алиева являет с ней «одну нацию – два государства». Выступая в 1998 году в г. Ване, в дни празднования «80-летия освобождения города от армян» (Ванская провинция была одним из самых густонаселенных районов Западной Армении, опустошенной турками в 1915-18 годы, в ходе геноцида армян в годы первой Мировой войны) президент Турции заявил, что «в ближайшее время подобный этому праздник будет отпразднован также в Баку»11. Военный атташе Турции в Азербайджане генерал-майор Фехри Кыр, выступая 18 марта 2009 г. на торжественном мероприятии в Посольстве Турции в Баку, заявил: «Турецкий народ никогда не приемлет оккупации. Придет время и наши азербайджанские братья напишут… свой героический эпос, посвященный освобождению Карабаха»12. Как очевидно, и дела, и слова Анкары на протяжении последних полутора десятилетий остаются неизменными. В связи с чем непонятен оптимизм многих наблюдателей в связи с будто бы имеющим место «потеплением» в регионе, поскольку последнее если и имеет место в турецко-армянских отношениях, то, во-первых, носит показной, а во-вторых, вынужденный характер. В значительной мере это объясняется возможностью (правда, весьма гипотетической) принятия Конгрессом США документа, юридически признающего геноцид армян в начале XX века в Турции. Ранее новый президент Барак Обама и многие деятели нынешней администрации, включая нового главу Госдепа Хиллари Клинтон, многократно высказывались в пользу официального признания геноцида армян 1915 года Соединенными Штатами. На фоне опасений Анкары в связи с такой возможностью, в последние месяцы и развернулась многоплановая игра вокруг этого вопроса. В этой игре официальная Анкара, с одой стороны, демонстрирует готовность вот-вот открыть границу и установить дипотношения с Арменией, - чему якобы может помешать признание и Вашингтоном и без того неоспоримого факта геноцида армян. А с другой – продолжает игры вокруг предложения создать армяно-турецкую комиссию «по изучению истории», в том числе и «событий 1915 года». Между тем, открытие границы с Арменией – вопрос отнюдь не чьих-то односторонних преференций. То есть, выгода от этого для турецкого стороны, как минимум, не меньше, чем для армянской, - учитывая весьма непростое социально-экономическое состояние приграничных с Арменией районов Турецкой Республики. Кроме того, турко-азербайджанская блокада Армении не достигла своей главной цели, - воспрепятствовать росту армянской экономики. Так, в 2005 г. ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности по расчетам ЦРУ США) в Республике Армения составил 5100 долларов против 4600 долларов в Азербайджанской Республике13. То есть, ВВП на душу населения в Армении, подвергаемой на протяжении 12 лет транспортной блокаде со стороны Турции (блокада со стороны Азербайджана началась в 1989 г., еще в период существования СССР), был выше, чем в богатом нефтью и виртуально «экономически мощном» Азербайджане. И лишь после нефтяного ценового скачка 2006 года результаты эти изменились, и в следующем, 2007 году были опубликованы следующие данные по вышеуказанным показателям в АР и РА за 2006 год: 7300 долларов и 5400 долларов соответственно14. Еще ранее отдельные элементы блокады, предпринимавшиеся Турцией, были свернуты в силу их неэффективности. Так, в частности, было с запретами на полеты армянских самолетов через воздушное пространство Турции: после того как Ереван решил принять аналогичные меры в отношении турецкой и азербайджанской гражданской авиации над территорией Республики Армения, турецкая воздушная блокада была снята. Наконец, открытие границы не только легализует товарооборот между Турцией и Республикой Армения, - который, по некоторым данным, составляет 25% всего товарооборота Армении15, - но и явно усилит турецкое экономическое проникновение в Армению со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому в самой Армении отношение к вопросу открытия армяно-турецкой границы весьма противоречивое. Спектр мнений самый разнообразный. Так, экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян считает, что существует единственный критерий оценки армяно-турецких отношений - физическое разблокирование межгосударственной границы, и если это произойдет в ближайшем будущем, то все приложенные Арменией усилия и все уступки будут оправданы16. А уже цитировавшийся нами выше армянский политолог и историк Армен Айвазян считает что Турция откроет границу и установит торговые отношения лишь для того, чтобы нанести Армении еще больший вред: «уничтожить потенциал отечественного производителя, углубить культурную и духовную экспансию, обеспечить отток части армянского населения на работы в Турцию, заселить Армению турецко-курдской массой… Это большая опасность для национальной безопасности»17. Тем не менее, открытие армяно-турецкой границы, - пусть даже частичное и временное, - пожалуй, может явиться в ближайшей перспективе единственным ощутимым следствием «футбольной дипломатии»18. И то лишь потому, что такой шаг на деле способен принести дивиденды обеим сторонам, а не только армянской, как о том усиленно муссируется мнение в турецких, западных, да и российских СМИ. Не стоит забывать, что рекламная картинка Турции, создаваемая многоопытной внешнеполитической пропагандой этой страны, очень сильно отличается от Турции реальной, особенно если речь идет не о западе, а о востоке этой страны. Точно так же не соответствует действительности и рисуемая в ряде российских СМИ картина современной Республики Армения, как «задыхающейся от блокады, маленькой бедной страны». К примеру, на протяжении последнего десятилетия РА опережала своих соседей по региону по одному из важнейших показателей ООН – индексу развития человеческого потенциала (который оценивает уровень средних достижений той или иной страны по трем основным критериям: продолжительность жизни, уровень образования, уровень жизни). Так в «Докладе о развитии человека 2007/2008» места стран региона в мировом рейтинге ИРЧП распределялись следующим образом: Армения – 83 место, Турция – 84-е, Иран – 94-е, Грузия – 96-е, Азербайджан – 98-е19. Кстати, особенно усердствует в искажении реальной картины региона азербайджанская пропаганда, рисующая свою страну этаким «кавказским Кувейтом». Между тем, ВВП на душу населения в Азербайджане почти в три раза ниже, чем в нефтедобывающей Экваториальной Гвинее, которую в тех же российских СМИ почему-то никто не называет «вторым Кувейтом»… Что же касается вопроса пресловутой комиссии по изучению «событий 1915 года», то с турецкой стороны не устают вбрасывать информацию о якобы уже предварительном согласовании этого вопроса, а с армянской – опровергать эти «вбросы». Так, в ответ на очередное сообщение такого рода из Турции, сделанное турецкой газетой «Хюрриет», пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян напомнил заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что «Армения не обсуждала с Турцией вопрос Геноцида армян»20. Ранее, в ноябре 2008 года президент Армении Серж Саргсян заявил в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung», что в создании армяно-турецкой группы историков по исследованию Геноцида армян в Османской империи нет никакой необходимости. Президент подчеркнул, что Армения «не ставит признание Геноцида Турцией как предусловие для установления отношений». «Мы желаем нормализации отношений, но не за любую цену», - заявил он, заметив, что в свое время для развития нормальных отношений европейские страны также не создавали подобные комиссии. «Этот шаг может также означать попытку ввести в заблуждение международную общественность, тем более, если этот процесс длится годами», - отметил президент Армении21. Как считает один из наиболее опытных экспертов в области армяно-турецких отношений, директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян, «следуя заявлениям турецких чиновников в прессе можно судить о том, что пересмотра подхода по отношению к Армении в политической элите Турции пока не произошло». При этом он заметил, что лишь после изменения позиции официальной Анкары по отношению к Еревану можно будет говорить о начале процесса нормализации двусторонних отношений22. Также, по мнению Р. Сафрастяна, новая администрация США не признает геноцид армян23 и, следовательно, будет противодействовать принятию соответствующего документа в Конгрессе США, исходя из того, что «внимание США на данный момент сконцентрировано на Афганистане, и в этом контексте в геополитическом плане усиливается роль Турции»24. То есть дальнейшие шаги Анкары в сфере развитие турко-армянских отношений во многом зависит от исхода внутриполитических американских разногласий относительно целесообразности или нецелесообразности признания на юридическом уровне геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Во всяком случае, возможно предстоящее вскоре разблокирование Анкарой турецко-армянской границы, скорее всего, будет носить конъюнктурный (а возможно и временный) характер, широко использоваться Анкарой во внешнеполитической пропаганде как «смелый и дружественный по отношению к Армении» шаг с призывом к Еревану «пойти на встречные уступки». Прежде всего, в вопросе нагорно-карабахского конфликта, урегулирование которого с односторонних, оторванных от сложившихся в последние два десятилетия в регионе реалий, перманентно и широко озвучивается турецкими официальными лицами и пропагандой этой страны. Наконец, представляется, что тем же «карабахским целям» служит продолжительный «медовый месяц» в турецко-российских и азербайджано-российских отношениях, возникший после августовских событий 2008 года. Некоторые близкие к официальным российским кругам политологи «евразийской ориентации» в связи с этим даже стали озвучивать призывы улучшить отношения с Баку за счет «продавливания» уступок в карабахском вопросе со стороны Еревана. Думается, что подобные ожидания бесперспективны и в какой-то степени даже опрометчивы. Только человек, не знающий или не помнящий историю советско-турецких отношений 1920-х может наивно полагать, что Анкара пойдет на какой-либо шаг, идущий вразрез с ее долгосрочными этнополитическими интересами в регионе. «Американцы столкнулись с тем турецким тоном, к которому уже привыкли в Ираке и Курдистане, но к чему еще не были готовы на Кавказе. И тут же еще одна заявка: мы готовы делить Кавказ с Россией. Горячие головы склонны принять это за чистую монету и всерьез обсуждают перспективы российско-турецкого союза против Америки. Думается, напрасно... Турция явно координирует свои шаги с американцами, и Вашингтон вынужден с ними соглашаться», - писал вскоре после «августовской войны» обозреватель «Газеты» Вадим Дубнов25. Можно вспомнить и то обстоятельство, что в годы Второй мировой войны Турция активно помогала германскому фашизму, то есть была в союзе с теми, кто пытались развалить и завоевать Россию. Планируя после падения Сталинграда объявить войну СССР и оккупировать Кавказ, Турция сконцентрировала на советской границе ударную группировку из 26 дивизий. А в годы холодной войны Турция в 1959 году разместила на своей территории американские ракеты «Юпитер», вскоре оказавшись непосредственным образом причастной к карибскому кризису 1962 года: ведь именно в ответ на этот шаг Турции и США СССР разместил свои ракеты на Кубе. Точно так же наивно забывать, что Азербайджан был создан и остается «дочерним» государством Турции. А потому и все рассуждения о его, Азербайджана «прозападности» или «пророссийскости» являются ни чем иным, как пустой тратой времени и полным непониманием незыблемости «протурецкости» Баку со всеми вытекающими отсюда для Москвы последствиями. 8 апреля премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что трудно преодолеть сложности в армяно-турецких взаимоотношениях, пока не урегулированы отношения Армении и Азербайджана. Эргоган заявил, что, в первую очередь, должны быть разрешены армяно-азербайджанские взаимоотношения. «И после этого могут быть решены проблемы между Турцией и Арменией», - полагает он. «Мы надеемся, что Совет Безопасности ООН признает Армению оккупантом Нагорного Карабаха и примет решение, призывающее Армению покинуть регион», - считает Эрдоган26. Это вполне официальное заявление лишний раз подчеркивает, что Анкара ничуть не изменила свою политику в отношении Армении, равно как и то, что в обмен на «нормализацию» отношений от Еревана будут требовать неприемлемой для него капитуляции в карабахском вопросе. ____________________________ 1 «Джумхуриет», 18.07.1988 2 Информационное агентство «Регнум», 24.02.2009, http://www.regnum.ru/news/1129028.html 3 Там же. 4 Bakililar.az, 24.09.2008 5 «Официальный Баку хочет видеть Турцию сопредседателем Минской группы ОБСЕ». «Trend News» 25.09.2008 6 «Коммерсантъ», 01.10.2008 7 Историческое армянское название Нагорного Карабаха 8 Арис Казинян. Карабахский рычаг. «Голос Армении», 15.06.2006 9 Карабахская проблема в контексте армяно-турецких отношений. «Ассиметричные угрозы и конфликты низкой интенсивности» (журнал Центра анализа террористических угроз и центра прогнозирования конфликтов»), 2009, спецвыпуск, с. 13 10 ИА «Медиамакс», еженедельное обозрение «оборона и безопасность», 07-12.11.05 11 «Республика Армения», 07.04.1998 12 Об этом со ссылкой на азербайджанское информагентство «1news.az» сообщила газета «Голос Армении» от 24.03.2009 13 Газета «География», № 7, 2006, с. 16-17 14 Газета «География», № 7, 2007, с. 13 15 ИА «Регнум», 26.02.2009; http://www.regnum.ru/news/1130056.html 16 ИА «Регнум», 09.03.2009 г.; http://www.regnum.ru/news/1134569.html 17 ИА "Регнум», 24.02.2009, http://www.regnum.ru/news/1129028.html 18 6 сентября президент Турции Абдулла Гюль посетил Ереван, будучи приглашенным президентом РА Сержем Саргсяном на футбольный матч национальных сборных двух стран 19 «Где на планете жить хорошо», Парламентская газета, 29 ноября 2007 20 ИА «Регнум», 31.03.2009; http://www.regnum.ru/news/1144424.html 21 ИА «Регнум», 11.11.2008; http://www.regnum.ru/news/1082034.html 22 ИА «Регнум», 22.12.2008; http://www.regnum.ru/news/1102930.html 23 ИА «Регнум», 21.02.2009; http://www.regnum.ru/news/1128220.html 24 Там же 25 «Контрапункт в турецком марше», «Газета», 19.09.2008 26 ИА «Регнум», 09.04.2009; http://www.regnum.ru/news/1148715.html
-
An Armenian peasant, who was the only survivor from his family, with the skull of his son in his hand На сайте музея Геноцида - фотографии Аданской резни 1909 г. http://www.genocide-museum.am/eng/online_exhibition_7.php
-
Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН Граница дозволенного Проблема границы между Турцией и Арменией сегодня занимает ведущее место в армянских, турецких и азербайджанских СМИ. Откроют – не откроют? Если откроют, то когда и на каких условиях? Если не откроют, то почему? Ответ на все эти вопросы стоит поискать в причинах закрытия границы. Сегодня почему-то старательно умалчивается тот факт, что в 1993 году Турция закрыла границу с Арменией в результате военных успехов Армии Обороны НКР. Тогда Анкара видимо посчитала, что этот акт войны (а закрытие границы и блокада именно так квалифицируются международным правом), заставит Армению «надавить» на НКР, что приведет к оккупации Арцаха со стороны Азербайджана и... повторному открытию границы. Не исключено, что к такому «оригинальному» способу давления на НКР Турцию подтолкнули пресловутые четыре резолюции Совбеза ООН, в которых Армения упоминается как страна, обладающая возможностью влияния на НКР. Действия Анкары начала девяностых прошлого века можно было понять. Некогда порожденный Турцией Азербайджан населен близкородственными туркам племенами, и в Анкаре резонно надеялись, что укрепление этой закавказской республики создаст для нее возможность политической и идеологической экспансии на Кавказ, Поволжье и Центральную Азию. Распад Советского Союза вселил в турок надежды на реанимацию агрессивных военно-политических планов, порожденных гибелью Российской империи в 1917 году. Времена, однако, изменились, и Анкара оказалась в собственноручно устроенной идеологической западне. Турция так долго и изощренно пропагандировала идеологию «один народ – два государства», что ее население свято уверовало в это. И сегодня, оказавшись под сильнейшим прессом давления США и собственных интересов, Анкара вдруг осознала, что лишилась возможности самостоятельного принятия решений. По крайней мере, по вопросу открытия границы с Арменией. Ибо Азербайджан умело воспользовался сложившейся ситуацией и теперь открыто вмешивается во внутреннюю жизнь Турции. Интересы и рычаги давления Возглавляемой тандемом Гюль-Эрдоган правящей турецкой партии справедливости и развития (ПРС) сегодня не позавидуешь. Одержав более чем сомнительную победу на недавних муниципальных выборах, она в то же время в значительной мере утеряла ранее завоеванные позиции. Следует также учесть, что Анкара явственно теряет влияние и в курдонаселенных регионах Турции. Как следствие, ПРС оказалась под давлением крупнейших оппозиционных партий государства: Народно-республиканской партии (НРП) и Партии националистического движения (ПНД). В сумме две эти партии получили голосов избирателей больше, чем ПРС. При этом оппозиция весьма активно разыгрывает «азербайджанскую» карту. Эксплуатация темы Азербайджана в Турции весьма эффективна, и причина этого кроется в политике руководства страны. Анкара столь активно и много писала об «азербайджанских братьях», муссировала тему «оккупированного» армянами «исконно тюркского Карабаха», проводила парламентские слушания по проблеме Азербайджана, распространяла (вплоть до школ) лживые фильмы о событиях 1915 года, что сегодня оказалась в патовой ситуации. Сложившейся ситуацией не преминул воспользоваться Азербайджан, проводящий в Турции целенаправленную политику давления на Анкару и организующий кампании по недопущению открытия границы с Арменией. Более того, отдельные заявления государственных деятелей Азербайджана трудно квалифицировать иначе, как неприкрытую угрозу в адрес правящей в Турции партии и ее лидеров. Подобные заявления звучат не только из уст партийных деятелей, но и, к примеру, министра и замминистра иностранных дел, председателя Милли меджлиса Азербайджана... Молчит лишь И. Алиев, однако давно уже известно, ни один государственный деятель Азербайджана не уполномочен на политические заявления без ведома и одобрения президента этой республики. Интересно, что эти угрозы назвать пустыми трудно: Азербайджан в самом деле способен дестабилизировать внутриполитическую обстановку в Турции. И, как уже было сказано, такую возможность для Баку создала политика правящей в Турции партии. Долгие годы антиармянской политики и риторики привели к тому, что большинство населения в нынешней Турции активно против открытия границы с Арменией. В свою очередь, Азербайджан опасается, что открытие армяно-турецкой границы сведет на нет планы Баку по экономической изоляции Армении. Баку никогда не скрывал своих планов по удушению армянской экономики и предполагаемое открытие границы воспринимает как предательство со стороны Турции. В свою очередь, в сложившуюся ситуацию активно вмешивается Запад и, в первую очередь, США. У американцев есть несколько рычагов давления на Анкару, главными из которых являются проблема признания Геноцида армян со стороны США, проблема курдов – многомиллионного этнического меньшинства Турции – и вопрос вступления Турции в Европейский Союз. Первые две эти проблемы воспринимаются Анкарой в качестве угрозы для территориальной целостности государства, в то время, как положительное решение о вступлении Турции в ЕС таит в себе серьезные возможности расширения экономического и политического развития. Безусловно, в процессе переговоров с Турцией Б. Обама активно педалирует этими рычагами. В том числе и для принуждения Анкары к открытию границы с Арменией. Существует мнение, что стремление Вашингтона и Европы к открытию армяно-турецкой границы продиктовано заботой об испытывающей экономические трудности Армении. Однако вряд ли широко рекламируемый альтруизм Запада простирается столь далеко. Как представляется, интересы Запада в этом вопросе носят исключительно прагматичный характер и продиктованы желанием сохранить мир в нашем регионе. В западных столицах прекрасно понимают, возобновление военных действий в Южном Кавказе неминуемо скажется на поставках энергоресурсов из бассейна Каспийского моря. При этом считается, что открытие границы с Турцией позволит Армении укрепить свою экономику, что заставит Азербайджан отказаться (или отложить) от планов по военному решению карабахской проблемы. Именно этим, главным образом, и обусловлено ныне наблюдаемое давление Запада на Анкару. Ответы на вызовы Нельзя сказать, что Турция не предпринимает необходимых ответных мер по нейтрализации внешних и внутренних вызовов. Более того, противостояние вынуждает Анкару переходить к наступательным мерам, способным укрепить влияние Турции во всем обширном регионе Ближнего Востока и Кавказа. В конце 2007 года Турция провела широкомасштабную военную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и курдских же повстанцев на юго-востоке самой Турции. Этот шаг исламистской РСП был призван решить одновременно две проблемы: нейтрализовать угрозу сепаратизма в стране и ублажить достаточно решительно настроенный армейский генералитет – приверженцев светской Турции. Кроме того, практически сразу после пятидневной войны на Кавказе, Турция выступила с проектом создания Кавказской платформы стабильности и сотрудничества. И хотя Турецкая платформа вызвала волну критики (в основном, из-за нежелания Анкары видеть в этом образовании авторитетный на Кавказе Иран), тем не менее, она явственно продемонстрировала стремление Турции к политическому доминированию на Кавказе. Вслед за этим последовала скандальная выходка Эрдогана в Давосе, преследовавшая цель заручиться поддержкой верующих мусульман Турции в борьбе с исповедующий светский образ жизни внутренней оппозицией. Трудно сказать, насколько был ожидаем эффект от выходки Эрдогана, однако факт остается фактом: эпатаж Эрдогана принес ему дивиденды не только (и не столько) на внутреннем фронте, но и в среде исламских стран. Это позволило Турции предложить себя в качестве серьезного посредника на переговорах между Израилем и Сирией, а также, потенциально, между США и Ираном. Необходимо отметить, что весь прошедший год, а также первые месяцы года нынешнего, ознаменовались в Турции невиданным в этом государстве масштабным притеснением армии – наиболее авторитетным и уважаемым государственным институтом. Правящая партия занималась «порционной» нейтрализацией представителей армейского генералитета, ограничиваясь, правда (пока?), отставниками. Вместе с генералами в застенки бросаются и другие известные деятели: юристы, врачи, журналисты... Борьба с организацией «Эргенекон» превратилась в нерасторжимую составляющую турецкой внутренней политики. В то же время эта борьба способна обернуться в могильщика правящей партии и ее лидеров. Авторитет и возможности турецкой армии внутри страны велики, и это понимание заставляет Гюля с Эрдоганом не давать ей передышки. В этих условиях перманентной борьбы на внутреннем фронте Турции приходится решать еще и проблему границы с Арменией. Границы, против открытия которой большинство населения не только в Турции, но и в Армении. Границы, открытие которой способно сильно повлиять на отношения Турции с Азербайджаном, государства, для влияния на который у Анкары явно не хватает политических рычагов. Незаконнорожденный ребенок вырос из пеленок и, как это нередко бывает у прижитых в блуде детей, выказывает нрав преступающего все границы дурно воспитанного эгоиста.
-
Любое ваше посещение форума сопровождается открытием новой темы. Это было бы здорово, если бы не несколько НО: 1. По Джавахку. Если Вы еще не в курсе, на форуме существует специальный подраздел "Джавахк". Однако ваши "джавахкские" темы вы упорно открываете в разделе "Политика". 2. Многие статьи с "Митка", о которых вы открываете темы и ставите ссылки, в форуме уже выставлены в соответствующих темах. Но чтобы это видеть, надо читать форум. Чего вы, к сожалению, не делаете. 3. Ни в одной из открытых вами тем лично вы в дискуссии участия не принимаете. Из чего логично сделать вывод, что вами преследуется только рекламная цель. 4. Почему вы решили, что каждая статья, опубликованная на сайте "Митк" сама по себе достойна отдельной темы?
-
Левон МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН Непутевая мамаша Реплика Как сообщает турецкая газета «Huriyyet», один из духовных идеологов нынешних лидеров Турции, бывший премьер-министр Неджмедин Эрбакан застыдился действий, вернее, намерений своих воспитанников. Да так, что у него аж зубы вспотели. «Для меня Азербайджан, как и Турция - моя Родина. Как мы могли так поступить, что наши братья на нас смогли так обидеться, это уму непостижимо. Я этого не мог себе представить даже в страшном сне. Мне стыдно, что Турция обидела Азербайджан. Нам срочно надо обсудить всю создавшуюся ситуацию с нашими азербайджанскими братьями», безапелляционно заявил бывший премьер Неджмедин Эрбакан. Действительно: уму Эрбакана непостижимо: куда девалось «бир миллет – ики довлеет», «один народ – два государства»? Хотя, мы, конечно, прекрасно понимаем: Н. Эрбакан привычно лукавит. Помнится, в бытность его премьером Турции он вел себя не менее отстраненно от Азербайджана, чем его воспитанники, исламистский тандем нынешних лидеров Анкары. Тогда, как и сейчас, Турция предпочитала откупаться от привередливого пасынка мелкими подачками в виде военных инструкторов, списанной военной техники и пустыми, но громкими заявлениями в защиту обижаемого коварными армянами сироты. Тогда, как и сейчас, на фоне напоминаний рафинированной интеллигенции о едином происхождении анатолийских и закавказских тюрок, между Турцией и Азербайджаном перманентно выказывались взаимные обиды. В самом деле, о каких «двух государствах» одного народа речь? В 1918 году Турция незаконно родила Азербайджан. В муках и страданиях нетюркских народов Азербайджана. А потом резво ретировалась из Закавказья, оставив бакинских мусаватистов на произвол судьбы. Правда, на прощание благословила их, посоветовав спешно перекраситься. Что те и сделали, в течение одной ночи превратившись в большевиков. Сегодня Турция, как и тогда, предпочитает свои интересы интересам незаконнорожденного пасынка. Как это принято у турок. Не зря у них говорится, свой барашек греет лучше чужого газа. Однако от привычки давать советы не отказывается. А что? Совет, он недорого стоит. Можно и подать. Главное, это соблюсти собственные интересы. Для непутевой мамаши Турции собственные интересы важнее судьбы дурно воспитанного чужими людьми пасынка. И поступаться своими интересами она явно не намерена. Если, конечно, интересы мамаши не совпадут с интересами пасынка. Вот для выяснения этого важного вопроса и собирается Эрдоган в Москву, а Клинтон в Анкару.
-
Отличная статья Раздана Мадояна! Все по полочкам - ни убавить, ни прибавить... --------------------------------------------------------- Раздан Мадоян Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет В Грузию пришла весна. Распустились розы. Началась, а вернее, продолжается цветная революция. Толпа народа, которая двадцать лет назад пела дифирамбы Звиаду Гамсахурдиа, затем с не меньшим жаром воевала на проспекте Руставели, чтобы сбросить его и привести к власти Эдуарда Шеварднадзе, затем с тем же пылом свергала Шеварднадзе, чтобы устроить вакханалию в парламенте и привести к власти триумвират Жвания-Саакашвили-Бурджанадзе, теперь с не меньшим пылом ополчилась на Саакашвили. 5 лет назад она стояла с зажженными свечками и просила: «Мишико, спаси!»; теперь она стоит с транспарантами и требует: «Миша, уходи!» Все транспаранты и лозунги, естественно, составлены на двух языках - грузинском и английском. Грузинском - потому, что надо же как-то озвучить глас народа; английском - чтобы его услышали те, для кого, собственно, все это и затевается: страна со штатом Джорджия в сердце. Однако грузины не были бы грузинами, если бы из всего этого не сделали трагедию в шекспировском духе с прилюдным каянием и прочими театральными эффектами. Нино Бурджанадзе, всего лишь год назад бывшая председателем парламента и в качестве таковой как минимум давшая согласие на разгон демонстрации прошлогодней, на демонстрации нынешнего года просила прощения у своих сограждан, каялась в несознательности. Сознательные сограждане, конечно, тут же отпустили калбатоно Нино грехи и призвали ее продолжать руководить ими столь же мудро, как другая грузинка - великая царица Тамара. Католикос Илия Второй, всего лишь считанные дни назад в упор не видевший в Грузии никого, кроме грузин, теперь вспомнил, что Грузия, оказывается, государство многонациональное, и призвал всех граждан Грузии - негрузин сплотиться вокруг идеи грузинской государственности и ее сохранения. Почему эти народы - армяне, турки, мегрелы, сваны и далее по списку - должны идти на жертвы (в прямом и переносном смысле) ради благоденствия грузин, непонятно, поскольку абсолютно понятно, что завтра о них и их проблемах грузинская власть забудет так же быстро, как и вспомнила, тем более что до сих пор ничего хорошего от титульной нации никто из них не видел. Вот принудительную ассимиляцию видели: мегрелы горько шутят, что они самый короткоживущий народ в мире - ни один мегрел не доживает до 17 лет. От рождения и до совершеннолетия они - мегрелы, а паспорта получают уже грузины. Закрытие национальных школ, запрет письменности видели: в той же Мегрелии и Сванетии; запрещение служить службы в своих храмах и их присвоение грузинами видели те же армяне, причем при самом деятельном участии католикоса-патриарха. Даже грузинские азербайджанские турки от них ничего хорошего не видели. И зачем эти народы, загнанные в Грузию сталинской плетью, должны сплотиться вокруг идеи грузинской государственности, которой к тому же никто извне не угрожает? И как они могут способствовать этой самой идее, когда ей угрожают только и единственно сами грузины: их непомерные имперские амбиции, махровый национализм и абсолютная их неспособность принимать реалии мира. Они что, должны спасать Грузию от грузин для грузин? Ираклий Окруашвили, еще недавно, в бытность свою министром обороны клявшийся-божившийся всеми святыми, что встретит Новый год в Цхинвале, теперь стал чуть ли не главным противником бывшего своего друга М.Саакашвили, который всего-то и сделал, что попробовал в этот самый Цхинвал войти. Или, может, Окруашвили собирался назвать операцию по «замирению» Южной Осетии не «Чистым полем», а «Цветущим садом?» И что бы от этого изменилось для осетин или для грузин? Что, осетины кинулись бы сдаваться толпами и переходить в подданство Грузии? А грузины с истинно кавказским великодушием милостиво даровали бы им право жить так, как того хотят сами осетины? Обвинять в своих бедах других легко; в глазах третьей стороны, если поднапрячься, вполне можно получить ореол мученика… и деньги, много денег. На восстановление экономики, на создание армии, на ремонт фасада. А то, что это всего лишь театральные декорации, за которыми ничего нет, кроме деревянных подпорок, знают уже не только сами актеры и режиссеры. Секрет их - давно уже секрет полишинеля. Зачем тогда поддерживать жизнь в не способном к самостоятельному существованию образовании? А нужно это игрокам за всемирной шахматной доской, для которых Грузия - всего лишь пешка. Будет проходной - хорошо, нет - можно и пожертвовать, невелика потеря. Шахматисты, конечно, давно знают, что изменениями во власти в Грузии ничего не изменить. Тот же М.Саакашвили за время своего президентства сумел, говорят, сделать для грузинского населения страны и немало полезного. Но, вероятно, продолжая аналогии с актерами, можно сказать, что полезное - это отсебятина, а вот то, за что его сейчас едят, - текст и режиссура драмы под названием «Независимая Грузия», в которой он ничего поменять не может. И не сможет никто, потому что менять надо не актеров и режиссеров, а правила игры - сюжет и текст драмы. Абхазия и Южная Осетия ушли от нее окончательно и бесповоротно уже почти двадцать лет назад, когда З. Гамсахурдиа провозгласил Грузию для грузин, а скинувший его Э. Шеварднадзе рвал на себе майку и клялся, что не оставит Сухум абхазам. Скинувший его М. Саакашвили не выходил из рамок этой же политики; его военное фиаско, а точнее, третье военное фиаско Грузии - вина не Саакашвили. Кто бы ни был на его месте, в том числе из его сегодняшних оппонентов и вчерашних соратников, - результат был бы тот же. Грузия никак не может, а скорее, не хочет понять, что ей надо в корне менять свою политику по отношению к негрузинам. Конечно, провозглашение подрайона из 9 бывших духоборческих сел в Джавахке Музеем русского духоборья - эффектный PR-ход и демонстрация национальной терпимости и уважения к другой нации… если не знать, что перед этим духоборов оттуда грузинские власти попросту выжили и лет через 10-15 там вообще не останется ни одного духобора. Правда, армянам, в отличие от русских, оттуда уходить некуда: сколько бы грузинская официальная пропаганда ни рассказывала баек об исторической принадлежности этого края Грузии и о великодушии рыцарей Кавказа, милостиво разрешивших армянам поселиться там после 1830 г., история и памятники материальной культуры говорят обратное. Вот если вдруг грузинам удастся «освободить» край от армян, надо полагать, уже сменщики М.Саакашвили объявят весь Джавахк Музеем армянского чего-то, м. б., своей толерантности к армянам. В Грузии меняются властители, но не меняется власть, не меняется политика. М. Саакашвили продолжал делать то, что делали его предшественники; его сменщики поступят так же. Так же поступят их сменщики. Грузии нужны радикальные меры. Стране необходима программа оздоровления, о которой никто ни из пребывающих во власти, ни из стремящихся к ней и не заикается. В стране нужно провести денацификацию наподобие той, какую провели в послевоенной Германии; каждый грузин должен знать, что все остальные народы имеют такие же права, что и они сами. Что если грузины хотят жить сами по себе, то они должны признать это право и за мегрелами, и за сванами, и за армянами, и за турками. Что негрузинское происхождение - не повод для уголовного преследования или политического остракизма. Что насильно никому мил не будешь и что удержать нетитульные аборигенные народы можно только любовью, а не насилием и не принудительной ассимиляцией. Что Бог, к которому так любят апеллировать грузины, кроме них самих и американцев создал еще и другие народы, которые ничуть не хуже и не лучше грузин и имеют такие же права на место под солнцем. Что, наконец, природный луг с разными цветами - божье творенье, а поле с одними лишь розами - техническая плантация. Трудно сказать однозначно, как будут развиваться события дальше. Если оппозиция не перейдет к решительным действиям вроде захвата парламента, М.Саакашвили еще какое-то время усидит в кресле. Захват же, практически переход в иное поле действий, повторит сценарий предыдущего с небольшими изменениями, которых требует время, но с теми же результатами и последствиями. Да это, по большому счету, и не суть важно. К тбилисским играм за власть останутся безразличны национальные меньшинства, в первую очередь армяне и, с меньшей вероятностью, турки. Часть сванов и мегрелов, практически огрузинившаяся, примет в этом, как и в прошлые разы, самое деятельное участие; другая часть, сохранившая национальное самосознание, резонно останется в стороне. Для них это - в чужом пиру похмелье. Осознает ли тбилисский истеблишмент, что страна оказалась в заколдованном кругу и нужны радикальные изменения? Выступления на майдане, простите, на проспекте Руставели, поведение и власти, и оппозиции пока что подтверждают, что и в этот раз, как, впрочем, и всегда, их не будет, а все сведется к очередной смене рулевых на корабле, который давно уже оставил фарватер и плывет по минному полю. Излишне говорить, что в такой ситуации драка за право держать руль, не зная лоции, есть лишь театрализованное самоубийство.