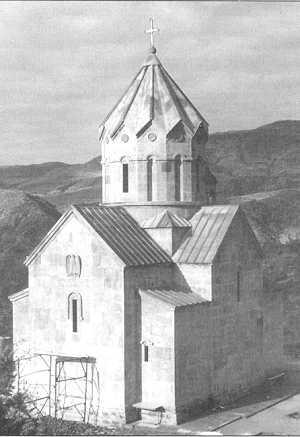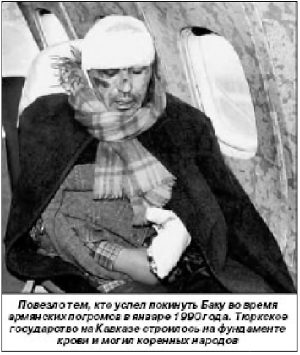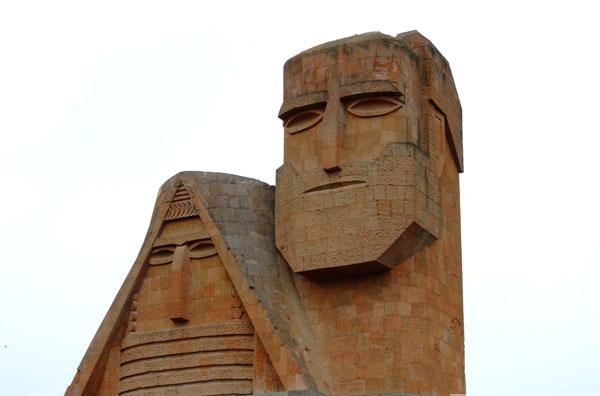-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
Фетхие ЧЕТИН Бабушка Отрывки из книги Некролог в «Агосе» Ее звали Ерануш. Она была внучкой Ерабета Катаряна, единственной дочерью Искуи и Ованнеса Катарянов. Провела счастливое детство в деревне Балун Хабаб вплоть до четвертого класса. И сразу же нагрянули времена, полные страданий, о которых она говорила: «Пусть эти дни уйдут и больше не вернутся». Ерануш потеряла всю свою родню и не смогла больше с ней встретиться. У нее появилась новая семья, новое имя. Она забыла свой язык и свою религию, обрела новый язык и новую религию, в течение жизни ни разу не возроптала за это, но никогда не забывала свое имя, село, мать, отца, деда и родных. В надежде, что однажды встретит их, обнимет, прожила 95 лет. Наверное, благодаря именно этой надежде и прожила так долго, в полном сознании до самых последних дней. Моя бабушка Ерануш скончалась на прошлой неделе, и мы проводили ее в вечность. Мы надеемся с помощью этого объявления найти ту ее родню (нашу родню), которую не смогли разыскать при ее жизни, разделить с ними наши горести, сказать: «Пусть эти дни уйдут и больше не вернутся». Однажды, когда я была в нашем доме, в Анкаре, бабушка сказала: — Если тебе нечего делать, подойди-ка ко мне, скажу тебе кое о чем. Я подошла к ней, она, как всегда, взяла мои руки в свои и сказала: — Знаешь, моя мать, отец, брат в Америке, твой дядя затерял их адреса. Если кто-то и найдет их, так это ты. Найди их, ради меня. По тому, как она говорила, по ее монотонному голосу чувствовалось, что ей с большим трудом удалось принять решение рассказать мне обо всем. Я не сразу догадалась, о чем она: «Что ты говоришь, бабушка, выходит, у нас сейчас есть родня в Америке?» Говоря это, я даже чуть подтрунивала над ее словами. Но бабушка была очень серьезна. — Не знаю их адресов, только знаю, что живут в Америке, в Нью-Йорке, — сказала она. — Хорошо, бабушка, почему они уехали в Америку? — Уехали... — Когда уехали? — Когда я была ребенком. — Хорошо, а тебя почему не взяли? — Я позже должна была поехать. Твой дядя Махмуд испортил наши отношения. Потерял их адреса. Все в моей душе перевернулось. В голове возникла куча вопросов, но многое из того, что она говорила, я никак не могла воспринять как ответы на них. Днями пыталась я вытащить из нее хоть еще одно слово, но кроме того, что настоящие ее мать и отец в Америке, ничего не смогла узнать. Мы думали, что дед и бабушка — родители тетушки. Оказалось, что это неправда. Мы думали, что бабушка — чермикская, и это тоже оказалось неправдой. Многое из того, что я знала прежде, оказалось неправдой. Теперь уже мне больше хотелось узнать правду, чем найти родню бабушки. Я все допытывалась у бабушки, стараясь остаться с ней наедине. То, что я узнала в те дни, я не в состоянии была рассказать кому-либо, не смогла разделить с кем-либо свое потрясение. Не знаю, потому ли, что этого хотела бабушка или со стыда, но услышанное теперь уже я сама утаивала от других, пытаясь в одиночку преодолеть бурную сумятицу своих чувств и тяжелых переживаний. Между нами установились очень своеобразные и необычайно таинственные отношения. Потом, в один из дней, я почувствовала, что ей самой хочется рассказать, приоткрыть завесу над этой тайной, освободиться от груза того, что знает, и о чем никому не поведала, вместе с тем заметила, что она боится подвергнуть меня опасности, доверив мне больше, чем я знала до сего дня. Она щадила меня. Я была очень настойчива, и в конце концов она стала рассказывать. Рассказывая, часто останавливалась, но после моих упорных расспросов продолжала. Рассказывала о случившемся, не делая никаких комментариев, особенно избегала проявлять свои чувства, высказывать отношение. «Меня звали Ерануш, маму — Искуи, отца — Ованнес, он в то время с двумя своими братьями находился в Америке. У меня было два брата. Дедушку звали Айрапет эфенди. К слову его прислушивались не только в нашей деревне, но и по всей округе, многие приходили просить у него совета. Наше село было большое, имело трех сельских старост», — так начала она свой рассказ. Рассказала, что однажды в село пришли жандармы и увели деда, братьев отца и матери, всех мужчин, и больше никто о них ничего не узнал, вместе с матерью и братьями они нашли приют у молодой жены дяди в соседнем селе, но жандармы добрались и туда, забрали всех, мужчин, женщин, отвели в Балу — мужчин зарезали, побросали в реку, и река несколько дней текла вся в крови. Потом рассказала о дороге в изгнание. — Мать не хотела, чтобы мы оказались в последних рядах, когда нас изгоняли, и потому шла быстро-быстро и, чтобы мы могли шагать вровень с ней, тащила нас, держа за руки. Часто нам в спину доносились крики, плач, и тогда мать еще больше убыстряла шаги, чтобы мы не оборачивались назад. Вечером первого дня две сестры матери из последних рядов прибежали к нам, горько рыдая. Бабушка замолкла, вздохнула. Я поцеловала ее руку. Она стала рассказывать дальше. — Молодую жену дяди, которая захворала и не могла идти, жандармы закололи штыками и бросили труп на обочине пути. — Она была женой брата твоего отца, бабушка? — Нет, маминого брата, беременная. В пути жандармы закалывали штыками стариков, немощных, тех, кто не мог идти, оставляли там же, под открытым небом, в скалах. На корм волкам, хищным птицам. Я заметила, что, рассказывая эти ужасные, неправдоподобные истории, бабушка не глядела на меня, а, вперив взгляд в одну точку на ковре и крепко держа в своей левой руке мою руку, правой непрестанно проделывала одно и то же движение, проводя ею от бедра до колена, словно разглаживала ткань. — ...Перейдя через мост Мадена, в Авлере, моя бабушка с отцовской стороны сбросила в воду двух своих внучек. Это были дочери братьев отца, которых убили, их жен тоже убили, а сами дети уже еле передвигались. Одна из девочек сразу ушла под воду, но вторая вытащила голову из воды. Бабушка затолкала ее голову в воду. Ребенок снова высунулся из воды, в последний раз взглянул на светлый мир, бабушка опять погрузила ее в воду... Потом сама бросилась в безумную водную путину и исчезла из глаз. Бабушка замолчала. Было очевидно, что случившееся очень сильно подействовало на нее, в тот день она по нескольку раз повторяла свой рассказ. Спустя годы она вновь и вновь вернется к случившемуся, и каждый раз ее рассказ завершится глубоким молчанием. Еще она поведала о том, что произошло в Чермик Амамбаше, когда наступило короткое затишье, и мать, наперекор своей матери и тетке, отказалась отдать им свою дочь, но те похитили девочку. — Меня привели в какой-то сад. Как и сады в нашем селе, он весь утопал в зелени. Деревья гнулись под тяжестью плодов. Посередине сада протекала прозрачная речка. В этом саду кроме меня находились еще восемь девочек из нашего села. Нас накормили горячим обедом, разрешили полакомиться фруктами с деревьев. Спустя немного времени я стала громко плакать, требуя вернуться к матери, мне обещали, что поведут к ней. Другим девочкам тоже пообещали, что вернутся домой. Мы допоздна заигрались в саду. Срывали с деревьев яблоки, груши, поели вдосталь, попили холодной воды. В этот вечер всех девочек по одной разобрали по домам. За Ерануш явился в сад жандармский десятник. Ерануш наотрез отказалась идти с ним, стала плакать, повторяя, что хочет к матери, и так и проплакала всю ночь до самого утра. — Проплакала всю ночь до самого утра, увидели, что со мной нет сладу, утром повели в Амамбаш. Пришли, и что вижу: Амамбаш пустым-пустой, ни души. Наших увели, я поняла, что меня продержали всю ночь и только сейчас привели сюда, чтобы у меня не осталось никакой надежды. Я узнала, что маму и наших повели в сторону Сиверека (центр подчиненного Урфе гавара — прим. пер.). С того дня я каждый день смотрела на горы Сиверека и плакала. Все, что я услышала, никак не соответствовало тому, что я знала. Все, что я знала до того дня, перевернулось, все мои ценности разлетелись вдребезги от услышанного, мозг разрывался от страшного внутреннего разлада, голова раскалывалась от боли, меня обуял страх, словно накопившееся внутри могло прорваться наружу и потопить под собой всех и вся. Несколько видений, оживших в моем воображении, постоянно стояли перед глазами, будь они закрыты или нет: толпа, ожидающая во дворе церкви, особенно глаза детей, малыши, сброшенные в воду, и их головки, в инстинктивном стремлении выжить выплывающие из воды, миг похищения Ерануш у матери... И параллельно с этим я поневоле вспоминала стихи, которые по торжественным случаям декламировала в школе. Поскольку я считалась одной из лучших учениц, учителя на все праздники давали мне декламировать героические стихи. Душераздирающая лирика о «славном прошлом», которую я некогда декламировала, столкнувшись с широко раскрытыми от испуга глазами детей, с головками погруженных в воду младенцев, с реками, дни напролет истекающими кровью, разлетались на мелкие осколки. ...Я вспомнила, как всякий раз, когда мы проходили мимо кладбища Мадена, бабушка, замечая наш детский страх, говорила: «Дети, не бойтесь покойников, они не могут сделать ничего плохого, плохое делают живущие, а не умершие». Может быть, говоря это, бабушка вспоминала о том, что случилось с ней. Я так и не узнала этого. - Меня взял к себе начальник жандармского участка Чермика десятник Хусейн. Его жену звали Эсма. Как они ни старались, так и не смогли заиметь своего ребенка. Господь да озарит его душу, пусть земля ему будет пухом, хорошим человеком был Хусейн. Власти у него было больше, чем у иного сотника. Он принял меня как родную дочь и относился очень хорошо. О нем говорили, что он человек сердобольный. Армян, населявших Чермик, всех поубивали и сбросили в бездонный колодец. Между Чермиком и Дзюнагушем (центр гавара, подчинявшегося Диарбекиру — прим. пер.) находилось ущелье, называвшееся Андзавом. Обезглавленных армян сбрасывали в Андзав. Десятник Хусейн участвовал в убиении мужчин, но отказался идти в Андзав, куда сбрасывали детей и женщин, восстал против приказа. Поговаривали, что за это он понес наказание. Я, еле сдерживая себя, спросила: — Бабушка, сердобольное сердце десятника Хусейна не болело, когда он обезглавливал мужчин и бросал их в колодец? Слегка помолчав и поразмыслив, бабушка сказала: — Откуда мне знать? Чувствовалось, что бабушка очень любила десятника Хусейна и никогда не спрашивала его об этом, да и не хотела спрашивать. — Мне дали имя Сеер. За короткое время я выучилась турецкому. Слушалась их. Но только моя вода не текла по одному руслу с водой Эсмы-ханум. Десятник Хусейн хотел, чтобы я называла его отцом. Очень радовался, когда я называла его отцом. «Ну, дочка, повтори-ка еще раз «отец», — говорил он. ...Как-то на праздник десятник Хусейн вернулся домой с двумя отрезами на платье, Эсма-ханум и я встретили его, поцеловали руку. Он открыл сверток и достал оттуда два одинаковых шелковых отреза на платье и сказал: — Смотрите, что я вам принес! Эсма-ханум как только увидела, что муж купил для меня такую же ткань, что и для нее, с завистью сказала буквально такие слова: — Если прислуга и служанки будут носить шелка, во что тогда одеться ханум? Вот тогда-то я и поняла, что я всего-навсего прислуга. Из Чермика нас было восемь девочек. Все мы жили в разных семьях. Женщины, завидя меня, говорили: «Самая несчастная из них — ты». Когда я спросила у своей матери, почему от нас скрывали правду, она сказала: — Дочка, бабушка и нам ничего не рассказывала. Мы узнали по ряду событий, да и то от других? — Что за события? — В детстве, бывало, затеем ссору с дворовой ребятней, и они тогда называли нас ублюдками-вероотступниками. Бабушку твою эти слова очень гневили. Как только она такое слышала, тотчас накидывала на голову платок и прямиком шла к соседям. Вступала с ним и в долгие разговоры и споры, то лаской, то угрозами, но, в конце концов, добилась своего: нас больше не дразнили ублюдками-вероотступниками. Они замолчали, ну и мы больше не затрагивали эту тему. Прежде мы не знали, что значит вероотступник, а теперь узнали. Нам стало известно, что наша мать армянка и что ее родители, уезжая в Америку, оставили ее здесь. Но поскольку каждый раз, когда в доме заводили об этом разговор, тут же меняли тему, мы поняли, что не надо говорить об этом, и не говорили. --------------------------------------------------------------------------- Бесхитростная книга известного турецкого адвоката Фетхие Четин «Бабушка», изданная в Турции, сразу же стала бестселлером и уже выдержала несколько изданий. Ее армянский перевод, вышедший небольшим тиражом, тоже моментально разошелся. Фетхие Четин, адвокат Гранта Динка, известна в Турции не только как высококлассный юрист, но и своими левыми взглядами, за что не раз подвергалась гонениям и даже пару лет провела в тюрьме. Ее автобиографическая книга о жизни родной бабушки-армянки, вынужденно принявшей мусульманство, вызвала большое оживление среди потомков таких же исламизированных соотечественников Четин, которые начали поиски своих корней. Эта книга впервые в мире сняла табу с запретной темы, о которой не принято было говорить не только публично, но даже в кругу семьи. Фетхие Четин не только дала согласие на издание «Бабушки» в Армении, но и отказалась от авторского гонорара. В книге Четин сконцентрирована вся биография женщины, изменившей имя, язык, религию, но никогда не забывавшей о своем происхождении.
-
Степан СТЕПАНЯН Карсский договор как он есть Этот договор был заключен 13 октября 1921 года в Карсе правительствами Азербайджанской, Армянской и Грузинской Советских Социалистических Республик с одной стороны, и правительством Турции - с другой стороны, при участии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Договор состоит из 20-и статей и трех приложений. В международных отношениях он отнюдь не может считаться самостоятельным документом. Если сравнить Карсский и Московский договоры (последний был подписан Россией и Турцией за несколько месяцев до Карсского), то нельзя не заметить, что Карсский договор по всем своим основным положениям копирует Московский. Разница между этими двумя договорами только в игре слов. Если московский документ называется договором о «дружбе и братстве», то в Карсском договоре слово «братство» выпало - осталась только «дружба». Забегая вперед, отметим, что как Московский, так и Карсский договоры нацелены на раздел исконных армянских земель как Западной, так и Восточной Армении между Турцией и Азербайджаном. 1-я и 2-я статьи Карсского договора «признают аннулированными и потерявшими силу все договоры, заключенные между правительствами, осуществлявшими ранее суверенитет над территорией договаривающихся сторон, и касающиеся означенных территорий, а также договоры, заключенные с третьими государствами и касающиеся Закавказских Республик». Это означает, что аннулированным считается и Севрский договор. Единственным исключением является Московский договор 1921 года. Статья 5-я договора провозглашает: «Турецкое Правительство и Советские Правительства Азербайджана и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана». Примечательна и статья 17‑я, которая гласит: «В целях обеспечить непрерывность сношений между своими странами, договаривающиеся стороны обязуются принять путем взаимного соглашения все необходимые меры для сохранения и развития с возможной скоростью железнодорожных, телеграфных и других средств сообщения, а равно и для обеспечения свободного передвижения людей и товаров договаривающимися сторонами без каких-либо задержек». По прочтении этого положения возникает резонный вопрос: если уж Карсский договор не утратил силу, то стоит ли прикладывать столько усилий для открытия армяно-турецкой границы? Если свести воедино все 20 статей и три приложения Карсского договора, то можно прийти к однозначному выводу, что этот документ фактически закрепляет определенную совершенно несправедливым Московским договором от 16 марта 1921 года передачу армянских территорий Турции и Азербайджану. Таким образом, Карсский договор представляет собой не что иное, как копию Московского договора или даже его приложение. Абсолютно понятно, что тогдашняя позиция Советской России способствовала захвату армянских территорий Турцией и передаче Нахичевана Азербайджану. Не случайно поэтому, что впоследствии Россия и Советский Союз предприняли определенные усилия по восстановлению исторической справедливости в отношении Армении и армянского народа. На Берлинской (Потсдамской) конференции, начавшейся 17 июля и закончившейся 2 августа 1945 года, руководители трех союзных держав - Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов - рассматривали также вопрос несправедливого Московского договора и аннексии Турцией армянских территорий. 16 июля, за день до начала конференции, состоялась беседа министра иностранных дел СССР В. Молотова с министром иностранных дел Великобритании А. Иденом. «В 1921-м году Турция воспользовалась слабостью Советского государства и отобрала у нее часть Советской Армении. Армяне Советского Союза чувствуют себя оскорбленными. Исходя из этих причин, Советский Союз поднял вопрос о возвращении принадлежащих Советскому Союзу территорий». В ходе этой же беседы Молотов отметил, что «территория, о которой говорится, туркам не принадлежит. Они несправедливо завладели ею, отобрав у Советской страны… Если территория армян расширится, многие из живущих за границей армян будут стремиться вернуться на родину». Но времена изменились, и восемь лет спустя, 30 мая 1953 года Советское правительство заявило правительству Турции, что «с целью сохранения добрососедских отношений и укрепления мира и безопасности правительства Армении и Грузии сочли возможным отказаться от территориальных претензий к Турции» Это, однако, вовсе не означает, что Республика Армения и армянство всего мира отказываются от своих справедливых требований. Всему миру прекрасно известно, что для исправления одного из важнейших последствий геноцида армян необходимо вернуть Армении и всему армянскому народу Западную Армению с извечным символом - Араратом.
-
Не раз приходилось отмечать, что армянские политики отличаются одной поразительной особенностью, которая наиболее присуща деятелям с аодовским или околоаодовским прошлым. С выходом в отставку – добровольную или вынужденную - ими внезапно овладевает особая форма амнезии, и мир столь же внезапно окрашивается в радужные цвета собственной политической девственности и праведности. Подробнее...
-
Арис КАЗИНЯН АРМЯНСКОЙ ПОДПИСИ - НЕ БЫЛО И НЕТ История эта приключилась более 35 лет назад. О ней известно узкому кругу историков, специализирующихся на вопросах советско-турецких отношений. Общественность нашей страны об этой истории практически ничего не знает. Но именно она является лучшей демонстрацией готовности рядового представителя рассеянного по миру армянства к отстаиванию национальных интересов, причем в невероятно сложных условиях советско-турецкого братания. Впрочем, рядовым его назвать трудно: Гурген Налбандян был полковником. Советским… Полковник Гурген Налбандян - один в поле воин Все началось с того, что в конце 60-х Турция вознамерилась окончательно оформить существующую на тот момент советско-турецкую границу и с этой целью попыталась воспользоваться советской инициативой о создании совместной комиссии «только для решения технических вопросов редемаркации государственной границы». Возможно, советское руководство прекрасно осознавало преследуемую турками главную цель, хотя есть и другие мнения. Как отмечает историк Аваг Арутюнян, «советская сторона не разгадала замыслов турок. Для турок самым главным была необходимость гарантированного подчеркивания неизменяемости советско-турецкой границы». Так или иначе, Совместная комиссия была создана и даже успела отметиться активной и последовательной работой. Заключительная же сессия прошла в декабре 1973 года в Анкаре и растянулась на целый месяц. Турция представила советской делегации свой вариант окончательного соглашения, в котором черным по белому констатировалась неизменность очертаний советско-турецкой границы. Это был продуманный шаг, и он был продуман маститыми дипломатами и политиками – членами турецкой делегации. В числе последних – посол Турции Мустафа Кенаноглу (председатель), директор департамента контрразведки Главного управления безопасности Турции Неджед Кахраман, председатель Главного управления турецкой жандармерии, полковник Хыдыр Акпынар, советник МИД Турции, доктор юриспруденции Гехкан Унсал и другие. Могущественный турецкий Генштаб был представлен в делегации сразу двумя представителями – полковником Генерального штаба Кямилем Аксу и начальником отдела Топографического управления Генштаба Ханти Балканом. В общей сложности в составе турецкой делегации было девять членов. Советская делегация состояла из пяти членов: посла СССР Павла Ермошина (председатель), генерал-майора Петра Иванова, советника МИД СССР Александра Бессонова, представителя Главного топографического управления Генштаба ВС СССР полковника Виктора Жиркова, представителя Грузинской ССР кандидата исторических наук Отари Гигинейшвили и представителя Армянской ССР полковника ВС СССР Гургена Налбандяна. Заключительная сессия на своем первом заседании 3 декабря 1973 года утвердила повестку дня по следующим вопросам: 1. Окончательная взаимная сверка вcех редемаркационных документов и исправление ошибок; 2. Подписание редемаркационных документов; 3. Церемония подписания редемаркационных документов в присутствии представителей Высоких Договаривающихся Сторон; 4. Принятие и подписание сообщения прессы СССР и Турецкой Республики о редемаркации советско-турецкой государственной границы. Гром средь ясного неба грянул во вступительной речи председателя турецкой делегации Мустафы Кенаноглу, который четыре раза решительно подчеркнул необходимость подписания комиссией документа, «который гарантировал бы неизменяемость советско-турецкой государственной границы». Как оказалось позднее, именно этой целевой направленностью была пропитана вся турецкая документация. Впрочем, называть это заявление громом средь ясного неба было бы не совсем правильно. Очевидно, что союзное руководство не могло не быть осведомленным на сей счет, соответственно – особых возражений не имело, а посему уполномочило председателя советской делегации, равно как и посла СССР в Турции, принимать решения самолично. Как показал дальнейший ход сессии, все произошло именно так. Если и грянул гром, то лишь над головой полковника Гургена Налбандяна. В преддверии нового, 1974, года Документ был наконец-таки подписан. Церемония состоялась в торжественной обстановке в конференц-зале турецкого внешнеполитического ведомства. Принимающая сторона и не стремилась скрывать радости по случаю «исторической победы», но одна «деталь» омрачала праздник: под документом отсутствовала самая вожделенная подпись – армянская. Полковник Гурген Налбандян в знак протеста демонстративно покинул зал заседания, заявив, что не уполномочен от имени целой нации подписываться под таким документом и что ни один армянин в мире не признает неприкосновенность этой границы. Нарушил ли он субординацию, ослушался ли приказа? Офицер, видимо, предпочел быть разжалованным в рядовые, но в «рядовые нации»… За 10 дней до подписания 16 января 1974 года на стол первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР Антона Кочиняна легла «Докладная записка о работе заключительной сессии Совместной советско-турецкой комиссии по редемаркации государственной границы». Под ней стояло то, чего так добивались турки - армянская подпись Гургена Налбандяна. Этот достаточно пространный документ опубликован в «Вестнике архивов Армении» (№1, 2008) как приложение к статье А. Арутюняна «Из истории редемаркации советско-турецкой границы (1973 г.)». Считаем крайне важным процитировать отдельные выдержки из этого документа. «После совещания делегации в 23 час. 19 декабря я наедине имел беседу с руководителем советской делегации, послом СССР т. Ермошиным П. К. Налбандян Г. С.: – Павел Константинович, знаю Вас как опытного дипломата, хорошо знающего армянский вопрос и имеющего большие заслуги в репатриации армян с Кипра, где вы были посланником СССР, поэтому хочу повести с Вами откровенный разговор относительно турецкого проекта. Турки намерены получить в свои руки новый политический документ, признающий за ними, по сути дела, захват армянских земель. Вся декларативная часть турецкого проекта подчинена этой цели. Я располагаю данными о том, что Мустафа Кенаноглу имеет жесткую установку Правительства и Министерства иностранных дел протащить фразу о «неизменяемости советско-турецкой границы», будет упорствовать в этом, поэтому прошу Вас проявить непреклонность в защите нашего проекта… В связи с тем, что сказал, прошу принять следующее мое официальное заявление: «Я категорически возражаю против концовки турецкого проекта сообщения прессы в части неизменяемости советско-турецкой государственной границы, считаю ее совершенно неприемлемой ни для Союза ССР в целом, ни, тем более, для Армянской ССР в частности. Если в этом вопросе возможны какие-либо колебания со стороны советской делегации, заранее прошу разрешить мне выехать в СССР для соответствующего доклада Министерству иностранных дел Союза ССР и руководству Армянской ССР» (подчеркнуто нами - А. К.). Ермошин П. К.: – Основная цель турок понятна и мне. Конечно, турки добиваются нового политического документа, гарантирующего неизменяемость ныне существующей советско-турецкой государственной границы, но это делается в порядке вещей. За последнее время наше правительство делало много заявлений об обеспечении неизменяемости установленных территориальных границ. Будем добиваться принятия комиссией нашего проекта за основу, но ожидаются большие сложности в этом деле. Самое трудное будет исключить из турецкого проекта фразу о неизменяемости государственной границы. Это может насторожить турок и создать у них мнение об обратном. Между прочим, турки все время намекают на то, что коммюнике по завершению работ по редемаркации государственной границы по своему содержанию должно соответствовать чаяниям турецкой общественности о гарантиях безопасности, неприкосновенности территории и неизменяемости границы. Это будет иметь для турок очень важное значение, особенно с учетом предстоящей кампании формирования нового правительства. Налбандян Г. С.: – Позволю себе некоторые замечания по высказанному Вами. Фраза о «неизменяемости советско-турецкой границы» в турецком проекте коммюнике не случайна и не в порядке вещей. Турки решают крайне интересующий их конкретный вопрос о новом признании нами захвата армянских земель. Как известно, турки решали и решают много вопросов, в том числе и приграничных, и с другими своими соседями, однако систематических заверений от них о гарантиях «неизменяемости границы» не требовали и не получали. Если пройдет турецкий проект, следовательно, турки, по их замыслу, получат более сильный и весомый документ, чем Карсский и Московский договоры 1921 года, и тот договор, который увез с собой в феврале 1921 года из Москвы после переговоров с Наркомом иностранных дел РСФСР Г. Чичериным и Наркомом по делам национальностей И.Сталиным глава делегации Великого национального собрания Турции Юсуф Кемаль-бей. На этот раз весомость нового документа, закрепляющего за турками захваченные армянские земли, будет обусловлена участием в принятии этого документа самой Армянской ССР в лице ее представителя. Но прошу учесть, что представитель Армянской ССР в принятии такого документа участвовать не будет. Существенное значение для коммюнике в турецком варианте будет иметь авторитетность присутствия на церемонии высоких представителей ведомств сторон. Заявления советского правительства о неприкосновенности границ, как я понимаю, имеют в виду законно принадлежащие государствам территории. В частности, такие заявления делались в отношении послевоенного устройства и границ некоторых западноевропейских государств, ныне входящих в социалистическое содружество. Кстати сказать, на Западе успешно и с лихвой решены все территориальные проблемы, в которых был заинтересован наш Союз. Этого нельзя сказать о южной границе. Вы опасаетесь того, что наши попытки исключить из турецкого проекта политическую часть насторожат турок. Турки отлично знают, что делают. Насторожиться надо нам. Думая об общественности, вернее об интересах господствующей и властной клики Турции, мы не можем забывать о законных интересах армян. Какой-либо дипломатический промах в этом вопросе может вызвать отрицательную реакцию общественности армян во всем мире. …Судьба советско-турецкой границы имеет прямое, непосредственное отношение к армянскому народу. Девятнадцать двадцатых армянских земель захвачены турками. Общественность Армянской ССР, многочисленные колонии армян-скитальцев по всему земному шару одобряют и поддерживают внешнюю политику нашей страны, пока мирятся со своей трагедией и не поднимают голоса за восстановление справедливости, но в то же время они требуют, чтобы не ковырялись в их ранах и не оскорбляли их национальных чувств. Учтите: признание захвата армянских земель означает и признание геноцида, так как не было геноцида армян без захвата армянских земель и не было захвата земель без геноцида. Не пора ли прекратить хотя бы официальные декларации, фактически признающие захват турками армянских земель?.. За 8 дней до подписания (в гостинице «Бульвар Паллас») Ермошин П. К.: – Турки очень упорствуют, не идут ни на какой компромисс, требуют принять их проект за основу и обязательно дать в нем абзац о гарантиях безопасности, территориальной целостности и неизменяемости границ. Что делать? Налбандян Г. С.: – Тупому и беспредметному упорству турок надо противопоставить разумное, обоснованное упорство советской делегации, заставить их понять, хотя они это и понимают прекрасно, что мы не правительственная делегация, заключающая договор о дружбе и ненападении… Ермошин П. К., Иванов П. С.: – Василий Федорович (посол СССР в Турции Грубяков) считает обязательным коммюнике о завершении работ о редемаркации советско-турецкой границы и предлагает на основе декларации товарища Подгорного во время его визита в Турцию в 1972 году… составить обоюдоприемлемый проект коммюнике. Налбандян Г. С.: – Фраза о «территориальной целостности и неприкосновенности советско-турецкой границы» остается? Ермошин П. К.: – Да. Для турок это – главное. Налбандян Г. С.: – Пользуясь правами, предоставленными лично мне постановлением Совета Министров СССР за подписью товарища Косыгина, категорически возражаю против предложения Советского посла в Турции Грубякова и требую о моем предложении по этому вопросу и просьбе все же сообщить Министерству иностранных дел СССР. У нас нет оснований дублировать Декларацию Председателя Верховного Совета СССР товарища Подгорного. Ермошин П. К.: – Поймите, товарищи, турки прицепились к этому и настоятельно требуют, надо же кончить скорей. Ведь тут ничего особенного нет, тем более что все это сказано в Декларации Подгорного. Коммюнике мы даем от себя, и это не требует дублирования Декларации товарища Подгорного. Налбандян Г. С.: – Если даем от себя, давайте внесем два употребительных в практике международных дипломатических отношений безобидных и справедливых слова с такой формулировкой фразы: «неприкосновенности законно принадлежащей территории и безопасности границы». Ермошин П. К.: – Турки никогда не согласятся. Налбандян Г. С.: – А почему не согласятся и чем конкретно могут обосновать свои возражения? Поставьте этот вариант декларативной части коммюнике на обсуждение Совместной советско-турецкой комиссии, пусть турки дадут ответ и обоснуют свои возражения. Ермошин П. К.: – По этому вопросу вы имеете какую-либо установку руководства республики? Налбандян Г. С.: – Во-первых, руководство Армянской ССР не могло предвидеть отклонение советско-турецкой комиссии от своих функций, определенных советско-турецким протоколом от 28 февраля 1967 года, чтобы дать какую-либо установку своему представителю. Но уверен, что если бы, как я просил несколько раз, МИД СССР сочел бы полезным посоветоваться с руководством республики, то с его стороны было бы полное одобрение советского проекта сообщения прессы о завершении редемаркации. Во-вторых, и самое главное: ЦК Компартии Армении, Президиум Верховного Совета Армянской ССР, Совет министров и Министерство иностранных дел Армянской ССР рассматривали весь комплекс по редемаркации советско-турецкой государственной границы только в планах интересов страны, а не в рамках узконациональных интересов республики… Разумеется, все было предрешено заранее, а посему в назначенный полдень 29 декабря 1973 года в торжественной обстановке были подписаны документы о «редемаркации советско-турецкой границы» и принятии совместного коммюнике с декларацией «Принципов независимости, суверенитета, равноправия, территориальной целостности и неприкосновенности границ». И, тем не менее, шампанское в тот день было кислым как в советских, так и в турецких фужерах. И даже грузинское вино перебродило в тот день в уксус, хотя благонадежный Гигинейшвили и соглашался с послами во всем и уж, конечно, поставил грузинскую подпись под территориальной целостностью Турции. Но под документами не было главного - армянской подписи, а этого предвидеть не мог никто. За пару дней до подписания в турецкую столицу прибыли генеральный секретарь МИД СССР, заместитель министра ИД СССР Ю. Черняков, заместитель начальника Генштаба ВС СССР генерал М. Козлов, начальник Пограничных войск СССР генерал В. Матросов. Но и визит столь высокопоставленных чиновников не смутил Гургена Налбандяна и не поколебал позиций «стойкого оловянного полковника». Офицер покинул зал, так и не поставив армянских инициалов под хитрыми документами. Конечно, он вызывает восхищение; его смелость, гражданское мужество, гибкость ума, свобода изложения, знание предмета, а самое главное – приложение всех этих талантов к отстаиванию национальных интересов. Приобщая своих подопечных к азам военного дела, он наверняка стократно повторял избитое «один в поле не воин». В декабрьские дни 1973 года полковник лично опроверг эту аксиому.
-
-
«Евровидение»: не буди лихо Конкурс «Евровидение», как всегда, оказался полем для разворачивания информационных войн. На этот раз поводом для скандала стало появление в ролике, рекламирующем Армению, памятника «Мы и наши горы» из Нагорного Карабаха. Когда памятник, который армяне называют просто «Дед и Бабка», был замечен в Азербайджане, вокруг него развернулось настоящее сражение. Сердобольные граждане Азербайджана стали бомбить обращениями собственную прессу, правительство, а потом и российское телевидение. Стоит отметить, что памятник был практически не известен жителям других стран. Малоискушенный зритель вряд ли бы успел выхватить взглядом коварно размещенное в клипе изображение. Даже в Армении мало кто успел заметить в быстром мельтешении образов «Деда и Бабку». Но азербайджанские СМИ и внешнеполитическое ведомство растиражировали изображение памятника архитектуры и связали его с Нагорным Карабахом. МИД Азербайджана потребовал от России убрать из ролика изображение памятника, который находится на территории Нагорного Карабаха и, значит, по официальной позиции Баку, не может быть в ролике, представляющем Армению. Организаторам в Армении только в день конкурса стало известно о решении Первого канала не идти на конфликт. Соответственно, письма и обращения от различных армянских организаций, отправленные в последний момент, не помогли, и уже к началу конкурса стало ясно, что Дед и Бабка не появятся на экране. Объяснения, что памятник строил армянский скульптор, что Нагорный Карабах давно не является частью Азербайджана, отправленные на телевидение за несколько часов до начала конкурса, не возымели действия. Ролик был подвергнут монтажу. Но армянская сторона не осталась внакладе. Во время объявления баллов позади армянской ведущей Сирушо на большом рекламном табло на фоне ночного Еревана светились «Дед и Бабка». Памятник оказался и на планшетке у нее в руках. Одним словом, два памятника вместо одного снятого. Возмущению азербайджанской общественности не было предела в этот момент. Как написала одна из потрясенных армянским коварством пользователей на азербайджанском форуме, «больше всего убил момент, когда Сирушо объявляла баллы и подняла свою карточку, а там была фотография того памятника. И когда они нам один балл дали, я просто умерла там». Сразу после окончания голосования началась вторая часть информационной войны. На этот раз под ударом оказалась уже азербайджанская сторона — Армения перешла в контрнаступление, используя прокол Баку. Тем более что повод оказался весьма существенным с точки зрения правил проведения «Евровидения». Выяснилось, что во время трансляции в Азербайджане были замазаны номера, по которым можно было бы голосовать за Армению. Кажется, что мелкая пакость, но при этом – очень грубое и серьезное нарушение правил конкурса. Армянская сторона уже обратилась к организаторам. Согласно сообщению руководителя проекта голосования Общественной телекомпании Армении Рубена Мурадяна, «в оргкомитет конкурса «Евровидение 2009» направлена соответствующая жалоба с требованием наказания азербайджанского вещателя». Чем закончится рассмотрение этого дела – пока не известно. Однако нежелание Ливана позволить своим гражданам голосовать за Израиль привело к тому, что страна была лишена возможности участвовать на конкурсе. Так что при последовательных шагах армянской стороны Азербайджан может оказаться перед лицом санкций со стороны организаторов «Евровидения». Как заявил «Росбалту» Рубен Мурадян, Азербайджану грозит как минимум штраф, как максимум – дисквалификация. Скандал вокруг «Евровидения» только начал набирать обороты, как вдруг выяснилось, что азербайджанская сторона пошла на еще более интересный шаг, чем армяне со своей заставкой. Если памятник из Нагорного Карабаха еще можно с натяжкой назвать спорным, потому что на картах в Азербайджане НКР рисуют как часть своей территории, то с Ираном такие шутки не проходят. А как оказалось, на заставке, которая представляла Азербайджан, был в самом центре изображен Мавзолей поэтов в иранском городе Табризе, где похоронены знаменитые деятели персидской культуры: поэты, музыканты и т. п. Армяне оказались не менее сердобольными и сразу поспешили обратиться в посольство Ирана в Ереване, обратив внимание на факт появления иранского архитектурного ансамбля в азербайджанском ролике. Молодежь принялась рассылать в иранские СМИ сообщения о том, что Азербайджан, обвиняя других, сам присвоил иранское культурное наследие. Как заявила «Росбалту» одна из организаторов этой акции, в посольстве Ирана в Ереване уже заинтересовались этим сообщением и намерены обратиться к организаторам конкурса за объяснениями. Одним словом, если для всех конкурс «Евровидение» закончился, то для армян и азербайджанцев только начинаются самые интересные и душещипательные аспекты шоу. Уже в ближайшее время будет видно, как далеко зайдет столкновение интересов и как к этому отнесутся организаторы конкурса. Самвел Мартиросян rosbalt.ru/2009/05/18/641402.html
-
18 мая - день смерти Лачина. 18 мая - день возрождения Бердзора Бердзор – древнее армянское поселение, из которого армяне были изгнаны еще в XIX веке. Позже на этом месте возникла курдская деревня Абдалляр. В 1923 году населенный пункт был переименован в Лачин и стал центром Курдистанского уезда, первым председателем которого стал некий Гуси Гаджиев. Было объявлено, что границы уезда будут установлены вместе с границами автономной области Нагорного Карабаха (АОНК). АОНК, в итоге, была образована лишь на части армянских земель, а Красный Курдистан в 1929 году был благополучно ликвидирован, его земли стали простыми административно-территориальными единицами в составе Азербайджанской ССР. При этом часть Нагорного Карабаха, граничившая с Арменией, была включена в состав Лачинского района для искусственного создания анклавности АОНК. Таким образом, в результате различных не слишком хитрых административно-территориальных манипуляций, курды лишились своей автономии, а вскоре вообще исчезли из национального состава как Лачинского района, так и всей Азербайджанской ССР, а Арцах лишился своей общей границы с матерью-Арменией. Стратегическое значение Лачина, разделявшего армянонаселенные Арцах и Сюник, власти «широко шагающей» республики прекрасно осознавали. Начиная с 50-х годов прошлого века район стал активными темпами заселяться тюркским элементом, райцентр – интенсивно застраиваться. Параллельно с этим политика дискриминации и насильственного отчуждения, проводимая руководителями Советского Азербайджана, пошатнула авторитет Советского Союза в многомиллионной среде зарубежных курдов. Об этом свидетельствовали публикации в известных курдских газетах и журналах. Так, корреспондент газеты «Армандж» Гасане Мзгини писал: «Я был застигнут врасплох, прочитав одну статью о курдах Азербайджана. Почему? Потому что постоянно повторялась мысль о том, что курдам в Советском Союзе живется спокойно. Решен их национальный вопрос. Увы, мы разочарованы... Идеи интернационализма призваны к жизни для определенных честных целей. Однако в некоторых местах и для некоторых наций понятие интернационализма осталось на бумаге. Лучший пример тому — Азербайджан». Выполняя наказы курдских избирателей, депутаты от Армянской ССР на заседании президиума Верховного Совета СССР 18 июля 1988 года подняли проблему и своих соседей — курдов Лачин-Кельбаджара. Этот вопрос был в центре внимания армяно-курдской интеллигенции и в дальнейшем — на пленуме ЦК КПСС, посвященном национальным вопросам, на сессии ВС СССР и на съезде народных депутатов СССР. Депутаты от Армении и НКАО пытались вопрос восстановления курдской автономии держать в центре внимания съездов, тогда как противоположная сторона пыталась его всячески замять. Достаточно вспомнить усилия Зория Балаяна, задавшего вопрос председателю Комиссии Верховного Совета СССР по национальной политике и международным отношениям Георгию Таразевичу: «Будет восстановлена область Курдистан или нет?» Таразевич тогда публично признал, что проблема эта существует, что он встречался с представителями курдского народа, которые требуют решить этот вопрос. Чтобы добиться признания своих гражданских прав, декларированных перестройкой, в мае 1989 года около 3 тысяч курдов из 8 союзных республик приехали в Москву. Они приняли участие в митингах, демонстрациях, встретились с компетентными руководителями... 21-22 сентября 1989 года в Москве состоялся учредительный съезд курдов СССР. В работе съезда приняли участие 160 делегатов из многих республик, в том числе, из Азербайджана. Главной целью съезда было — не только восстановить область Красный Курдистан, но и добиться статуса репрессированного народа. Наконец, в 1989 г. курды были признаны репрессированным народом, а на сессии Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. известная Декларация этот факт зарегистрировала юридически. Тем не менее, азербайджанские власти в этом вопросе не намеревались ориентироваться на Конституцию СССР. В связи с этим тот же Гасане Мзгини отмечал: «Утверждение азербайджанских руководителей о «добровольном» отчуждении курдов бессмысленно, с другой стороны, азербайджанские руководители притворяются глухими к требованиям армян Нагорного Карабаха. Эти проблемы связаны друг с другом и имеют один исторический корень». Однако местное население, как тюркское, так и, к сожалению, записанное в «азербайджанцы» курдское, активно поддержало политику азербайджанских властей по удушению армянской автономии, когда с 1989 года Лачин был превращен в военную цитадель, держащую на замке ворота из Армении в Арцах. Более того, с территории района предпринимались перманентные разбойничьи вылазки как в армянские села шушинского Бердадзора, так и в приграничные села Горисского района Армении. После взятия 8 мая 1992 г. армянскими подразделениями бывшей (и, надеюсь, будущей) столицы Арцаха – Шуши, азатамартики, развивая наступление, вышли к реке Хакари и 18 мая 1992 года освободили город Лачин, тем самым прервав многомесячную блокаду мятежной республики. На первых порах местному курдскому населению было предложено заниматься восстановлением своей автономии, однако начавшееся летом того же года широкомасштабное наступление азербайджанской военщины по всему периметру границ молодой Нагорно-Карабахской Республики и, в частности, на Лачинский гуманитарный коридор, положило на эти планы крест. В 1996 году в освобожденном от врага, теперь уже навеки армянском Бердзоре началось строительство храма, и 31 мая 1998 года состоялось торжественное освящение церкви Сурб Амбарцум, на северной базальтовой стене которой были высечены слова: «С надеждою в Господа мы, новообжившийся народ Кашатаха, построили церковь Святого Вознесения в память о бесчисленных братьях наших, павших за Отчизну. Храм Святого Вознесения основан в поселке Бердзор в году 1996-ом в День Святого Духа и освящен в году 1998-ом во патриаршество Католикоса Всех Армян Гарегина, во предводительство епископа края Арцахского - Паргева и во пастырство архимандрита провинции сей - Атанаса в году Армянском 1447-ом (1998) во славу Господа нашего Иисуса Христа, вовеки, аминь». http://pandukht.livejournal.com/41695.html
-
17 лет назад была прорвана блокада 18 мая 1992 года Силы Самообороны Нагорно-Карабахской Республики выбили азербайджанские войска из города Бердзор (Лачин). После того как 9 мая 1992 года был освобожден арцахский город Шуши, армянские подразделения подошли вплотную к Бердзору (Лачину) и после перегруппировки сил начали новое наступление на запад, в сторону Гориса. Так называемый лачинский полк азербайджанской армии, которым командовал нынешний министр обороны этой республики Сафар Абиев, насчитывал более 3 000 человек, к тому же в его состав влились подразделения выбитые из Шуши - около 2 000 человек. Однако, несмотря на имеющееся у противника численное превосходство, Силы Самообороны Арцаха на данном направлении насчитывавшие около 3 000 бойцов, под командованием Аркадия Тер-Тадевосяна, провели удачную наступательную операцию - лачинский полк был отброшен к югу, а Арцах ранее окруженный и блокированный азербайджанскими войсками со всех сторон, смог воссоединиться с Арменией через Сюник. Кольцо трехлетней блокады было прорвано, и уже 20 мая 1992г. по дороге Горис-Степанакерт через Бердзор в столицу НКР были доставлены сотни тонн гуманитарного груза: продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости. Шуши-Лачинская операция сыграла ключевую роль, в начальной стадии войны. Арцах был обеспечен с тыла, стали поступать подкрепления, вооружение и боеприпасы, продукты питания, медикаменты. Впереди были еще два года войны, но именно прорыв блокады сделал возможной победу и заключение соглашения о прекращении огня. miacum.am
-
Эрдоган заговорил на нормальном турецком языке У него под брюками были шальвары янычара Будем откровенны: он никогда и не говорил на другом языке. Даже если изъяснялся на неплохом английском языке. Даже когда однажды произнес в телеэфире две фразы на курдском языке. Эрдоган всегда говорил, думал и действовал по-турецки. В полном соответствии с исторически сформировавшимся менталитетом турка. На языке, густо замешанном на лжи и обмане, лицемерии и лести... Органично наложившемся на кораническую тагию: разрешенный свыше, узаконенный обман. Какая-то часть армянского народа сегодня испытывает недоумение: как может человек, находящийся во главе крупного государства, прилюдно лгать? Лукавить, изворачиваться, обманывать, юлить, словно мелкий торговец подержанными вещами на восточном базаре. Меня же в этой истории удивляет другое: как можно раз за разом обманываться? Как можно верить тем, кто обманывал нас веками? Что заставляет нас экстраполировать собственное мышление на уже тысячелетнего недруга? Что это за удовольствие: быть обманутым в сотый, тысячный раз? Еще несколько месяцев назад некоторая часть армянского общества пыталась убедить себя и нас, что турок вот-вот откроет границу, что между турком анатолийским и турком закавказским наблюдается ухудшение отношений... Отдельные горе-бизнесмены уже потирали руки в предвкушении барышей от импорта турецких товаров. И вновь звучало сакраментальное: турок уже не тот. Некоторые СМИ Армении, будучи в совершеннейшем телячьем восторге от собственной недальновидности, в открытую граничащей с идиотизмом, уже рисовали идиллические картины экономического процветания Армении. При этом явно имея в виду отдельные небольшие группы импортеров некачественных турецких изделий легкой промышленности и напичканных разными пестицидами и химикатами товаров сельского хозяйства. Когда это, господа армяне, кочевник-турок, веками пестующий идеологию грабежа и набегов, успел превратиться в земледельца, способного (и выражающего готовность) прокормить армянина? Пусть даже за деньги. Когда это турок успел превратиться в мастерового, способного (и выражающего готовность) одеть и обуть армянина? Когда это турок успел превратиться в доброго и великодушного благодетеля для армян? Ах, да, я запамятовал: турок уже не тот. Это выражение, повторяемое как заклинание, как надежда на будущее без геноцидов, как молитва, способная оберечь наших детей от ятагана, давно уже превратилось в колыбельную для армянского народа. Колыбельную для разума. Но ведь не мной сказано: сон разума порождает чудовищ. А были ли в нашей истории чудовища более жестокие и кровожадные, чем турки. Какой вишап, какой дракон, какая гидра стоглавая нанесли нашему народу хоть миллионную долю тех бед и несчастий, какие мы испытали от перекочевавших в наш регион Бог ведает из каких далей турок? Да, да, не напоминайте, я помню: турок уже не тот. Некоторые из них ныне даже чистят зубы и умываются двумя руками, а наиболее просвещенные турки уже несколько лет, как перестали справлять малую нужду на корточках. Турок, десять веков назад разрушавший ирригационные системы в Армении и превращавший нашу страну в огромное пастбище, больше не существует. Он превратился в турка, отнимающего наших детей мужского пола, чтобы воспитать из него головореза, янычара, не знающего жалости, убивающего тех наших детей, которых удалось спрятать от янычарства. Что, этого турка тоже не стало? Согласен, он трансформировался в турка, топящего наших беззащитных женщин и детей в море. Гогочущего при виде тысяч и тысяч юных армянских дев, в стремлении спасти, сохранить свою и нашу (да, да, нашу, если кто этого не понимает) честь, принимающих добровольную смерть в водах священного и Богом проклятого Евфрата. Кто-то считает, что этот турок тоже успел очеловечиться? И даже книги читает. Не буду спорить: он превратился в турка, директора школы Аршада Мамедова, вместе с грамотными родственниками вбившего гвозди в светлую голову восьмилетнего Нельсона Мовсесяна, он превратился в Буниятова, призывавшего уничтожить все армянское население Карабаха, он превратился в студента, вспоровшего живот беременной Анжеле в Карабахе, он превратился в героя Азербайджана Шаина Тагиева, убившего с нечеловеческой, турецкой жестокостью свыше пятидесяти беззащитных стариков в Мараге, взявшего в плен девочек трех и пяти лет, он превратился в Рамиля Сафарова, элитного азербайджанского офицера, способного лишь на то, чтобы зарубить топором спящего Гургена... Убежден, турок рад был бы открыть границу. Пусть армяне едут, пусть смотрят на плененную Родину, на превращенные в хлевы армянские церкви, на поруганную память, пусть находят дома своих предков, в которых живут чужие, на посаженные нашими предками деревья, плодами которых пользуются чужие. Пусть любуются видом домов, построенных из камней, взятых на развалинах христианских храмов, пусть едут по мостам, в основание которых заложены хачкары... Пусть едут, пусть плачут, пусть страдают и... вносят деньги в турецкий бюджет. Пусть укрепляют турецкую экономику, турецкую армию. Да помню я, помню: турок уже не тот! И миллионную армию он содержит исключительно для церемоний встреч и проводов высокопоставленных гостей. В качестве необходимой декорации. А если время от времени эта армия забавляется уничтожением отдельной курдской деревни, так это же не мы живем в этих деревнях. Не армяне. А по отношению к армянам турок совсем изменился. Можно даже сказать, цивилизовался. Вон, даже отдельные представители турок публично извиняются за истребление полутора миллиона армян. И ничего, что на поверку почти все они оказываются курдами, армянами, греками... И ничего, что их иногда отстреливают истинные турки, ничего, что некоторых привлекают к уголовной ответственности. Главное, среди граждан Турции происходят какие-то глубинные изменения. Что за наивные глупости? Неужели мы так никогда и не поймем, что между армянами и турками лежит непреодолимая пропасть цивилизационной несовместимости? Неужели мы так и не поняли, что турок всегда будет стремиться полностью уничтожить те остатки армянской государственности, на которых мы сегодня живем? Разрушить Эчмиадзин, Санаин, Татев, Гандзасар. Сжечь Матенадаран, высушить Севан, стереть с лица земли наши города и поселки. И спастись от этой напасти мы можем лишь огородившись от турка армянской национальной идеологией, сплоченностью народа, крепкой, боеспособной армией. Мы этого не понимаем? Тогда почитайте, что на днях говорил Эрдоган в Баку и в университете города Гданьск. Из выступления Эрдогана в Милли меджлисе Азербайджана: «Мы - народы, имеющие общие корни. Мы – одна нация, два государства. В регионе и мире есть силы, которые с ревностью воспринимают наши отношения. Мы всегда чувствовали поддержку Турции, мы всегда опирались друг на друга. Так будет и дальше». И добавил, специально для тех, кто не желает понимать дипломатический язык: «Я неоднократно заявлял и заявляю сейчас, что Турция никогда не откажется от Нагорного Карабаха». Из выступления Эрдогана в Гданьске: «Армяно-турецкие отношения не независимы. Есть проблемы, препятствующие их установлению, например, разногласия между Арменией и Азербайджаном. Хотим мы этого или нет, а это связанная с вопросом проблема. По резолюции ООН, Армения – оккупант. Положат конец оккупации, откроем границу. Мы этого не можем не учитывать. Мы хотим, чтобы Армения вышла из Карабаха. Это решение принимали не мы, а Совет безопасности ООН. Из-за оккупации и закрыта граница Армении. Первое – причина, второе – следствие. Упразднят причину, граница откроется». В этом же выступлении Эрдоган заявил, что в их стране нелегально проживает 40 тысяч армян: «Если понадобится, 40 тысяч армян-беженцев депортируем». Как происходит «депортация» по-турецки, мы знаем не с чужих слов. К сожалению, не не один раз в своей истории пришлось это пережить. Но вот заявление Эрдогана о том, что Турция никогда «не откажется» от Нагорного Карабаха... Напомню, дней десять назад он же заявлял, что «Карабах – это тюркская земля». Кому-то нужны новые подтверждения того, что тюркское население Турции и Азербайджана является конгломератом одних и тех же кочевых тюркских племен? Кому-то нужны новые подтверждения того, что в регионе у нас всего один враг? Живущий в двух государствах. Эрдоган, как уже говорилось, действительно был бы рад открыть границу. Настежь. Это позволило бы ему не только влиять на экономику Армении, но и заполучить новый «материал» для будущих и, уверен, неминуемых «депортаций». Пусть даже, что вероятнее, проводимых порционно. Это не турок, конечно, изменился. Времена другие. Но Эрдоган – человек несчастный. То, что он понимает, не могут понять его темные и объятые ненавистью соплеменники в Турции и Азербайджане. Потому и выкручивался до сих пор. Однако в парламенте Азербайджана, среди соплеменников, Эрдоган был искренен. Настолько, насколько позволяла обстановка. Если кто заметил, из под дорогого костюма европейского пошива премьер-министра Турции явственно выглядывали шальвары янычара.
-
Наира Мартиросян Баку. Кровавая неделя Самая крупная армянская община Азербайджана находилась в Баку - 237 тысяч человек. Роль армян в развитии столицы соседнего государства неоспорима и неоценима. «В какой-то степени Баку был и нашим городом, - говорит бывший зампред Совмина Арм.ССР, а в период с 1991 по 1996 гг. - начальник Управления по вопросам миграции и беженцев РА Владимир Мовсисян. - Во всех областях народного хозяйства - от нефтяной промышленности до сферы обслуживания - были высококвалифицированные специалисты-армяне. Армяне считались уважаемыми людьми, потому что у каждого имелись заслуги». Некогда почетный гражданин Баку инженер-механик Роберт Мелик-Пашаев, оставивший в этом городе пятикомнатную квартиру и с ноября 1988 г. обосновавшийся в Армении, возглавляет сегодня общественную организацию «Возвращение в Айк». «Баку был городом, который армяне построили и подарили азербайджанцам, - с сожалением констатирует он. - Увы, мы веками оставляли построенное нами врагу, а сами уходили, спасая свои жизни...» Исход армян из Баку происходил в два этапа. Первая волна покинула этот город после кровавых сумгаитских событий в феврале 1988-го, оставшиеся же бежали после бакинских семидневных погромов в январе 1990-го. «Для армянских беженцев из Азербайджана я смог сделать максимум того, что позволяли возможности нашей страны, - рассказывает Владимир Мовсисян. - А наши возможности были очень ограничены, поскольку землетрясение 1988 года примерно на 40 процентов дезорганизовало все отрасли нашей экономики. Но наряду с этими заслугами на мне лежит и вина - после 1988-го я убедил некоторых бакинских армян вернуться. Мы вели переговоры с азербайджанскими властями, ситуация там к тому времени стабилизировалась, и около 30 тысяч человек вернулись - в основном это были представители смешанных семей». В 1990-м в Баку оставались только те армяне, которые все еще верили в надуманные идеалы стоящего уже на грани развала советского строя, либо те, кто еще не сориентировался, куда уезжать. С 12 по 19 января в Баку начались заранее запланированные и организованные массовые погромы армян. По официальным данным, в эти дни в Баку были убиты от 60 до 70 армян, тогда как, по мнению Зория Балаяна, число жертв составило не менее 250. Многие армяне переправились на паромах в Красноводск, где местные власти выдали им документы, подтверждающие их статус беженца. По свидетельствам очевидцев, основной дорогой спасения для бакинских армян стали переполненные морские паромы, причем азербайджанцы беззастенчиво грабили их. «Все началось в 1988-м, - вспоминает 68-летняя бывшая бакинка, председатель общественной организации «Женщины и демократия» Ангин Аракелян. - В Сумгаите три дня шли погромы, а мы в Баку ничего об этом не знали... На дверях подъездов писали: «Армяне, убирайтесь!», а на стенах красной краской рисовали топоры - недвусмысленный символ убийства. Я была уверена, что все это плохо кончится. Двух из трех своих дочерей я в 1988-м отправила в Ереван. Я тоже уехала, но потом вернулась. Помню, в один из дней президент Азербайджана А. Везиров провозгласил, что Центр в их руках и что пора покончить со всеми армянами. Это было 12 января 1990 года. Дни с 12-го по 19 января стали черной неделей для бакинских армян. Через ЖЭКи были заранее уточнены адреса всех армян. То был план «очистки» Баку от последних армян. Целую неделю убивали, а советские войска ждали у границ города. Только 20 января они вошли в Баку, чтобы предотвратить еще более жестокую резню. Но до сих пор никто не ответил за этот геноцид... Я жила в одном из домов на Ленинском проспекте. Утром покинула дом с двумя чемоданами. Повсюду толпами шлялись погромщики. Я подумала, что они увидят меня с чемоданами и сразу поймут, что я армянка. И тут возле кинотеатра «Дружба» я увидела такси. Ходили слухи, что таксисты убивают и выбрасывают из машины армянок. Но решила рискнуть, села в машину и заговорила по-азербайджански. Таксист дал мне понять, что он тоже армянин, и предупредил, что аэропорт закрыт. Город был переполнен вооруженными бандами. Кое-как доехали до аэропорта. Это было 15 января. Армян сажали на корабли и топили в море, их грабили, насиловали, сжигали заживо. Мы жили в Баку обеспеченной жизнью, но теперь я ненавижу этот город. Мне не удалось привезти с собой в Армению даже горсточку земли с могилы отца: пошла на кладбище и увидела, что оно окружено грузовиками, а собравшиеся там азербайджанцы разоряют могилы...» «Мою старшую сестру Зинаиду избили до такой степени, что нам просто чудом удалось ее спасти и 21 декабря 1989-го поездом доставить в Армению, - делится воспоминаниями бывшая бакинка, председатель детской благотворительной организации «Ерджаник» Инна Акопова. - Кстати, она была единственной армянкой (проживала в Баку по адресу ул. Первомайская, дом 251), которой Семинское отделение милиции Баку дало официальную справку о разграблении и уничтожении домашнего имущества. Была команда запретить армянам брать с собой что-либо из своего имущества. Вооруженные топорами и резиновыми дубинками азербайджанцы нападали на машины, которые вывозили армян из города. Большая часть бакинских беженцев уехала в Россию, в Армении остались в основном пожилые люди». По убеждению председателя организации «Возвращение в Айк» Роберта Мелик-Пашаева, январским событиям 1990 года в Баку до сих пор не дана адекватная правовая и политическая оценка. «В газетах появлялись сообщения, что в Сумгаите, Баку и Кировабаде происходили межнациональные столкновения между армянами и азербайджанцами. Официальный документ о межнациональных столкновениях правительство Армении представило на состоявшейся в 1996 году в Женеве международной конференции, посвященной проблемам беженцев. Официальное приглашение участвовать в конференции получил и я. Если за несколько лет до этого кто-либо осмелился бы сказать о межнациональных столкновениях, его расстреляли бы на месте, однако в 1996-м армянская сторона дала именно такую оценку осуществленной азербайджанцами массовой резне...» - говорит он. Р. Мелик-Пашаев рассказывает также, что в 1990-х годах, когда он работал в Управлении по делам беженцев, к нему обратился русский офицер, сотрудник правоохранительных органов, и с целью опознания убитых в Баку армян дал ему толстый пакет с фотографиями погибших. «Не могу описать охвативший меня ужас, когда я увидел эти снимки. Потом я вернул эти фотографии и сейчас очень сожалею, что упустил из рук столь важные доказательства. Все эти документы находятся сейчас в архиве Прокуратуры, МВД и КГБ бывшего СССР. Правительство Армении имеет право затребовать их, - говорит мой собеседник.- В 1985-м, когда в Армении чтили память жертв совершенного 70 лет назад турками геноцида армян, в Азербайджане этот день объявили общенациональным днем свадеб. Инцидентов, углублявших и усугублявших вражду азербайджанцев к армянам, было множество. В Баку сожгли Маиловский театр, а вину взвалили на армян. В 1989-м с большим трудом мы переправили самолетом из Баку в Ереван 75 человек. Азербайджанцы вели широкомасштабную подготовительную работу по истреблению оставшихся в Баку армян. Уточнили все их адреса и уже начали грабить, насиловать, убивать...» Семья Ованесовых жила в Баиловском районе Баку. Дочь пожилой четы была инвалидом, а сын - талантливым скрипачом. На глазах парня ворвавшиеся в их квартиру озверевшие азербайджанцы издевались над его больной сестрой и насиловали ее, а родителей жестоко избили. Молодой музыкант, до этого державший в руках только скрипку, зарубил топором одного из насильников, а второго искалечил. Отец пострадавшего насильника обратился в милицию, и Сашу Ованесова заключили в тюрьму, где его подвергали жестоким пыткам. И все-таки покончить с ним азербайджанцам не удалось, поскольку международные следственные группы, занимавшиеся его делом, установили строгий контроль. Его оправдали, когда он был уже в совершенно ужасающем состоянии. Как рассказывает Р. Мелик-Пашаев, Саше Ованесову удалось вырваться из Баку и перебраться в Ереван. Здесь он и скончался - всеми позабытый и в полной нищете. История с Сашей Ованесовым дала повод азербайджанцам кричать на весь свет, что армяне убивают азербайджанцев в их же стране. «Сегодня все эти истории и случаи переиначиваются: палач становится жертвой, а жертва - палачом, - говорит В. Мовсисян. - У азербайджанцев уже имеются специальные дни памяти и специальные могилы, к которым они водят высокопоставленных гостей. Показывают - вот, мол, их убили советские войска. А ведь не будь советских войск, эта резня могла бы обрести гораздо больший размах. И мне очень больно, что некоторые российские деятели, совершающие визит в Баку, посещают эти могилы и возлагают на них венки. Я тоже сожалею о жертвах, но только не тех, кто сам был палачом», - говорит Владимир Мовсисян.
-
Станислав Тарасов Грибоедов и Пушкин - в эпицентре кавказской политики В марте 1828 года Александр Грибоедов привез в Петербург текст Туркманчайского мира. Об этом событии тогда писали все, ведь речь шла о первой победоносной войне императора Николая Первого. Более того, Россия по Туркманчайскому миру не только подтверждала территориальные приобретения на Кавказе, определенные Гюлистанским миром 1813 года, но и получала новые территории - Эриванское и Нахичеванское ханства. Кроме того, на Персию налагалась контрибуция в 20 млн. рублей серебром. Договор также подтверждал исключительное право России держать военный флот на Каспийском море и обязывал стороны обмениваться миссиями на уровне посланников. Русское правительство приняло на себя только одно обязательство - признать принца Аббас-Мирзу законным наследником персидского престола. «Странная война» Николая Первого Русско-иранская война 1826-1828 -х годов - событие особое в отечественной истории. Она началась неожиданно в первых числах июня 1826 года, буквально через несколько дней после казни декабристов - вторжением 60-тысячной армии под командованием наследника персидского престола Аббас-Мирзы в Карабах. Тогда в петербургском дворце строилось немало версий относительно этого события, вплоть до «заговора» якобы симпатизировавшего декабристам Командующего на Кавказе генерала Алексея Ермолова. В 1828 году война была закончена. Но до сих пор многие политические обстоятельства, связанные с этим историческим событием, остаются под покровом тайны. Историки объясняют это тем, что тогда в Персии завязывался один из самых трудных узлов мировой политики. И не только мировой. Даже современники не имели устойчивого мнения относительно главных героев того времени. Например, Н. Н. Муравьев-Карский в своих «Записках 1828 года» с некоторым недоумением отмечал: «Грибоедов съездил курьером к государю с донесением о заключении мира с Персиею, получил вдруг чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и 4000 червонцев. Человек сей, за несколько времени перед сим едва только выпутавшийся из неволи, в которую он был взят по делу заговорщиков 14 декабря и в чем он, кажется, имел участие (за что и был отвезен с фельдъегерем в Петербург к допросу), достижением столь блистательных выгод показал редкое умение свое. Сего было мало: он получил еще в Петербурге место генерального консула в Персии с 7000 червонцами жалованья, присвоенными к сему месту. Грибоедов вмиг сделался и знатен, и богат. Правда, что на сие место государь не мог сделать лучшего назначения; ибо Грибоедов, живши долгое время в Персии, знал и хорошо обучился персидскому языку, был боек, умен, ловок и смел, как должно, в обхождении с азиатцами. Притом же, по редким способностям и уму, он пользовался всеобщим уважением и лучше кого-либо умел поддерживать в настоящей славе звание сие как между персиянами, так и между англичанами, имевшими сильное влияние на политические дела Персии». Н. Н. Муравьев-Карский недолюбливал Александра Грибоедова. Возможно, по причине его родственных отношений с генералом Иваном Паскевичем, сменившим в 1827 году на посту Командующего на Кавказе популярного в петербургских политических салонах Ермолова. Но в своих «Записках» он, помимо прочего, откровенно намекает на «особые» отношения Грибоедова с находившимися в Персии англичанами. Ситуацию проясняет Л. М. Аринштейн в своих «Персидских письмах»: «Персия уже давно попала в зависимость от Великобритании. Англичане систематически субсидировали шаха и его двор, контролировали финансы страны; английские офицеры руководили боевой подготовкой персидской армии, английские врачи лечили шаха и его приближенных; консулы-резиденты имелись во всех крупных городах Персии и т. д. Но в Персии тогда соперничали две английские группировки. Одну из них - более умеренную - возглавлял Макдональд, который был посланником не английского правительства, а могущественной Ост-Индской компании, осуществлявшей непосредственное управление Индией, Бирмой и другими английскими колониальными владениями в Азии. В те годы Ост-Индская компания была заинтересована в том, чтобы Персия сохраняла мир с Россией, и ее посланник Макдональд, а также секретарь миссии Дж. Кэмпбелл (сын председателя Совета директоров Ост-Индийской компании) делали все, чтобы политика мира и стабильности возобладала в этом регионе Среднего Востока. Именно на этой основе завязалась их дружба с Грибоедовым». Другую группировку возглавляли Генри Уиллок, его брат Джордж и английский врач Джон Макнил. Эта группа представляла в Персии интересы воинственно настроенных кругов английской аристократии, захвативших в конце 1820-х годов ключевые посты в английском правительстве. С начала 1828 года премьер-министром Англии стал герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо. В 1826 году, накануне русско-персидской войны, он провел несколько месяцев в Петербурге и считал, что после поражения наполеоновской Франции главным соперником Англии не только на Ближнем Востоке, но и в мировой политике становится Россия. «Наша политика и в Европе и в Азии должна преследовать единую цель - всячески ограничивать русское влияние, - писал в своей записке Элленборо, ставший в правительстве Веллингтона вторым после премьера лицом. - В Персии, как и везде, надо готовиться к тому, чтобы при первой же необходимости начать широкую вооруженную борьбу против России». Наиболее серьезно борьба этих английских группировок обострилась в период подготовки Туркманчайского мирного договора. Макдональд доносил в Лондон о необходимости поддержки «русских усилий к миру». Когда мир был заключен, то он сообщал: «Это имеет неоценимое значение не только для Персии, но и для нас. Мир спас Персию от нависшей над нею угрозы прекратить существование как независимое государство, а нас - от опасностей столкновения с Петербургским двором, в которое, по мере успехов русского оружия, мы оказались бы втянуты». Макдональд считал своим личным достижением установление мира между Россией и Персией. Он опасался того, что русские войска, которые заняли всю территорию Южного Азербайджана, включая Тебриз, могли не в селении Туркманчай, а в Тегеране подписать с Персией мирный договор, присоединив к себе большую часть Персии. Поэтому при подготовке мирного договора он лоббировал «минимальные» территориальные приобретения для России. На этой почве, как считает Л. М. Аренштейн, Макдональд сблизился с Грибоедовым, «политическая линия которого - ориентация на переговоры - совпадала с линией английского посланника». Кстати, многие документы того времени не сохранились в архивах. Но по косвенным признакам переписки Александра Грибоедова с МИДом и генералом Паскевичем, можно судить, что русский дипломат считал более перспективным установление «прочных отношений с древними персами, нежели тюрками, населявшими тогда значительную часть Персидской империи». Была и другая позиция, олицетворявшаяся Генри Уиллоком, который слыл в Лондоне одним из лучших знатоков Персии. Именно он, как стало известно из недавно опубликованных в Англии архивных документов, спровоцировал русско-персидскую войну 1826-1827 годов. В августе 1826 года, когда один из его ближайших покровителей стал премьер-министром Великобритании, Уиллок поспешил перебраться в Лондон с расчетом возглавить британский МИД. Эти надежды не оправдались и его вновь вернули в Персию. По дороге Уиллок остановился в Петербурге, где провел с Нессельроде серию закрытых переговоров. Их содержание до сих пор остается тайной для историков. Известно только о существовании «плана Уиллока», который состоял в срыве российско-иранских мирных переговоров с целью выиграть время, чтобы успеть втянуть в войну против России и Османскую империю. То есть создать такой фронт борьбы России с мусульманскими государствами, который растянулся бы на тысячи километров - от Балкан до Каспийского моря. Но Уиллок считал, что до тех пор, пока Макдональд и Грибоедов солидарны в своем стремлении заключить мир с Персией, никакого обострения обстановки на Ближнем Востоке ему вызвать не удастся. Поэтому он решил сосредоточить главный удар на Грибоедове, который готовил Турманчайский договор. Карты министра Нессельроде Буквально накануне подписания договора Главнокомандующий на Кавказе генерал Паскевич получает от министра иностранных дел России Нессельроде неожиданное извещение о том, что со стороны России главным переговорщиком в Туркманчае должен выступать действительный статский советник Александр Обресков. Именно ему поручалось доставить Паскевичу новые проекты мирного и торгового договоров с Персией вместе с дополнительными инструкциями (заметим в скобках, что нам не удалось обнаружить этих документов в архиве МИД РФ). Паскевич быстро «раскусил» интригу. «Принимая к руководству будущих наших соглашений с персидскими уполномоченными, - писал он Нессельроде, - я не упущу уведомить Ваше сиятельство, коль скоро обстоятельства, не всегда предвидимые, и местные соображения потребуют некоторых отмен против наставлений, мне данных, хотя ревностно желаю исполнить их в самом точном смысле». Точный смысл был исполнен только в одном: под Турманчайским договором от российской стороны стоят две подписи - Паскевича и Обрескова. Более того, Паскевич «бросил перчатку» Нессельроде, когда в Петербург на доклад к императору Николаю Первому был направлен все же Александр Грибоедов. Что же касается вошедшего в историю дипломатии Александра Обрескова, то он вскоре «вдруг заскучал и стал торопиться к невесте». И не случайно. Как выяснила историк С. Мрачковская-Балашова, Обресков давно находился «под колпаком» у шефа жандармов Бенкендорфа. В донесениях о нем в Третье отделение жандармский полковник Клементий Ружковский, которому было поручено порыться в родословных книгах и архивах, сообщал, что «не нашел подтверждения княжеского происхождения Обрескова». Были обнаружены только сведения о князе Николае Обрескове - ученике Шопена и его матери княгини Наталии Обресковой, меценатки Шопена. Видимо исходя из этой информации в досье, хранящимся до сих пор в архиве Третьего отделения Е. И. В. канцелярии, содержится утверждение, что Обресков «полностью находится под польским влиянием». Тем не менее, министр Нессельроде по-своему отомстил Грибоедову. За Туркманчайский мир он выписал ему в награду меньше червонцев, чем не участвовавшему в переговорах, но подписавшему мир Александру Обрескову. Кстати, во время приезда в Санкт-Петербург с мирным договором состоялась известная встреча Грибоедова с Пушкиным. Последний запомнил его печальным. «Вы еще не знаете этих людей, - говорил Грибоедов Пушкину. - Вы увидите, что дело дойдет до ножей». 25 апреля 1828 года Грибоедов именным повелением царя назначается на пост полномочного министра при тегеранском дворе. «Не поздравляйте меня с этим назначением, - говорит дипломат своему другу А. А. Жандру. - Нас там всех перережут». Месть после смерти Почтовый тракт Санкт-Петербург - Тифлис: 107 станций, 2670 верст. Грибоедов приезжает в Тифлис. Его встречают торжественно, «как министра». Первый визит к Паскевичу, затем внезапная женитьба на Нине Чавчавадзе, не ставя об этом в известность - как было тогда положено - МИД. Благословение на брак дает Паскевич, который и взялся урегулировать эту «проблему». Но Нессельроде продолжает по пятам преследовать Грибоедова. Он докладывает императору о «скандальной свадьбе», намекает на то, что якобы Грибоедов «вынужден был жениться на Чавчавадзе по известным обстоятельствам». Однако император признает брак Грибоедова законным. Выезд Грибоедова в Персию по приказанию Паскевича был обставлен очень торжественно. Пышно его встречали и в Тегеране. Но трагедия близилась к финалу. Некто армянин Мирза-Якуб, евнух, служивший более 15 лет при гареме шаха казначеем, ночью пробрался к посланнику и выразил желание вернуться в Армению. Грибоедов, к тому времени хорошо изучивший нравы Востока, понимал, что иметь дело с персидским евнухом - значит наносить оскорбление самому шаху. Но он не мог пренебречь встречей с Мирза-Якубом: ведь именно этот человек поставлял конфиденциальную информацию о политике персидского двора российским кавказским властям еще со времен Ермолова. Тут и наступала развязка. На русскую дипломатическую миссию было организовано нападение. Первой жертвой расправы стал, конечно, Мирза-Якуб. Затем были растерзаны переводчики и сам Грибоедов. Кто стоял за этим убийством? Персидские историки утверждают, что Грибоедов якобы вел себя вызывающе, спровоцировав, таким образом, «гнев тегеранской толпы». Другого мнения придерживался Паскевич. В расправе над Грибоедовым он усматривал интригу с участием английской Ост-Индийской компании. Кстати, об этом хорошо было известно графу Нессельроде, которому российские дипломаты в Персии не раз докладывали о налаженной этой компанией агентурной сети в Тегеране. «Английский посол в Тегеране является собственно представителем Ост-Индийской компании, - говорилось в одном из донесений из Тегерана в Санкт-Петербург. - Эта компания ежегодно платила персидскому двору 800 тысяч рублей золотом, английский поверенный в делах Г. Уиллок, немало способствовавший возникновению в 1826 году русско-иранской войны, стал позже одним из директоров компании». Однако граф Нессельроде не усматривал в деятельности Ост-Индийской компании в Персии «какой-либо угрозы интересам России». 5 марта 1829 года «отставной чиновник Х класса» Александр Пушкин берет подорожную до Тифлиса и 1 мая отправляется на Кавказ. Свои впечатления поэт заносит в путевой дневник, на основе которого потом напишет «Путешествие в Арзрум». Там появится знаменитый «грибоедовский эпизод». «Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении, - пишет Пушкин. - На высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» - спросил я их. «Из Тегерана». – «Что везете?» - спросил я их. – «Грибоеда». Это было тело Грибоедова, которое препровождали в Тифлис». Долгое время читатели «Путешествия в Арзрум» воспринимали эти пушкинские строки без тени сомнения. А причины для сомнений есть. Еще в конце ХIХ века знатоки Кавказа указывали на ошибку Пушкина: на перевал Безобдал можно попасть только после Гергер. Известный исследователь Н. Эйдельман считал, что встреча с гробом Грибоедова была записана поэтом значительно позже и вначале никак не отразилась в его путевых записках. Следующее недоумение: откуда могли появиться «несколько грузин», сопровождавших тело Грибоедова? Известный русский кавказовед В. А. Потто, ссылаясь на документы-отчеты, сообщает: «3 мая 1830 года гроб с телом Грибоедова был доставлен из Персии в Нахичевань... Гроб сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой арбе... Поручик Макаров с несколькими солдатами Тифлисского полка назначен был сопровождать гроб до Тифлиса». И еще. В то время русские плохо переносили пагубный для них кавказский климат, периодически вспыхивали эпидемии: то чума, то малярия. Поэтому власти вводили карантин - на дорогах выставлялись заставы, ограничивался проезд транспорта и людей. В нашем случае все происходило иначе. Историки теряются в догадках, почему гроб с телом Грибоедова все же спешно переправляли в Тифлис, тогда как его можно было задержать на время карантина в упомянутой уже Нахичевани? Это - во-первых. Во-вторых, каким образом в подобных условиях Пушкину удалось все же «спокойно» добраться до армии Паскевича на турецкий фронт, набираясь по пути кавказских впечатлений? И не только ему. Поэт в своем «Путешествии в Арзрум» вслед за «грибоедовским отрывком» пишет: «В Гергерах встретил я Бутурлина, который, как и я, ехал в армию». Значит, или карантина в крае тогда вообще не было и задержка с доставкой тела Грибоедова связана с иными обстоятельствами, или Пушкин действительно дописывал «грибоедовский эпизод» значительно позже - по памяти. В окончательном тексте «Путешествия в Арзрум», напечатанном в 1836 году в первой книге журнала «Современник», Пушкин напишет сначала, что гроб везли «четыре вола», потом переделает: «два вола». Уточняет по памяти? А может быть, литературное воплощение грибоедовской темы, разделенное шестью годами - от факта встречи до ее описания (1830-1836) - связано с некоторыми таинственными обстоятельствами убийства Грибоедова в Тегеране? Ермолов мог все знать «Путешествие в Арзрум» Пушкин начинает так: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних: зато увидел Ермолова». Последний считал, что его сместили с поста главнокомандующего на Кавказе «в результате дворцовых интриг». Поэтому Пушкин, встречаясь с Ермоловым, рассчитывал через него выведать какие-то «кавказские тайны». О чем беседовали между собой прославленный генерал и знаменитый поэт - неизвестно. Пушкин описывал только внешние впечатления от встречи. Долгое время молчал и Ермолов. Впервые отрывок из разговора Пушкина с Ермоловым был опубликован Е. И. Якушкиным в московском журнале «Библиографические записки» (1859, №5). 14 октября 1829 года шеф жандармов Бенкендорф напишет Пушкину следующее: «Государь Император, узнав по публичным известиям, что Вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Эрзерум, высочайше повелеть мне изволили спросить Вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие». 10 ноября того же года Пушкин отвечает: «Я понимаю теперь, насколько положение мое было ложно, а поведение опрометчиво. Но, по крайней мере, здесь ничего, кроме опрометчивости. Мне была бы невыносима мысль, что моему поступку могут приписать иные побуждения. Я бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова». Стороны, как видим, лукавили. Пушкин пытался отвести от себя какие-либо подозрения об истинных целях своего кавказского вояжа. А Николай Первый и Бенкендорф сделали вид, что ничего особенного не произошло. Но фактом остается то, что на имя погибшего в Тегеране русского дипломата Александра Грибоедова был почему-то негласно наложен запрет.
-
Армения завоевала 2 золотые медали на международном турнире по боксу в Чехии Сборная Армении по боксу завершила свои выступления на международном представительном турнире по боксу в чешском городе Усти Над Лабем. Из выступавших под руководством главного тренера Рафаеля Меграбяна восьми армянских боксеров четверо удостоились медалей. Таким образом, Андраник Акопян (в/к 75 кг) и Цолак Ананикян (в/к 91 кг), победив в финале чешских боксеров, завоевали титулы чемпионов турнира. А Азат Оганесян (в/к 57 кг) и Оганес Даниелян (в/к 48 кг), также вышедшие в финал, не смогли взять верх над венгерским и молдавским боксерами соответственно, и удостоились серебряных медалей. Остальные представители Армении выбыли с турнира в начальном этапе.
-
Диагноз: разжижение мозга и несварение желудка Обычно эти болезни вместе не встречаются. Но это – обычно. А вот есть такой субъект, что страдает одновременно и тем и другим. Некогда получивший медицинское образование сотрудник портала Voskanapat.info считает, что его сжиженный мозг естественным (для него) образом стекает в желудок, откуда, пройдя стадию несварения, переходит в длиннющие, нагло выпячивающиеся под просторным костюмом кишки. Затем сжиженные мозги с натужным звуком изгоняются из грушевидного организма, - и читательская аудитория оказывается обданной очередной порцией зловонных опусов Олега Панфилова. Как, вы не знаете Олега Панфилова? И монитор вашего компьютера никогда не источал запах свежеотданной природе коровьей лепешки? Батенька, да вы счастливый человек! Ибо бывают случаи, когда счастье кроется в неведении. Вот, к примеру, вам незнаком этот субъект, имя которого приведено в начале, вам и жить легче. Не приходится гулять по сети с осторожностью человека, нечаянно попавшего на поляну сразу после того, как там побывало большое стадо крупного рогатого скота. Осторожно выбирая место, куда бы поставить ногу. Чтобы не заляпаться. Вы, конечно, вправе спросить: при чем тут какой-то грушевидный Панфилов и стадо коров? И будете правы. Буренки – создания полезные, можно даже сказать, незаменимые. Общее у них с этим самым Панфиловым одно: гадят, где попало, и чаще всего под собой. А различие между коровой и Панфиловым огромное. Так, даже очень большое стадо аргентинского фермера не способно расставить столько вонючих мин, сколько это делает один-единственный Панфилов. Кроме того, буренки избавляются от остатков съеденной и переваренной зеленой массы, а Панфилов - от сжиженного мозга. Интересно, что означенная патология не носит наследственного характера: ни мама Панфилова, ни его многочисленные папаши, сколько нам известно, этой болезнью не страдали. Характерно и то, что умственно-физиологическая высранность Панфилова проявляется исключительно тогда, когда больной слышит контрольные слова. Так, стоит Панфилову услышать: «Армения», «армянин», «Путин», «Медведев», «Россия» или «русский», – как в нем начинается процесс избавления от сжиженного мозга. Через голово-желудочно-кишечный тракт. А попробуйте произнести, простите за выражение, «Саакашвили» или «Ющенко», и все: у Панфилова - запор. Нет, не подумайте, мозги продолжают стекать в желудок и ниже, а дальше – все. Заклинивает напрочь, с каждым часом все больше выпячивая форму перегнившей груши. И так до тех пор, пока кто-нибудь отчаянной смелости и с полным отсутствием чувства брезгливости не догадается произнести при нем ключевые слова. Шумная реакция в виде очередного выброса мозгово-фекальных масс с соответствующей вонью происходит мгновенно. Впервые мне пришлось увидеть этого человечка в Душанбе - в феврале 1990 года. Возбужденный открывшейся перед ним перспективой оказаться на виду, с маленькими, будто булавкой проколотыми, бегающими глазками и немытой бородкой, он бегал по городу, оставляя за собой зловонный запах. От редакции к редакции, от офиса армянской общины Таджикистана к правительственным зданиям. После каждого его посещения комнаты в этих организациях приходилось подолгу проветривать. Несмотря на февраль. Тогда интеллигенция и правительство Таджикистана огорчили его, быстро прекратив беспорядки и принеся извинения армянскому народу за несвойственное таджикам поведение. Панфилов мечтал о крови, ибо кровь открывала ему дорогу к кормушке под названием «Associated Press». Крови оказалось совсем не столько, сколько хотел бы Панфилов, и ему приходилось выдумывать ее. И потихоньку ненавидеть армян, рядом с которыми встали тысячи таджиков, русских, евреев... Панфилов – человек постоянный. Уж если возненавидел, то навсегда. Армению, Россию, армян, русских... Но и вы постарайтесь понять его. Возможно, он и рад бы простить армянам и русским, да вот беда - организм не позволяет. У него (организма) начинается самоотравление. И Панфилову остается одно. Облегчиться путем испражнения собственных мозгов. По несколько раз на дню. В результате этой профилактики рождаются на страницах его пропахшего мозговыми фекалиями журнала заголовки. Об Армении: «Глобус Армении», «Недержание мозга угрожает национальному самолюбованию», «Хайастанцы опять возбудились», «Хайастанцы опять возбудились-2»... О России: «Годовщина лицемерия», «Не суетитесь под клиентом...», «Большой непорядок»... А вот как прокомментировал Панфилов решение Киева о запрете российского телевидения на Украине: «Запретив трансляцию российских телеканалов Украина заботится о психическом состоянии своего населения». Кроме России и Армении у Панфилова есть еще один «враг» - грузинская оппозиция – но это уже его «внутринациональные» проблемы, ибо с недавних пор это грушевидное существо, называющее себя руководителем Центра российской экстремальной журналистики, нашло приют в Тбилиси. Гадить издалека, знаете ли, спокойнее. С другой стороны, где же еще жить руководителю российских «экстремальных» журналистов, как не в Тбилиси. Ну, или, на худой конец, в Киеве. Кстати, о худых концах. Уникальные особенности испражняющегося мозгами организма Панфилова явно привели к резкому сокращению тестостерона во всех конечностях. Отсюда постоянная вымученная бравада молодежным сленгом седобородого журналиста – «я тащусь», «в натуре», «типа» и т. д. – и его «неологизмы» на грани, а нередко и за гранью цензуры. Хотя все это, как и его опусы, исходят, скорее, от недостаточной концентрации мозгов в голове.
-
А в чем фантазии? В том, что голосование определяется политикой, а не музыкой? Смотри кто за кого голосовал.
-
Промолчу про общий уровень исполнителей. Могу сказать одно: Армения никогда не выиграет Евровидение. Объективно. У нас просто нет союзников, чтобы за нас голосовать. Все блоки стран голосуют друг за друга: прибалты, бывшая Югославия, скандинавы, мусульмане, славяне, греки с Кипром, молдаване с румынами и т.д. Музыка здесь вообще рядом не стояла. А за кадром чмо-Киркоров рассыпался в любви к туркам. Противно...
-
-
Наира Мартиросян 16 лет без Арцвашена «1 октября 2004 года мы были на границе: в бинокль было видно, что село не заселено, размещены только казармы. От домов уцелели только стены, крыши были полностью разрушены. Пустынное пространство. Вдоль дороги, ведущей от села в Красносельск, тянулась казарма, у которой толпились военные»,- рассказывает председатель земляческого союза «Арцвашен» Вазген Ерицян. Арцвашен, расположенный в 18 км от восточной границы Армении и в 25 км от райцентра Красносельск (Чамбарак), представлял собой островок оставшейся на административной территории Азербайджана армянской земли, окруженный почти 20 азербайджанскими селами. Основанный в 1854 г. Арцвашен в 1930-32 гг. был «полуостровом», однако азербайджанцы постепенно перехватили дороги и окружили село. В предшествовавшие депортации годы Арцвашен пользовался вниманием республиканских властей. А. Ерицян рассказывает, что 25 апреля 1990 г., через пять дней после назначения на пост первого секретаря ЦК КП Армении, Владимир Мовсисян посетил Арцвашен, встретился с населением и поручил соответствующим ведомствам начать в селе широкомасштабное строительство. Въезд автоколонны с армянским руководством в село вызвал у азербайджанских властей истерию. Вот как комментирует сам В. Мовсисян события тех дней: «Мне позвонили из Москвы, из ЦК КПСС, и сообщили, что азербайджанцы протестуют - мол, у армян там военный завод. Я ответил, что повез с собой 11 министров - для решения социально-экономических проблем села. Удивились: неужели у этого села столько проблем? Да, нерешенных вопросов в селе было много. Мы поздно начали. Если бы начали раньше, в 1950-е годы, то ситуация была бы иной. Достаточно отметить лишь, что в былые годы там проживало около 5600 человек, а в момент депортации - вдвое меньше. Арцвашен был единственным селом Армении, расположенным на административной территории Азербайджана. Азербайджанцы всегда желали завладеть этим армянским анклавом. Арцвашен был расположен на доминирующей над 14 селами Гетабекского района (с примерно 60-тысячным населением) высоте. Фактически арцвашенцы были нашими пограничниками, а не простыми гражданами». В те годы Арцвашен, в отличие от многих населенных пунктов Армении, имел довольно развитую инфраструктуру. Село имело питьевую и оросительную воду, газ, телефонную связь, телевышку, асфальтированные дороги... Это было единственное армянское село, где действовали филиалы 4-х предприятий. И после целого года героической обороны Арцвашен за одну ночь был отдан азербайджанцам. Это случилось 8 августа 1992 года. Еще в 1989 г. в Арцвашене были сформированы отряды самообороны. Но... «7-9 мая советские войска окружили и блокировали село, разоружили арцвашенцев. Даже во Второй мировой Германия не использовала против какого-нибудь села столько военной техники, сколько 4-я армия против Арцвашена: танки, вертолеты, артиллерия, установки «Град»... Мы думали, что они пришли защищать Арцвашен от азеров, но, как оказалось, их мишенью были наши безоружные сельчане. С утра 7 мая каждые пять минут по громкоговорителю требовали сдать все оружие. Они выполняли приказ руководителя страны Горбачева»,- писал спустя годы Агавард Ерицян, долгие годы бывший секретарем сельсовета Арцвашена. Через 2 дня, утром 9 мая, около 2000 жителей окруженного села собрались на торжественный митинг у памятника сельчанам, павшим в годы Великой Отечественной. Ошарашенные солдаты доложили генералу: мы разоружили село, а они празднуют победу в войне над Германией! Это очень удивило русского генерала. Было принято решение немедленно вывести войска и оставить народ в покое. И ровно год - вплоть до 9 мая 1992 года (дня освобождения Шуши) - село крупным атакам не подвергалось. А затем начались обстрелы со стороны азербайджанцев. Они проводили бесконечные проверки, жгли легковые машины и автобусы. Самое трагическое событие произошло 21 июля 1992 года, когда азербайджанцы захватили жителя села Ш. Чобаняна вместе с женой и двумя детьми, супругов Демирчян и еще одного юношу - Г. Варданяна. Варвары сожгли детей в машине, потом расстреляли мужчин, а через два дня вернули трупы женщин - обесчещенных и растерзанных. Эта земля турецкой не будет В памяти арцвашенцев до сих пор живы кошмарные картины захвата села. Около 12 часов 8 августа последняя машина с военными покинула Арцвашен, а в 16 часов азербайджанцы ворвались в село. У наших властей не было желания защитить село - Арцвашен был для них головной болью. Будь там хотя бы несколько единиц военной техники, село удалось бы отстоять. Кстати, из 13 заложников 6 удалось впоследствии обменять, а судьба остальных 7-и до сих пор неизвестна. «Через год после депортации, в 1993 году, во время встречи с Левоном Тер-Петросяном в Ереванском политехническом институте уроженец Арцвашена академик Саркис Мусаелян спросил его, почему был сдан Арцвашен. Глава государства ответил: «Мы сдали 5000 га, а взяли 7200»,-рассказывает последний председатель сельсовета Арцвашена Мамикон Хечоян. «Возмутительная, прямо-таки базарная логика, неприемлемая для войны: вам Арцвашен, нам - Кярки,- замечает по этому поводу почетный председатель земляческого союза «Арцвашен» Арамаис Саакян.- Это то же самое, что обменять орла на комара. По всей видимости, решили не возиться, избавиться от этой головной боли. И это при том, что прямо накануне они заявили, что Арцвашен сдан не будет!..» А очевидец событий А. Ерицян свидетельствует, что около 9 часов вечера 6 августа 1992 г. армянским ополченцам удалось захватить самую важную огневую точку врага и продвинуться вперед на полкилометра. Той ночью сложилась благоприятная ситуация для захвата более чем 20-и окрестных азербайджанских сел. Однако власти Армении остановили наступление. «Ходили слухи, будто имеется секретная договоренность о сдаче Арцвашена»,- говорит мой собеседник. В своем интервью газете «Азг» от 8 августа 1995 г. Арамаис Саакян сказал: «Наши власти разыграли этот спектакль с захватом села - якобы не смогли противостоять. Такой же театр устроили они в Шаумяновском районе и Геташенском подрайоне. Так был уничтожен Арцвашен - «Построенный орлами». Проходят годы, но руководство республики так и не выдвигает требований вернуть захваченные Арцвашен, Геташен, Шаумян, весь Гардманский край - хотя бы в ответ на наглые заявления турок-азеров, требующих вернуть «захваченные территории» и обзывающих армян агрессорами». «Не думаю, что это было сделано нарочно, не могу наклеить такой ярлык,- говорит Владимир Мовсисян.- На войне бывают и победы, и поражения, но арцвашенцы (я ведь тоже считаю себя арцвашенцем) не покорились. Я недавно смотрел в бинокль - ничего от этого села уже не осталось. Ни деревца, ни кустика - одни руины, да и азербайджанцы его не заселили. Но арцвашенцы вернутся туда и заново отстроят свои отчие дома. Если даже не это поколение, то следующее обязательно вернется. Этот ген не пропадет. Эта земля турецкой не будет». По инициативе Мамикона Хечояна летом 2006 г. 560 арцвашенцев направили в Европейский суд иски с требованием материальной компенсации за свое утраченное имущество. 2008 г.
-
Арис КАЗИНЯН Армянская весна: курсом солнца Заурядное чередование календарных месяцев - апреля и мая - рождает в нашем сознании несколько иные, более сложные и эмоционально более насыщенные, но вполне конкретные ассоциации. Оно определяет рубеж между фазой национальных катастроф и последующим этапом величайших приобретений. Важнейшая особенность, указывающая нам на то, что армянское время движется вперед, а не назад и что армянская весна развивается по курсу Солнца. Переставить содержимое этих двух месяцев - и нация отдалилась бы от Светила расстоянием в целое календарное переосмысление. Возможно, она превратилась бы в этнокультурного фаталиста, и в этом случае ей бы уже ничего не светило. Май – это победа армянского календаря над ленью, раболепием и патологическим чувством безысходности. Убедительная констатация того, что всегда необходимо опираться на собственные силы, а не уповать на благосклонность держав, как это обычно – в течение чередующихся столетий – делается одиннадцать месяцев в году. Майские победы, коих только в прошлом веке было куда больше, чем прогнозировалось дервишами, – исключительная монополия национальных оптимистов. Между тем семнадцать лет назад май мог и не наступить. В начале месяца по приглашению иранского президента Хашеми Рафсанджани в Тегеран для ведения двусторонних переговоров и обсуждения региональных проблем прибыли осуществляющий полномочия главы азербайджанского государства Якуб Мамедов и президент Армении Левон Тер-Петросян. Встреча между ними состоялась 7 мая, а уже на следующий день было принято совместное заявление. Стороны договорились о том, что «в течение недели по прибытии в регион специального представителя президента Исламской Республики Иран М. Ваэзи, после проведения переговоров с заинтересованными сторонами и при поддержке глав государств Азербайджана и Армении осуществляется прекращение огня и одновременно открываются все коммуникационные дороги с целью обеспечения экономических потребностей». Несмотря на внешнюю привлекательность, заявление это было нелепым. Во-первых, в Азербайджане не было человека, способного гарантировать разблокирование коммуникаций (в республике не было даже президента, а появись президент - он выступил бы против разблокирования); во-вторых, иранская инициатива вполне прогнозируемо должна была (в течение нескольких ближайших дней) пресечься турецким вмешательством; в-третьих, Нагорный Карабах (это особенно важно для нас) вообще не фигурировал в качестве стороны конфликта, в-четвертых, он все еще являлся анклавом, и мнение его законных представителей было просто проигнорировано. Неизвестно, чтобы мы имели сегодня на территории этого исторического края и кто бы вообще населял эти земли, если бы в тот самый день армянские силы самообороны не начали Шушинскую операцию; 9 мая крепость Шуши полностью перешла под армянский контроль. Это сенсационное известие вызвало шквал негодования не только в Баку, но и в рядах руководящей партии Армении; в Ереване было проведено заседание, на котором разгневанные лидеры Движения «судили» Аркадия Тер-Тадевосяна. 14 мая Милли меджлис вынужден был восстановить в должности азербайджанского президента Аяза Муталибова, подавшего в отставку еще 6 марта, впрочем, как оказалось, на день. Исполняющий обязанности главы государства Якуб Мамедов призвал «туранскую нацию к единению во имя возвращения Шуши». Во второй половине мая в Баку уже ждали специальную делегацию во главе с премьер-министром Турции Сулейманом Демирелем. В составе высокопоставленных визитеров числился и лидер «серых волков» Тюркеш, призвавший население поддержать Народный фронт и его лидера Абульфаза Эльчибея. Вторая отставка Муталибова явилась следствием не только турецкого вмешательства: к процессу азербайджанских кадровых преобразований были подключены и другие силы, причем не последнюю роль сыграли афганские моджахеды и чеченцы. Сразу после «потери» Шуши бежавший оттуда Хаттаб встретился с Эльчибеем и обсудил разработанный «серыми волками» план его прихода к власти. Но и это не помогло Азербайджану: 18 мая армянские силы самообороны вошли в Лачин, сбросили водруженный когда-то на здании городской мэрии азербайджанский флаг и с блеском разрешили важнейшую стратегическую задачу - обеспечение непосредственного сухопутного сообщения между двумя армянскими республиками. С анклавным положением Нагорного Карабаха было покончено.
-
ВЕЛИКИЙ СЫН АМШЕНСКОГО АРМЯНСТВА – МИСАК ТОРЛАКЯН (1889-1968) Известный деятель армянского национально-освободительного движения Мисак Торлакян родился в селе Кюшана Трабзонского (Трапезундского) вилайета в семье амшенских крестьян в 1889 году. В юношеские годы он стал свидетелем погромов армянского населения Понта, которые были организованы турецкими властями. Тогда он впервые узнал о фидаинах и партии Дашнакцутюн. Мисак Торлакян вспоминал: «По рассказам моего отца, они были дашнакцаканами-революционерами, которые боролись за освобождение армянского народа от рабства. Слова «Дашнакцутюн» и «революционер» для меня тогда были непонятны, но всей своей детской душой я мечтал увидеть этих таинственных и храбрых людей. Я просил отца привести их к нам домой… Я мечтал стать дашнакцаканом и свести счеты с турками-палачами и предателями-армянами». Тогда в партии Дашнакцутюн уже состояли многие его родственники, и юный Мисак сам вскоре становится членом Дашнакцутюн. В партии поначалу ему серьезных задач не поручают. Чтобы показать себя на деле, он со своими товарищами решает приобрести собственное оружие и действовать против турков, о чем уведомляет дашнакский комитет Трабзона. Таким образом, он становится известным в кругу амшенских фидаинов. Они организовывают молодежные группы во всех селах Трабзонского округа, усилив армянское освободительное движение в Понте. В рядах народных бойцов он самым активным образом участвовал вплоть до 1908 г., когда младотурки свергли султанское правительство. По словам Торлакяна, хотя партия Дашнакцутюн решила временно воздержаться от активной фидаинской борьбы, все же «Трабзон стал главным центром Дашнакцутюн по перевозке в Еркир (так у дашнакцаканов принято называть Западную Армению) оружия и боеприпасов». В 1909 г. Мисак Торлакян женился. Его жена «была ярым дашнакцаканом и вскоре собрала группу армянских женщин, став их хмбапетом (главой дашнакцаканской группы)», она погибла в 1915 г., в молохе Геноцида. В 1910 г., как и многие армяне в Османской империи, М. Торлакян был призван в османскую армию. Во время Балканской войны среди турков в районе Эрзрума, где стоял полк М. Торлакяна, стали распространяться слухи о том, что армяне на Балканах воюют против турков, а их полководец Андраник занимается резней турецкого населения. Эти, специально тиражируемые слухи и разговоры, стали одними из предвестников приближающегося Геноцида. Торлакян рассказывает, что тогда Дашнакцутюн, «предвидя приближающую опасность, начала проводить необходимые подготовительные работы по организации сил самообороны. Все свое оружие и боеприпасы дашнакцаканы изымали из тайников и распределяли по армянским кварталам города (Трабзона)». Первая мировая война застала М. Торлакяна в Эрзруме в составе 4-го полка 12-ой армии Османской империи. Почувствовав возможность уничтожения армянских солдат в армии, М. Торлакян тайно бежал и присоединился к группе фидаинов, которая действовала на направлении Эрзрум-Трабзон. Вскоре он стал членом военного органа Самообороны Трабзонского района. В декабре 1915 г. стало известно, что после поражения в сражении под Сарикамышом, Энвер-паша, ярый ненавистник и преследователь армян, намерен через Трабзон отправиться в Стамбул. На тайном собрании дашнаков было решено покончить с ним в Трабзоне. Но в последний момент Энверу-паше удалось уйти от заслуженной кары. Во время резни армян в Трабзоне в 1915 г. М. Торлакян и остальные фидаины организовывали самооборону армян, тем самым, спасая многих армян от смерти. Пытаясь осознать присущий туркам феномен геноцидальности и уничтожения других народов, М. Торлакян напишет: «Нужно познать душу турка, чтобы стало возможным объяснить беспрецедентные в истории человечества кровавые события - Геноцид Армян 1915 года». В 1915 г. Торлакян перебрался в Тифлис, откуда переправился в Ереван. Там он вступает в добровольческий отряд Ишхана Аргутяна, участвует в нескольких важных сражениях, после чего по решению партии со своим отрядом через Сухум отправляется в Трабзон. В 1916 г. русские войска освободили Трабзон. Торлакян вспоминает: «В Трабзоне первым моим делом стало поступление на службу контрразведки русской армии в Трабзоне. Этим я получал возможность входить в турецкие села, совершать обыски, отыскивать и собирать спрятанных там армян. Еще я мог совершать акты возмездия против турецких преступников». За службу в русской армии М. Торлакян был награжден боевым крестом. В 1917 г. после Февральского восстания, когда русские войска оставили Трабзон, М. Торлакян с местными партийными товарищами организовал переход армянского населения из Трабзона через Батум в Закавказье. В январе 1918 г начинается нападение турецких войск на Закавказье. Трабзонская группа фидаинов присоединяется к войскам под началом Драстамата Канаяна (Дро). До этого Трабзонский отряд был локализован в Карсе, где он охранял отступление армянских войск и мирного населения до реки Аракс. В конце мая они участвовали в сражении под Баш-Апараном. М. Торлакян рассказывает: «Мы с товарищами подошли к Дро. Этот эпизод очень ярко стоит перед моими глазами. Многие группы добровольцев, одни вооруженные, а другие с топорами и мечами в руках, часть из них старики или юноши, один за другим подходили к Дро и заявляли: «Здравствуй, Дро, вот мы пришли к тебе, приказывай!». И Дро давал необходимые распоряжения, направляя все силы для спасения Родины». В этой работе великому герою помогал, закаленный во многих сражениях, Мисак Торлакян. Он был в том передовом отряде, который по приказу Дро начал наступление на позиции турецких войск под Баш-Апараном. Был тяжело ранен. Для восстановления здоровья, его отправили в Сухум, откуда он перебрался в Сочи. В 1920 г. по заданию партии Мисак должен был с отрядом добровольцев перейти в Трабзон, чтобы ударить в тыл турецким войскам, но эта операция не удалась. В 1921 г. Мисак Торлакян прибывает в Стамбул и становится одним из участников операции «Немезис» в составе Константинопольской группы дашнаков вместе с Арутюном Арутюняном и Ервандом Фндыкяном. «Немезис» - название операции, утвержденной решением партии Дашнакцутюн, по осуществлению актов возмездия в отношении лидеров турецкой партии «Единение и прогресс», виновных в организации и осуществлении Геноцида армян 1915 г. Торлакяну с товарищами было поручено выследить и ликвидировать Агаева, который был одним из организаторов резни армян в Баку. Но случилось непредвиденное. Бывший глава Бакинского Армянского Национального Совета Абрахам Гюлхандарян узнал в лице одного прохожего главного организатора погромов армян в Баку и Бакинской губернии, бывшего министра внутренних дел Азербайджана Бейбута хана Джеваншира. М. Торлакян его называет «Талаатом Азербайджана». Тогда было решено выследить и уничтожить зверя. «Слежка началась сразу же. Мне выпала честь совершить этот акт возмездия. В первые дни слежки мы узнали место проживания Джеваншира. 18 июля 1921 г. вечером две машины остановились возле гостиницы «Пера Палас», где проживал Джеваншир. С ним было четверо или пятеро человек. Они зашли в гостиницу, но вскоре вышли и сели в открытом кафе у театра. Мы сразу же решили, что это самый удобный момент. Сели у выхода из кафе, и решили прикончить его у входа в гостиницу. Когда он вышел из кафе и пошел по направлению к гостинице, через толпу людей я подошел к нему. Он был очень высоким человеком. Из-за этого я застрелил его не в голову, а в бок. Первая пуля его не свалила с ног. Он сумел крепко ухватиться за мои руки. Этим он мне помог, так как повернулся ко мне грудью. Я дважды выстрелил ему в грудь. Он упал. Я хотел скрыться через ближайшее кладбище, но услышал голос Джеваншира, который звал на помощь. Я подумал. «Он еще не умер, нужно вернуться и прикончить его». Вокруг него уже собрались 20-30 человек. Они отошли, когда у меня в руке увидели оружие. Я подошел и еще одну пулю отправил ему в сердце... Я попытался скрыться, но кто-то схватил меня. Это был брат Джеваншира. Я выстрелил ему в глаз, но он меня не отпускал и я решил сдаться, так как приближались полицейские. Ко мне подошел один из турецких полицаев, который попытался отобрать оружие. Я сказал: «Даже не пытайся, а то убью как собаку». Так мы стояли, пока не подоспели французские жандармы. Я отдал оружие им. Тогда началось избиение. Меня били все. Когда дело дошло до полиции, на мне уже почти ничего не осталось из одежды. Началось главное избиение. Я упал в обморок. Когда пришел в себя, то увидел, что ко мне подходит французский жандарм с толстой дубинкой. В этот момент к начальнику участка полиции, который смотрел на происходящее с отсутствующим видом, подошел тайный сотрудник турецкой полиции и сделал ему замечание. Когда французский жандарм поднял дубинку чтобы ударить меня по голове и прикончить, начальник полицейского участка вмешался: «Вы не имеете право убивать кого-то здесь, на моем участке. Убитый был турком, а этот человек – наверное, армянин и наверняка наш подданный». Избиение завершилось, начался допрос». Суд по этому делу длился несколько месяцев. Представший перед правосудием Торлакян, 20 октября, после прослушивания показаний свидетелей и ознакомления с материалами о погромах в Баку британским судом не был признан ответственным за свои действия и через месяц выдворен в Грецию, где М. Торлакяна освободили. Из Греции Торлакян отправился в Сербию, а оттуда в Румынию. Там он с товарищами стал заниматься фермерством. В 1925 г. в Румынию приезжает Дро. Он поступает на работу к местным нефтяным магнатам Гукасовым в качестве управляющего делами их компании. Туда же он устраивает и своего знакомого М. Торлакяна. Позднее Дро открывает собственную предприятие, где дает работу Мисаку. Так они вместе работали до 1941 г., занимаясь одновременно и партийной деятельностью. Началась Вторая мировая Война. М. Торлакян пишет: «Нам, армянам, было о чем беспокоиться. Как мы сможем защитить армян, которые живут на тех территориях, завоеванных Гитлером? Их гнали на принудительные работы в Германию. Как мы можем спасти армянских военнопленных, которые попадают в руки немцев? Как помочь армянским беженцам, чтобы они не сгинули в этой общеевропейской бойне? Независимо ото всего, независимо от наших идеологических сочувствий, Германия тогда побеждала на всех фронтах. Необходимо было всеми средствами спасать наш народ от участи 1915 года. В Берлине наши руководители начали искать необходимые связи в правительстве Гитлера». По соглашению с германским правительством и по поручению Дро М. Торлакян отправляется в Варшаву, а оттуда на Украину и в Крым. Доходит до Краснодара. Везде он занимается спасением армянского населения и военнопленных. В результате многие тысячи армян были спасены от горькой участи. Он пишет: «Особенно хочу отметить, что благодаря связям Дро, армянство Крыма было спасено от уничтожения. Без этих связей и без нашей работы сегодня было бы невозможно в Крыму найти хотя бы одного живого армянина. Многим известно, что, не смотря на наши усилия, потом, когда большевики победили, армянские большевики - отбросы нации, зверскими способами уничтожили наших товарищей. Дашнакцаканы в тяжелые дни войны имели возможность искоренить всех армянских большевиков, но не допустили, чтобы хоть один из них пострадал». В ходе войны, вместе с Дро и Гарегином Нжде, Мисак Торлакян принял участие в формировании армянских подразделений в составе Вермахта. Руководил агентурными и диверсионно-разведывательными подразделениями Армянского легиона. Провел лично операцию по захвату секретных документов турецкого командования относительно планов распространения пантюркизма и захвата Кавказа. Представленные Розенбергу доказательства, добытые в Турции, послужили причиной недоверия Рейха и разочарования в Турции как союзника. После чего руководство Рейха отказалось от использования турецкой армии на Кавказе. За блестяще проведенную операцию капитан Мисак Торлакян и многие другие разведчики были награждены и повышены в званиях. В конце войны Мисак оказался в американской оккупационной зоне и был выпущен на свободу как несовершивший военных преступлений. Некоторое время жил в Западной Германии, занимался армянскими беженцами, которые были собраны в лагере, в городе Штутгарте. Он помог многим беженцам перебраться в США. В конце концов, туда отправился и он сам. Во время пребывания в Калифорнии М. Торлакян написал автобиографическую книгу «Орерус ет» (досл. перевод - «С моими днями»). В этой книге он, для будущих поколений, сохранил историю фидаинского движения Понта, Западной Армении и Закавказья, биографические данные многих трабзонских фидаинов и многие неизвестные широкому кругу подробности борьбы за армянское дело. Он был уверен, что когда-нибудь его земляки, амшенские армяне, и их потомки будут нуждаться в этой правде, чтобы понять деяния прошлого, ощутить дух своих предков, и быть достойными памяти своих отцов и дедов. Умер Мисак Торлакян в США, в 1968 году. Еркрамас.орг
-
Часть IV В заключение мы хотели бы представить точку зрения редакции журнала «Анив»: В дискуссии вокруг «петиции историков» можно выделить три совершенно разные проблемы. 1) Относится ли Геноцид армян к тем событиям, которые были установлены или должны быть установлены исторической наукой? 2) Возможна ли в принципе свобода ученого-историка в современном европейском обществе? 3) Оценивает ли Европа Геноцид армян в Османской империи как европейскую гуманитарную катастрофу? Ответ на первый вопрос совершенно очевиден. Событие Геноцида армян (Мец Егерна) никогда не было установлено исторической наукой и не должно быть ею установлено теперь или в будущем. Были ли установлены исторической наукой Первая и Вторая мировые войны, Октябрьская революция в России, Холокост? Эти масштабные события XX века были столь явственны и столь зримо разворачивались на глазах современников и привели к таким ясным и недвусмысленным итогам, что, став частью истории, они могут быть лишь констатированы историками, как само собой разумеющиеся исторические факты. Даже если мы обратимся к более отдаленной от нас истории: неужели именно историки некогда установили поражение Наполеона при Ватерлоо, протестантскую Реформацию, существование Римской империи? Или существование ГУЛАГа завтра может стать предметом научных дискуссий? Проблема отрицания Геноцида армян связана отнюдь не с тем, что это менее очевидный факт. Даже закрытость для мира восточных вилайетов Османской империи вследствие их крайней отсталости и военного положения в стране не помешала еще в 1915 году оценить масштаб трагедии – и в Западной Европе, и в России, и в США. Отрицание возникло не в недрах исторической науки. Один из приемов негационизма – представить очевидное как результат научных изысканий и тем самым перевести его в разряд положений, которые, в принципе, могут быть опровергнуты. Негационизм – важнейший симптом того, что преступник благополучно здравствует, и ему по-прежнему важно уйти от ответственности. Историки могут уточнять детали, обстоятельства, последовательный ход событий, могут интерпретировать как частности вроде отдельных свидетельств, так и общий смысл, последствия геноцида, войны или революции в рамках своей концептуальной модели. К примеру, существует достаточно большое число исторических теорий, по-разному интерпретирующих Октябрьскую революцию, - от конспирологических до коммунистических. Однако попытки отрицать самоочевидное событие революции выглядят просто абсурдными в рамках научного подхода. Их суть становится ясной только при рассмотрении вненаучных побудительных причин. В рамках своей компетенции историки остаются свободными. Они вольны по-разному интерпретировать Геноцид армян. Кто-то из них может приводить доводы о его жизненной необходимости для упрочения турецкой государственности и создания современной Турции. Кто-то может сводить все к политическому радикализму младотурок, усвоенному в Европе. Историки могут спорить по поводу обстоятельств гибели Варужана и Зохраба, о причинах, побудивших маршала Лимана фон Сандерса остановить депортацию турками армян Смирны. Но не историки открыли нам факт истребления нации, так же, как мы не нуждаемся в данных сейсмологов, чтобы подтвердить факт землетрясения 1988 года в Армении. «Защитники» свободы слова могут перевести разговор в другую плоскость и заявить, что «геноцид», в отличие, к примеру, от «революции», – строгий термин, поскольку характеризует преступление против человечности и требует (при установлении факта) наказания преступника. Говоря о геноциде в таком аспекте, мы переходим в юридическую плоскость, в поле компетенции не историков, а юристов по международному праву. Когда на процессе, подобном Нюрнбергскому, будет рассматриваться вина турецкого государства, дело за давностью событий неизбежно сведется к рассмотрению различных исторических документов и письменных свидетельств, сравнению их между собой. По каждому частному вопросу историки, безусловно, могут быть привлечены в качестве экспертов, но окончательная квалификация преступления – дело юристов, хотя бы потому, что ООН в своей конвенции принимает термин «геноцид» как юридическое определение. Если бы завтра международное сообщество решило сделать наказуемыми такие явления, как революция или контрреволюция, ему пришлось бы точно определить их как новые для юриспруденции термины в рамках соответствующих конвенций. «История не является юридическим объектом. В свободном государстве не парламент и не юридическая власть должны определять историческую правду». Соответствие Геноцида армян как исторически очевидного факта определениям Конвенции ООН от 1948 года есть вопрос юридический, есть компетенция международного суда и его решений (не стоит забывать, что Лемкин изначально составил определение геноцида, основываясь именно на истреблении армян в Османской империи, но это уже другая тема). Если из-за разногласий между державами-победительницами Нюрнбергский процесс был бы на долгое время отложен, это не означало бы перехода проблемы из политической и юридической плоскостей в плоскость исторической науки. Конечно, никто не может запретить историкам вторгаться в сферу юриспруденции, дискутировать по поводу применимости конвенции 1948 года к Геноциду армян. Но в этой сфере действуют свои правила, они приложимы именно к ней, и никак не могут ограничивать свободу исторического исследования. С другой стороны, в области политики и правовых норм именно парламент по самой своей сути призван к активным действиям. Если же историк не считает нужным привязываться к строгому определению Конвенции 1948 года, тогда смысл и значение терминов «геноцид», «революция», «война», «оккупация» формируются в первую очередь на основе самых ярких и наглядных примеров-прототипов. Смысл слова «революция» сформирован в первую очередь Великой Французской, английской и двумя последовательными русскими революциями, смысл слова «геноцид» – истреблением армян и евреев. Отрицание того или другого Геноцида настолько вопиюще, что сразу выдает крайнюю предвзятость, характерную для выполнения политического заказа – в данном случае, сокрытия следов государственного преступления. Такое поведение, несомненно, должно преследоваться в судебном порядке. Активность заказчика – турецкого правительства связана не только с последствиями признания Геноцида в сфере международного права, но и с идейными устоями кемалистского государства. Борьба за признание или отрицание Геноцида – это политическая борьба двух неравных сил. С одной стороны - народ-жертва и свободомыслящая часть человечества. С другой – преступное государство, исполнители его заказа и общая практика двойных стандартов в сфере «большой политики». Перейдем ко второму вопросу. В самом ли деле «историк не принимает никаких догм, не чтит никаких запретов, не знает никаких табу»? Тема взаимоотношений между личностью и обществом более чем хорошо проработана европейской мыслью на протяжении прошедших веков. Странно слышать из уст авторов петиции - современных европейских ученых заявления, уместные разве что в век Просвещения с его наивным рационализмом. В XX веке психология убедительно показала, что человеческая психика на сознательном и бессознательном уровнях содержит среди прочего догмы и табу. Историка не выращивают в пробирке в стерильных условиях, вне социума, социальной среды. В пробирке можно вырастить только такого символического для Европы персонажа, как Франкенштейн. Историк рождается, живет и работает в определенных времени, цивилизации, культуре, стране, пишет и говорит на определенном языке. Каждая из этих систем предоставляет в его распоряжение определенные преимущества и возможности, но одновременно накладывает и ограничения - явные и неявные. Поведение человека как социального существа в любом обществе и во все времена определялось и направлялось, помимо всего прочего, множеством паттернов, стереотипов, догм и табу. Даже если историк поставит себе главной целью освобождение от догм и табу в своей научной работе – эта задача нереализуема в принципе. Отказ не означает освобождения. Соблюдение догмы и отказ от нее фактически равноценны в том же самом смысле, как религиозная вера и атеизм представляют собой результаты внерационального выбора. Моральное осуждение массовых убийств гражданского населения или расизма тоже продукт определенной культуры, этап в ее развитии. Если освобождаться от догм, придется освободиться и от этой. Однозначное моральное осуждение террора превратилось на Западе в догму уже на наших глазах, после 11 сентября 2001 года, но еще в XX веке политический террор далеко не всегда и не везде подвергался однозначному осуждению - даже в демократических обществах. Расовые теории и их рекомендации рассматривались как вполне приемлемые вплоть до Второй мировой войны, можно даже говорить об их популярности в Европе. Речь здесь не идет о развенчании истории, попытке лишить ее статуса науки. Историческая истина существует, в исторической науке есть правила выяснения отдельных фактов и обстоятельств. При интерпретации событий историки выстраивают теории и гипотезы, подчиняющиеся общим для всех научных дисциплин принципам внутренней непротиворечивости. Если события прошлого и настоящего убедительно и логично укладываются в концепцию историка, ее можно считать одной из возможных граней истины – по крайней мере, до тех пор, пока эта концепция не будет убедительно опровергнута. В этом смысле новые свидетельства могут опровергнуть истинность любого сегодняшнего исторического постулата, подвергнуть сомнению достоверность любого удостоверенного историками события. Такие вещи действительно невозможно запретить, не следует даже пытаться это сделать. Но повторим еще раз: неопровержимые знания о многих масштабных событиях мы получили не из рук историков, а от самой истории. Они, можно сказать, столь явственно отпечатаны в истории человечества – будь то глубиной падения, ранами и оставшимися после них рубцами, или как вершины взлета человеческого духа, свет которого остается маяком для будущих поколений. «История не мораль» - еще одна красивая и пустая фраза. Догмы и табу, явно или скрыто влияющие на человеческое мышление, представляют собой основу морали. Но есть и другой аспект проблемы. Рассуждая об исторической науке, нам неизбежно придется выйти за пределы психологии историка, за узкие рамки «чистой» науки и научной этики, поскольку ученый творит не для замкнутого корпоративного цеха, а для общества. Политика и идеология испокон веков перекрывали поле гуманитарных наук, активно приспосабливая для своих нужд их терминологию, аргументацию, выводы. Если говорить об общественном резонансе исторической науки, «свобода» сегодняшнего историка от догмы осуждения террора не станет вкладом в утверждение «объективности». Его позиция в любом случае будет использована некими политическими силами для оправдания своих действий или претензий. Итак, даже если гипотетический «свободный» историк мог бы действительно избавиться в своей работе от табу и догм, он, независимо от своего желания, все равно работал бы на пользу конкретных политических сил и вряд ли имел бы основания с гордостью отличать себя от «ангажированных» собратьев по профессии. Даже если историк ничего не восхваляет или не осуждает в явном виде, если он сумел каким-то фантастическим образом остаться «беспристрастным» наблюдателем из космоса, в обществе всегда доминирует определенная система ценностей, существуют технологии воздействия на общественное сознание. Отказываясь от своей личной моральной оценки, историк фактически отдает результаты своего труда на откуп любым политическим силам, которые пожелают ими воспользоваться, переведя их на общедоступный язык, с легкостью развернув нейтральную обезличенную истину в нужную сторону. Зная об этом, профессиональный историк не боится давать собственную оценку событиям прошлого, и его личное мнение становится неотъемлемой частью его творений. Наверное, неслучайно история народов часто персонифицирована, и мы говорим «История» Мовсеса Хоренаци, «История» Геродота и пр. По поводу жалобы на то, что историку «предписали методы и поставили ограничения»… Гласные и негласные ограничения всегда существуют в любом обществе, в том числе и в научном сообществе. Подписанты письма декабря 2005 года делают вид, что им неизвестны ограничения свободы в отношении наукообразной пропаганды нацизма, терроризма, расизма, запреты на исследования по клонированию человека в некоторых достаточно демократических странах. Фактически они не оспаривают запреты, которые призваны ограждать чувства и законные интересы всех граждан страны, они против того, чтобы запреты принимались ради ограниченного числа людей. Сегодня это будет сделано во имя одного меньшинства, завтра — во имя другого, послезавтра отдельная семья сможет потребовать защиты чести и достоинства при рассмотрении событий прошлого где-то на краю земли. Давно известный полемический прием доведения до абсурда любой здравой мысли, на который уже дал исчерпывающий ответ Бернар-Анри Леви. Настоятельная потребность сформулировать ограничения свободы слова в явном виде возникает как раз тогда, когда они не вытекают прямо и очевидно из общих интересов граждан, и негласные этические запреты могут не сработать. В нашем случае речь идет о государстве - члене международного сообщества, совершившем преступления против человечности и избежавшем наказания. По всем правилам поведения преступника оно продолжает отрицать сам факт преступления, преследуя в уголовном порядке всех своих граждан, осмеливающихся затронуть запретную тему. Кемалистская Турция как исполнитель финальных геноцидных «зачисток территории» от Карса до Смирны, от Трапезунда до Айнтапа, как законная наследница младотурецкого государства, продолжает пользоваться плодами своего преступления, в то время как армянский народ уже в XXI веке продолжает вести борьбу со всеми последствиями этого преступления. В этом случае уравнивание ответчика и истца, государства-убийцы и народа-жертвы, обладающих совершенно разными материальными, организационными и прочими ресурсами для отстаивания своей позиции, будет проявлением крайнего цинизма и фарисейства. Если уж вести речь конкретно об исторической науке, ни для кого не секрет, что многие кафедры турецкой истории финансировались и финансируются турецким государством и протурецким лобби, что здесь существует целая система грантов и других поощрений. Но есть и другой, еще более важный фактор, чем финансирование научной деятельности: современный историк не может себе позволить работать в кабинете. Для специалиста по истории той или иной страны жизненно важны поездки в эту страну, общение с коллегами-историками, доступ к архивам и пр. Легко представить всю разницу в отношении турецкого государства и турецкого научного сообщества к зарубежным историкам, признающим и отвергающим Геноцид армян. Говоря об этом, мы не хотим бросить тень на подписантов письма – уважаемых и авторитетных ученых – предположить (увидеть) в их действиях корыстный интерес. Есть, конечно, в письме откровенно корпоративный дух, есть явное преувеличение сферы исключительной компетенции историков. Но главные причины появления письма гораздо глубже. Идея свободы в разных ее ипостасях стала стержнем (и фундаментом) современного западного общества. Любые попытки релятивизации и подвергания сомнению подобных основ чреваты потрясениями или даже разрушением европейского общества. Ярким примером подобной катастрофы является падение советской системы, начавшееся с критического анализа ее идейных основ и догм. Конечно, тоталитарная система в таких случаях оказывается гораздо менее устойчивой, но угроза, тем не менее, чрезвычайно велика. Одним из следствий идеи свободы в западном обществе становятся общественные нормы «объективности», «непредвзятости», «толерантности» и «корректности», которые, будучи доведенными до крайности, становятся диктатом и превращаются в свою противоположность. Для исторической науки это выразилось в том, что творения хронистов и историков прошлого были оценены как пристрастные, односторонние, зараженные духом религиозной, национальной или партийной вражды. Чтобы соответствовать духу нового времени, историческая наука ударилась в новую крайность – почти тотального ревизионизма. Особенно это коснулось вековых конфликтов цивилизаций. К примеру, стало правилом хорошего тона делать акцент на варварской жестокости крестоносцев, благородстве и высокой культуре их противников. А уж Османская империя, о деспотической сущности которой веками было столько написано и сказано, стала задним числом просто мировым образцом гармоничного сосуществования разных культур и религий. Современная турецкая пропагандистская машина хорошо чувствует страх каждого европейского интеллектуала оказаться предвзятым, проявить нетерпимость. И целенаправленно бьет в слабую точку, объявляя все попытки объективного рассмотрения истории Турции рецидивами традиционной враждебности, чуть ли не новым крестовым походом. Выходя за узкие рамки исторической науки, мы не можем обойти еще одну важнейшую тему, не менее важную для общественной мысли послевоенной Европы, чем тема свободы. Это «тирания покаяния», о которой упоминает Леви. «Последние полвека Европа охвачена болью раскаяния, вспоминая свои старые преступления: рабство, империализм, фашизм, коммунизм - все то, что в своей долгой истории она воспринимает как нескончаемую цепь убийств и грабежа, кульминацией которых стали две мировые войны. Европа породила этих «чудовищ», а также стала «матерью» теорий, объясняющих их зарождение и гибель», - пишет Паскаль Брюкнер в майском номере «The Wall Street Journal». Непосредственным поводом для начала эпохи покаяния и ее фокусом стало покаяние за Холокост – Геноцид, осуществленный на территории Европы одними жителями континента над другими его жителями. Это имело одно важное последствие. Если покаяние за колониализм, работорговлю, рождение коммунистической идеологии удачно выстраивалось вокруг главного фокуса покаяния, то Геноцид армян не вписался в эту картину. Сработал психологический механизм: признание чужой прямой ответственности за сходное преступление или своей косвенной ответственности за его конечный успех как бы девальвирует и ослабляет эффект покаяния за центральное, с точки зрения европейцев, преступление века. «Гений Европы заключается в том, что она слишком хорошо осознает хрупкость барьеров, отделяющих ее от ее собственного позора. В крайней форме это осознание выражается в отказе Европы объявлять крестовый поход Добра против Зла», - указывает Паскаль Брюкнер. В своем интервью нашему журналу (см. «Анив» № 5 () Тесса Хофман ясно указала на психологический комплекс своих соотечественников: немцам было очень трудно осудить Турцию за Геноцид, заранее было ясно, что турки обвинят их в попытке замазать таким образом преступления из собственного прошлого. В других европейских странах не было нацизма и фашизма, но были жестокие колониальные войны, работорговля и пр. В Турции прекрасно известны эти комплексы европейского общественного сознания и там не устают напоминать той же Франции об Алжирской войне. Волну признания Геноцида армян в Европе, безусловно, следует связывать со все большей актуальностью приема Турции в ЕС. Хотелось бы верить, что это связано не только со спешным возведением барьеров на ее пути, но и с осознанием неотделимости истории Османской империи и ее республиканской преемницы от истории Европы и восприятием Геноцида армян как европейской катастрофы. Однако многое подрывает эту веру и заставляет думать, что Армянский вопрос для Европы, и не только для нее, есть, как и прежде, только один из политических инструментов, применяемых в отношениях с Турцией и, параллельно, проблема чисто гуманитарной помощи далекому экзотическому «ориентальному» народу. Возможно, в ходе борьбы за Ай Дат в Европе после Второй мировой войны имело смысл делать достаточный акцент не только на турецких злодеяниях, но и совокупной ее вине - в особенности после окончания войны, когда кемалистам было позволено завершить дело султана Абдул-Гамида и Иттихада. Однако до последнего времени интересы успешной интеграции армян требовали от них «не заострять вопросов» и в каждой стране проживания говорить преимущественно о ее исконно-позитивной роли по отношению к армянам. Это было одной из причин, пусть не главной, исключения Армянской Катастрофы из европейского «списка для покаяния». Ныне в силу постепенно вступает новая тенденция: европейцы устали брать на себя вину, особенно перед лицом прогрессирующих старческих болезней Европы и новых угроз ее цивилизации. «Поразителен контраст между идиллическими мечтами европейцев - обществом закона, диалога, взаимоуважения, толерантности - и трагедиями, переживаемыми остальным миром - в авторитарной России, агрессивном Иране, на опустошенном Ближнем Востоке - и воплощенными в последних эпизодах гипертерроризма», - пишет Брюкнер. И еще несколько цитат: «Эта вечная подозрительность, заставляющая нас принижать свои самые выдающиеся достижения, может превратиться в ненависть к самим себе, в безволие и пораженчество. В этом случае у нас останется одно обязательство - выплачивать старые долги, до бесконечности «возмещая» остальному миру то, что мы отнимали у него с незапамятных времен. Смотрите, какая волна покаяния поднялась на наших широтах, особенно со стороны наших главных церквей - протестантской и католической. Подобное осознание собственного прошлого, несомненно, вещь позитивная, но только в том случае, если кающиеся готовы принять и покаяние других, если иные культуры и конфессии признают и свои ошибки»… «Проблема сегодняшней Европы заключается вот в чем: когда вас одолевает чувство вины, вы не в состоянии принимать действительно важные политические решения»… «Задача нового поколения политических лидеров - духовно «перевооружить» Европу, подготовить Союз к столкновениям, которые уже не за горами. Нам нужна настоящая интеллектуальная революция, - если мы не хотим, чтобы покаяние подавило в нас дух сопротивления, связало нас по рукам и ногам, превращая в легкую добычу для фанатиков и деспотов». Было бы все же большим упрощением оценивать программу покаяния послевоенных десятилетий как тотальную, говорить, что европейцы стремились взять на себя ответственность за все, что происходило, или происходит в мире. В частности, Геноцид армян изначально выпал из европейской программы покаяния. Ни прежде, ни теперь он не ощущался в Европе как своя собственная европейская трагедия. Об этом хорошо написано у Роберта Фиска в его статье «Подсчет мертвых. Холокосты против холокостов» («Dead Reckoning. Holocausts vs holocausts» - The Independent, август 2000) (deadreckoning – навигационное счисление, термин, применяемый в мореплавании и авиации, в буквальном смысле «подсчет мертвых» – Прим. ред.) «Да, я упомянул армянский Холокост с заглавной буквы, как и еврейский. В беседе со своим армянским знакомым я сказал, что использовал заглавную букву и для геноцида армян, которая, по моему убеждению, должна быть присвоена всем актам геноцида. Я и представить себе не мог, как быстро мертвые восстанут из своих могил. Когда статья появилась в газете «The Independent», которая никогда не пренебрегала стараниями вывести на свет злодеяния, совершенные над людьми любой расы и веры, заглавная буква была оставлена в моих упоминаниях о еврейском Холокосте, но Армянский Холокост был понижен в статусе до строчной буквы. «Скажи мне, Роберт, - спросил меня армянский друг, подавляя свою ярость, - чем мы, армяне, должны заслужить заглавную букву? Или турки убили нас в недостаточном количестве? Или это потому, что мы не евреи?» Это не было заговором отдела корректуры. Всего лишь строгим соблюдением вполне разумного правила, согласно которому статьи в нашей газете должны придерживаться норм «внутреннего грамматического стиля» и общепринятого словоупотребления. «Еврейский Холокост» традиционно пишется с заглавной буквы, другие - нет. Никто точно не знает причин – так принято писать в газетах и книгах во всем мире, хотя в США не кто иной, как Финкельштейн поставил эту практику под сомнение, сделав ее предметом дебатов. Гарвард отказался от профессорской кафедры «Холокост и родственные исследования», так как академические круги возражали против его объединения с геноцидами других групп (включая армянский) под термином «родственные». Но все это не могло служить ответом на вопросы моего армянского друга. Сказать ему, что его народ не оценивается с большой буквы, было бы постыдным и оскорбительным. Открылась дискуссия внутри самой газеты «The Independent». Я составил записку о том, что слово «холокост» может быть действительно обесценено через злоупотребления и преувеличения – возьмем, к примеру, прошлогоднее сообщение новостных агентств о «холокосте» живой природы после загрязнения нефтью побережья Франции. «Но у меня нет достойного ответа на вопрос моего армянского друга». Ответить мне попросили одного из ведущих мастеров слова нашей газеты, эксперта по грамматике, который постоянно прочесывает ужасы дефиниций в несовершенном и жестоком мире. Он процитировал словарь Chambers, утверждающий, что еврейский Холокост «обычно» пишется с заглавной буквы. И наш эксперт письменно ответил: «По своей природе имя собственное применяется только к одной вещи». Было объявлено много «крестовых походов», но есть только один Крестовый поход (в Средние века), есть много городов (cities), но только один Город (City) – лондонский Сити. То же самое можно сказать о Возрождении. «Может быть только один Холокост, - написал он. - В самом ли деле он уникален? Да. Он был совершен современными европейцами. Его предполагаемое оправдание было извращением теории Дарвина, одного из величайших мыслителей современной Европы. Кроме этого, в газовых камерах и крематориях Холокост поставил производство смерти на промышленную основу. Современному человеку Запада Холокост говорит о том, что совершенство технологии не убережет его от греха, но скорее умножит результаты его грехов. На протяжении истории встречались акты геноцида, в некоторых случаях было убито больше людей, чем это сделали нацисты, но мы называем нацистский холокост «Холокостом», поскольку это наш холокост». «Должны ли мы, - спросил наш эксперт по грамматике, - совершить грамматический ложный шаг и отвергнуть принятое словоупотребление, для которого есть достаточное оправдание? В конце концов, где нам придется остановиться? Не являются ли преступления Сталина против национальных меньшинств в Советском Союзе столь же тяжкими, как массовые убийства армян? А как насчет «красных кхмеров»? Руанды? Разрушения Карфагена римлянами? Каждое из них тоже нужно именовать с большой буквы – «Холокост»? Если нет, то почему?» Конечно, Фиск обоснованно возразил в своей новой статье, что слова «Холокост» или «Геноцид» пишутся с большой буквы, прежде всего, потому, что жертвами их были люди, все остальные причины вторичны и несущественны. Но, тем не менее, в ответе эксперта газеты четко проступает главная проблема: отношение Европы к Геноциду армян определяется тем, что Армянский мир, армянская культура, по всей видимости, не воспринимаются в качестве части Европейского мира, европейской культуры. Обратим внимание на примеры преступлений против человечности, не заслуживающих заглавной буквы, на их географию – Северный Кавказ, Юго-Восточная Азия, юг и север Африки. Впрочем, дело не только в географии, цивилизационные границы Европы никогда не совпадали с географическими границами континента и всегда были гораздо уже. Если наше предположение верно, тогда на третий вопрос, поставленный в самом начале редакционной статьи, придется дать отрицательный ответ. Тема непростая, достаточно важная, по ней полезно было бы представить разные мнения. Перевод с французского Арама Прозяна и Дианы Степанян. Примечания Дианы Степанян.
-
Часть III Нашим читателям также должна быть небезынтересна статья Бернара-Анри Леви (Bernard-Henri Lévi), появившаяся в феврале 2007 года в газете «Le Monde». Вначале несколько слов об авторе. Бернар-Анри Леви (урожденный Бернар Леви, родился 5 ноября 1948 года) — известный французский писатель, журналист, режиссер. Один из создателей направления «новая философия» в 1976 году. Бывал во многих горячих точках: Бангладеш — во время войны за независимость, Афганистан — в начале 1980-х, Алжир — во время гражданской войны, Шри-Ланка, Ангола, Косово, Судан и т. д. Этим событиям посвящены многие его репортажи и книги. В ноябре 1984 года получил премию Медичи (Médicis) за свой роман «Дьявол в голове», в 1988-м - Межсоюзную премию за роман «Последние дни Бодлера». В 1992 году на телеканале France 3 выходит документальный фильм Леви и Алена Феррари «Один день в смерти Сараево». С 1993 года Леви - президент Наблюдательного Совета известнейшего телевизионного канала Arte. Один из последних его творений – опубликованная в 2006 году книга про США «Американское головокружение». Оценки творчества Леви часто противоположны из-за его неполиткорректности и ангажированности. Оценки творчества Леви критиками и читателями зачастую противоположны, что, во многом, связано с его отказом следовать принятым нормам политкорректности и ангажированности (и четкой политической ориентацией – ангажированность в русском несет несколько другой смысл). Негационизм Армения: закон противостоит геноциду Мы говорим: «Не закон должен писать историю...» Абсурд. История уже написана. Армяне стали жертвами геноцида в прямом смысле слова, то есть жертвами запланированного уничтожения, как говорил Черчилль. Об этом во весь голос заявлял Жорес1. Пеги2, вставший на защиту Дрейфуса3, говорил о начале геноцида как «о самой массовой резне века». Турки не отрицают факта резни. Да, об этом мало что известно, хотя в 1918 году Мустафа Кемаль признавал бойню, учиненную правительством младотурок; военные трибуналы вынесли сотни смертных приговоров. Я уже не говорю об историках и теоретиках геноцида, исследователях Яд ва-Шем4 – об Иегуде Бауэре5, Рауле Хилберге6 , не говорю обо всех ученых, для которых, за исключением Бернарда Льюиса7, вопрос о том, имел ли место геноцид, никогда не ставился и не ставится. Речь не идет о том, чтобы «рассказать Историю». История давно уже рассказана, повторена и пересказана. Речь идет об отрицании оной. Сенат собирается обсудить лишь средство усложнить хоть немного жизнь тем, кто наносит оскорбление. Во Франции есть законы против оскорбления и клеветы. Но разве не должно быть закона, наказывающего «абсолютное оскорбление», направленное против памяти погибших? Мы говорим: «Ладно, но, как бы то ни было, закон не должен вмешиваться в дело выяснения правды, поскольку он мешает историкам работать». Чушь. Напротив, именно негационисты мешают историкам работать. Именно негационисты своими уловками заметают следы. Возьмем закон Гайссо. Назовите мне хоть одного историка, которому мешал бы работать закон Гайссо, преследующий отрицание истребления евреев. Именно закон мешает Ле Пэну8 или Гольнишу9 перегибать палку. Именно закон ограничивает в выражениях Фориссона10. Закон стесняет поджигателей душ вроде Дьедонна11. Именно он ограждает нас от маскарадов вроде процесса над супернегационистом Дэвидом Ирвингом12, который проходил в Лондоне семь лет назад. Тогда, за неимением закона, все увидели скандалящих судей, прокуроров, адвокатов, журналистов, которые подменили собой историков, внеся тем самым смуту в умы. Закон ни разу не встал поперек дороги ни одному историку, достойному этого звания. Именно этот закон, вопреки тому, что о нем нам говорят, защищает историков, подписавших петицию, от негативистского загрязнения. То же самое будет и в случае с распространением закона Гайссо на отрицание армянского геноцида. Мы говорим: «Где остановиться? Почему бы тогда не принять законы о колониализме, Вандее, карикатурах на Магомета? Не ориентируемся ли мы на десятки законов памяти, единственный результат которых будет в том, чтобы запретить высказывание неугодных мнений?» Еще одна ошибка, очередной подводный камень. Речь ведь не о законах памяти, речь о геноциде. И не о том, чтобы законодательствовать над всем и вся, но принимать законы исключительно по поводу геноцидов. А их не сотня и не десяток, а четыре, возможно, пять, вместе с Руандой, Камбоджей и Дарфурoм. Происходит интеллектуальное мошенничество со стороны тех, кто устрашает нас увеличением числа новых законов, посягающих на свободу мысли. Давайте говорить серьезно: это не вопрос неугодного мнения - вопрос в негационизме, и только в нем. Речь идет об очень особенном складе ума, он состоит не в том, чтобы иметь хоть какое-нибудь мнение о причинах победы Гитлера или младотурок, но в утверждении, что реальность не имела места. Не надо нас шантажировать тиранией покаяния! Давайте покончим с неверным аргументом о ящике Пандоры, открывающем путь всеобщей инквизиции! Тот факт, что можно наказать антиармянский негативизм, никоим образом не повлечет распространения метастаз политкорректных законов. Мы говорим еще: «Давайте не будем все путать; не нужно брать на себя риск, банализируя Шоа13». Мой ответ совершенно ясен. Конечно, это не одно и то же. Разумеется, и число жертв, и степень иррациональности, достигнутой убийцами, и то особое отношение к технике, повлекшее изобретение газовой камеры, – да, все это придает Shoah неизбежное своеобразие. И к этой очевидности я добавлю два замечания. Возможно, это и не одно и то же, но, по крайней мере, очень похоже. И первым, кто это уразумел и воспользовался опытом, был некий Адольф Гитлер. Мы никогда не узнаем, до какой степени антиармянский геноцид его поразил, заставил задуматься и, осмелюсь сказать, вдохновил. Армянский геноцид стал первым геноцидом во всех смыслах: образцовым и почти семенным; геноцидом-полигоном, лабораторией геноцида с точки зрения нацистов. И еще одно соображение. Погрузившись в негационистскую литературу по армянской тематике, я с удивлением обнаружил, что она в буквальном смысле ничем не отличается от знакомой мне литературы, ставящей себе похожую цель в отношении евреев. Та же риторика. Те же аргументы. Та же манера занижать число жертв (пусть и не в таком объеме), обосновывать (массовые убийства вписываются в логику войны), подменять роли (как Селин14 сделал евреев ответственными за войну или как турецкие негационисты объясняют, что именно армяне своей двойной игрой и союзом с русскими сами обрекли себя в жертву) и, наконец, все делать относительным (какая разница между Аушвицем и Дрезденом, между жертвами геноцида и турками, павшими от рук армянских вооруженных формирований?) Короче. В ответ тем, кто пытается затевать игры с памятью, я хочу высказаться в пользу братства жертв геноцида. Это позиция Яна Паточки15, философа «солидарности поверженных». Такова была позиция основателей Израиля, которые чувствовали общность судеб с потерпевшими армянами. Борьба против негационизма неделима. Дать шанс одному значило бы открыть брешь другому… Наконец, мы приводим решительный аргумент: «Почему бы не позволить правде защищаться самой? Или она недостаточно сильна для того, чтобы вывести негационистов на чистую воду?» В том и дело, что нет! Потому что у антиармянского негационизма есть особенность, которая не отслеживается в случае с евреями: это негационизм на уровне государства, с опорой на ресурсы, дипломатию, шантаж крупного государства. Представьте на секунду положение выживших в Шоа, если бы немецкое государство после войны было негационистским! Представьте себе их еще более тяжкие страдания, если бы Германия не раскаялась, если бы она предприняла ответные меры против обвинений в том, что трагедия сортируемых на платформе Аушвица мужчин, женщин и детей есть не что иное, как геноцид?! Вы именно в таком положении, армянские друзья; ваше бедствие не имеет себе равных, и я далеко не уверен, что у правды, во всей ее красивой наготе, будет достаточно силы, чтобы отстоять себя. Заключительное слово. Вы помните, как Гиммлер в 1942 году создал специальную боевую группу, группу 1005, призванную выкапывать мертвые тела и сжигать их. Вы знаете об эвфемизмах, используемых вместо слов «массовые убийства», чтобы, тем самым, хоть в разговоре сокрыть то, что происходило в действительности. Закономерность та же, что и для Шоа - эту теорему я называю теоремой Клода Ланзманна16, в соответствии с ней идеальное преступление не должно оставлять следов, заметание следов входит неотъемлемой составной частью в само преступление. Столь очевидный негационизм является не следствием геноцида, а его составляющей. Это общее явление для всех геноцидов и, само собой, для геноцида армянского народа. Нам кажется, что эти люди выражают мнение, а они увековечивают преступление. Они считают себя вольнодумцами, апостолами сомнений и предположений, а они завершают работу смерти. Против негационизма закон необходим, ибо негационизм в строгом смысле этого слова – высшая стадия геноцида. ________________________ 1 Жан-Жорес – знаменитый французский политический деятель, социалист. Горячий поборник освобождения армянского народа от османского владычества. В 1897 году Жорес выступил горячим и страстным борцом в защиту Дрейфуса, наряду с Золя и Клемансо сделал очень много для его реабилитации. 2 Шарль Пеги – французский писатель, поэт и эссеист конца XIX – начала XX веков, социалистический активист и дрейфусар. 3 Альфред Дрейфус - французский офицер, еврей по происхождению, обвинялся в шпионаже в ходе знаменитого процесса Дрейфуса и был оправдан. В поддержку Дрейфуса встали многие известные французские интеллектуалы того времени. 4 Яд ва-Шем (ивр. יד ושם) — национальный мемориал Шоа (Холокоста) и Героизма, расположенный в Иерусалиме. Название происходит от библейской цитаты «Там дам Я в доме Моем и в стенах Моих место (yad) и имя (vashem)… дам им вечное имя, которое не истребится» (Исаия: 56. 5). 5 Историк, профессор по исследованиям Холокоста в Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry при Hebrew University Иерусалима. 6 Американский историк и политолог, специалист по Шоа мирового масштаба. Его труд «Истребление евреев Европы» стал одним из известнейших в области исследований Холокоста. 7 Историк, востоковед. Известен также отрицанием факта армянского геноцида. 21 июня 1995 года был осужден Гражданским Судом Парижа «за совершение ошибки в качестве историка и за измену своим обязанностям сохранять объективность». 8 Французский ультранационалист. Руководитель партии «Национальный Фронт». 9 Французский политик, главный уполномоченный партии «Национальный Фронт». Негационист еврейского геноцида, был приговорен в январе 2007 года к трем месяцам тюрьмы с отсрочкой и 55 000 евро возмещения убытков гражданскому истцу за «правонарушение – словесное оспаривание существования преступления против человечности». 10 Преподаватель университета и французский литературный критик, более известный французской публике за свою негационистскую речь, отрицающую существование газовых камер и лагерей смерти во время Второй мировой войны. Многократно был осужден французской юстицией по закону Гайссо. 11 Французский актер и юморист, с 1997 года начал заниматься политикой, известен антисемитскими высказываниями. 12 Британский писатель и историк-ревизионист. Был осужден в Австрии за отрицание Холокоста, вместо положенных трех лет отсидел один год и был освобожден. 13 На иврите термин «Шоа» (השואה) означает бедствие, катастрофу. Холокост также принято называть «Катастрофой европейского еврейства» или просто «Катастрофой». 14 Французский врач и писатель. Один из самых известных французских писателей XX века, спорная фигура. В его произведениях присутствуют антисемитские высказывания. 15 Чешский философ первой половины XX века. Представитель течения феноменологии. 16 Французский режиссер, сценарист и продюсер еврейского происхождения.
-
Часть II. «Свобода для истории» «Петиция за отмену статей законов, которые ограничивают исследования в этой научной дисциплине и ее преподавание (ежедневная газета «Liberation» от 13 декабря 2005 года) Взволнованные все более частыми политическими вмешательствами в оценку событий прошлого и юридическими процедурами, затрагивающими историков и мыслителей, мы считаем важным напомнить следующие принципы. История не религия. Историк не принимает никаких догм, не чтит никаких запретов, не знает никаких табу. По этой причине он может стать помехой. История не мораль. Роль историка – не восхвалять или осуждать, а объяснять. История не раба современности. Историк не приклеивает к прошлому современные идеологические схемы и не вкладывает в события прошлого восприятие сегодняшнего дня. История не память. Руководствуясь научным подходом, историк собирает воспоминания людей, сравнивает их между собой, сопоставляет с документами, предметами, следами и устанавливает факты. Историк принимает во внимание память, но не ограничивается только ею. История не объект юридического рассмотрения! В свободном государстве не парламент и не юридическая власть должны определять историческую правду. Политика государства, даже если она руководствуется наилучшими намерениями, не является политикой истории. Нарушая эти принципы, статьи некоторых законов, в частности, от 13 июля 1990 года, от 29 января 2001 года, от 21 мая 2001 года, от 23 февраля 2005 года, ограничили свободу историка. Ему сказали под страхом санкций, что он должен искать и что должен найти. Ему предписали методы и поставили ограничения. Мы просим об отмене этих законодательных распоряжений, которые недостойны демократического режима. Подписавшиеся: Jean-Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Jean-Jacques Becker, Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Rémond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet, Michel Winock. Всего 19 человек». 20 декабря 2005 года 31 влиятельный деятель – в том числе писатели, юристы и историки – высказались против петиции: «Возражая против петиции «Свободу для Истории», мы считаем, что право на защиту достоинства не ограничивает свободу выражения мнения. Мы требуем для всех полной и всеобъемлющей свободы вести исследования и выражать свое мнение. Однако мы считаем крайне опасным смешивать один в высшей степени спорный закон с тремя другими, радикально отличающимися. Один из законов делает политическую точку зрения законным содержанием школьных учебников, и желательно было бы его отменить. Остальные законы признают достоверные факты совершенных геноцидов или преступлений против человечности, чтобы бороться против отрицания и сохранить достоинство жертв, оскорбленных этим отрицанием. Эти три закона ни в коем случае не ограничивают свободу исследований и самовыражения. Кому из историков когда-либо помешали по закону Гайссо работать над исследованием Холокоста и говорить о нем? Закон, декларированный 29 января 2001 года, не устанавливает историю. Он принимает к сведению факт, уже установленный историками, – геноцид армян – и публично противостоит отрицанию государства, могущественного, извращенного и изощренного. Что касается закона Тобира, он просто ограничивается признанием рабства и торговли невольниками преступлениями против человечности, которые должны изучаться в качестве таковых в школьных и университетских программах. Законодатель не вступил на территорию историка, он коснулся ее, чтобы ограничить отрицание в этих очень специфических исторических вопросах - преступный размах сделал их предметом политических попыток искажения. Принятые законы не наказывают за мнение, они признают и называют по имени преступления, которые угрожают общественному порядку наряду с расизмом, клеветой или распространением ложной информации. Может ли историк быть единственным гражданином, стоящим выше закона? Будет ли он пользоваться правом с легкостью переступать через единые для всех правила нашего общества? Здесь нет духа Республики, где 11-я статья «Декларации прав человека» напоминает нам, что «каждый гражданин может говорить, писать, свободно печатать, за исключением предусмотренных законом случаев злоупотребления этой свободой». Подписавшиеся: Claire Ambroselli, Muriel Beckouche, Tal Bruttmann, Yves Chevalier, Didier Daeninckx, Frédéric Encel, Dafroza Gauthier, Alain Jakubowicz, Bernard Jouanneau, Raymond Kévorkian, Serge Klarsfeld, Marc Knobel, Joël Kotek, Claude Lanzmann, Laurent Leylekian, Stéphane Lilti, Eric Marty, Odile Morisseau, Claire Mouradian, Assumpta Mugiraneza, Claude Mutafian, Philippe Oriol, Gérard Panczer, Michel Péneau, Iannis Roder, Georges-Elia Sarfati, Richard Sebban, Yveline Stéphan, Danis Tanovic, Yves Ternon, Philippe Videlie».
-
Рачья Арзуманян Европа и Мец Егерн Часть I Армянский мир по-прежнему тратит большие силы на борьбу за международное признание Геноцида (Мец Егерна). Признавая важность этой проблемы, трудно спорить с тем, что первоочередными задачами Армянства должны быть укрепление возрожденной армянской государственности. В Армянском мире постепенно ширится понимание того, что именно сильная государственность – ключевой фактор в решении задач Ай Дата. Одновременно продолжает сказываться инерция прежних десятилетий (эпохи) и смещение фокуса, отчасти неизбежное для периода отсутствия государственности, но совершенно неоправданное теперь. Оно связано с традиционной для армянского общества духовной болезнью - апелляцией к внешнему миру, идущей от неверия в достаточность совокупных сил Армянства для решения стоящих перед ним масштабных задач. Особенно опасны попытки разделить эти задачи, представить Ай Дат исключительно как задачу Спюрка, а вопрос укрепления государственности исключительно как дело населения Армении. После возрождения армянской государственности и победы в Арцахской войне Армянство так и не смогло совместными усилиями выработать идейные основы Армянского мира в XXI веке, программу внутренней мобилизации нации для решения приоритетных общенациональных задач. Наш народ пока еще не пришел к ясному и безусловному пониманию того, что «точкой опоры», «отправным пунктом» для обретения во всей полноте родного Нагорья будут не резолюции зарубежных парламентов и международных организаций. В лучшем случае они помогут армянам вернуться на родину предков в качестве частных лиц. Для будущего восстановления суверенитета над Нагорьем нам нужна, в первую очередь, сильная и подлинно суверенная армянская государственность. Если же задача возвращения потерянной части Отчизны не ставится, и речь идет только о символическом акте признания и покаяния со стороны Турции, о возможных «гуманитарных» компенсациях, тогда цели и задачи Ай Дата тем более становятся вторичными для Армянского мира. Стоит ли сегодня жадно следить по всему миру за принятием резолюций и безучастно относиться к возможности уступки освобожденных территорий в Арцахе? С нашей точки зрения международное признание Геноцида есть важный шаг, но только шаг Армянства на долгом пути возвращения на Нагорье. Задачи признания Геноцида и укрепления армянской государственности решаются не в вакууме, а в сложной международной обстановке. В этой среде огромную, пока еще не до конца осознанную нами роль играют общественное мнение, различные тенденции в духовной жизни Европы и остального мира. Их нужно знать, с ними нужно уметь работать. В частности, во Франции нам небезынтересны дебаты, которые до сих пор активно ведутся вокруг «петиции историков», напечатанной в декабре 2005 года в газете «Liberation». Речь идет о «законах, относящихся к памяти». Во Франции к таковым относят: - Закон Гайссо, принятый 13 июля 1990 года, который предусматривает наказание за оспаривание (непризнание) одного или нескольких преступлений против человечности, определенных в статье 6 устава международного военного трибунала, приложенного к Лондонскому Соглашению от 8 августа 1945 года (главным образом речь идет о Холокосте); - Закон от 29 января 2001 года, согласно которому Франция публично признает Геноцид армян, совершенный в 1915 году; - Закон от 21 мая 2001 года, известный также как закон Тобира. Придавая рабству статус преступления против человечности, он предписывает школьным программам, а также программам исследований по истории и гуманитарным наукам придавать особое значение темам, касающимся рабства, работорговли и эксплуатации труда чернокожих; - Закон от 23 февраля 2005 года — о французском присутствии на заморских территориях, согласно которому школьные программы должны показать позитивную роль французского присутствия на заморских территориях, в частности, в Северной Африке.