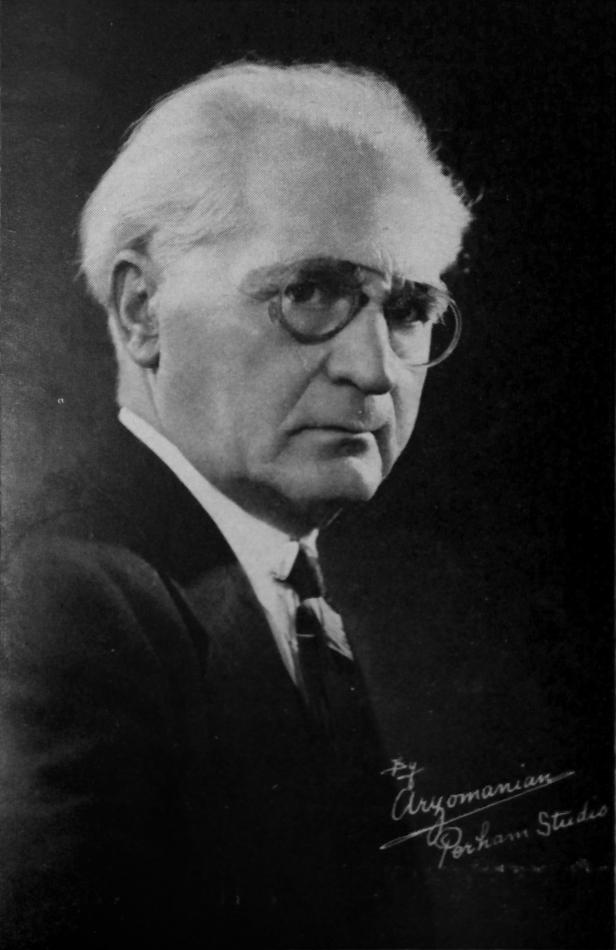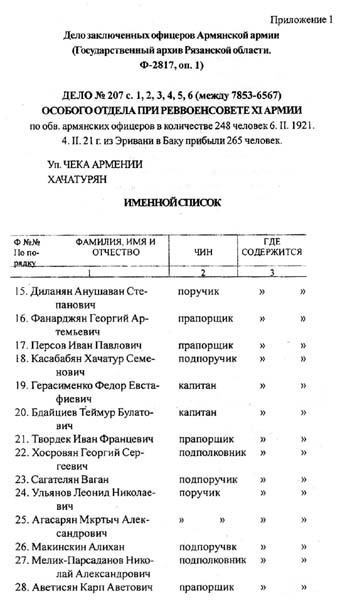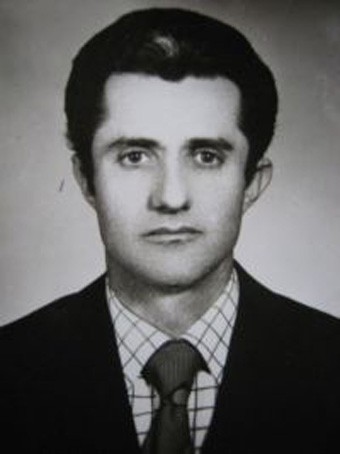-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
Армянский боксер Грачья Джавахян стал чемпионом Европы по боксу Армянский боксер Грачья Джавахян в весовой категории до 64 кг завоевал золотые медали на завершившемся в субботу в Москве чемпионате Европы по боксу. В финале Джавахян победил венгра Дьюла Кате (Венгрия) со счетом 3:2.
-
У войны не тюркское лицо 12 июня в Ереване состоялась пресс-конференция политолога, руководителя портала Voskanapat.info Левона Мелик-Шахназаряна. Темой пресс-конференции явилось обострение отношений между Израилем и Турцией. На встрече с журналистами были затронуты также проблема Нагорно-Карабахской Республики и возможное развитие политической ситуации в регионе. В своем вступительном слове Л. Мелик-Шахназарян выразил убеждение, что «флотилия свободы» и столкновение с израильским морским спецназом явились хладнокровно продуманной провокацией со стороны турецкого правительства. «Турция сделала все, чтобы пролилась кровь, - заявил политолог, - если бы пассажиры корабля подчинились требованиям военных, а не напали на них с железными прутьями и топорами, уверен, крови не было бы». Л. Мелик-Шахназарян считает, что Анкара, несколько лет назад взявшая на вооружение политику неоосманизма, стремится также к возрождению роли халифата на обширном пространстве Большого Ближнего Востока. «Турция мечтает стать лидером исламского мира, а Р. Эрдоган, по всей видимости, спит и видит себя в обличье халифа». Ради этих целей Турция решилась на демонстративный конфликт с государством, с которым на протяжении десятилетий поддерживала дружественные и союзные отношения. После краткого вступления последовали вопросы журналистов. На днях три израильских профессора обратились к правительству страны с предложением признать Геноцид армян 1915-23 годов в Османской Турции. Может ли данный конфликт отразиться на позициях Израиля в этом вопросе? В Израиле всегда была немалая прослойка интеллигенции, требующих от правительства признать Геноцид армян. Среди них были партийные и государственные деятели, научные и творческие работники. Буквально вчера русскоязычная электронная газета Израиля опубликовала обширную статью, в которой рассказывалось о подобных инициативах в Израиле и о противодействии Турции. Упомянутое вами письмо профессоров можно причислить к тому же ряду. Однако в сегодняшнем Израиле сторонников признания Геноцида армян действительно намного больше, чем некоторое время назад. Более того, между крупнейшими армянскими и еврейскими лоббистскими организациями в США ныне проводятся консультации по координации деятельности по признанию Геноцида. В связи с этим иногда слышатся голоса некоторых армянских политологов, «озабоченных» тем, что зарождающийся или набирающий в Израиле силу процесс признания Геноцида армян носит конъюнктурный и политический характер. Считаю подобный подход к вопросу ошибочным. Надо быть прагматичным. За небольшим исключением практически все страны, признавшие Геноцид армян, делали это исходя из собственных политических задач. И если сегодня Иерусалим решит пойти этим путем, то мы должны лишь приветствовать подобное решение. Сегодня в мировой прессе много пишется о неадекватном ответе Израиля на попытку прорвать блокаду сектора Газа. Согласны ли Вы с этим мнением? И второй вопрос: может ли нынешнее обострение ситуации обернуться войной между Израилем и Турцией? 1. Я еще раз хочу обратить внимание: насилие начали так называемые «миротворцы», набросившиеся на солдат ЦАХАЛАа. Зная турок не понаслышке, считаю себя вправе заявить: если бы военные не применили оружие, они были бы забиты до смерти. То есть, израильским военным необходимо было не только выполнить приказ, но и спасать свои жизни. Другого выхода, кроме как применить оружие, у них просто не было. Вернее, Турция им другого выхода не оставила. 2. Трудно однозначно ответить на этот вопрос. В первые июньские дни накал страстей был очень высок: Эрдоган даже заявил о своем желании перевоплотиться из премьеров в адмиралы и приплыть в Газу на военном эсминце. Однако в последние два дня наблюдается смягчение ситуации: Абдуллах Гюль, например, заявил, что Израиль может потерять своего друга. Израиль, в свою очередь, выразил готовность на послабления в блокаде Газа. Необходимо также учесть, что и в Израиле и в Турции существуют политические партии и влиятельные организации, стремящиеся сохранить союзнические отношения между обоими государствами. Вместе с тем, понятно, что отношения между этими государствами восстановятся не скоро. И если Израиль и Турция, что естественно, постараются дистанцироваться от войны, то взаимные враждебные действия между ними прогнозировать не трудно. Необходимо также учесть тот важный факт, что население Турции в основном ненавидит Израиль и евреев. Схожая ситуация и в Израиле. Проведенные на днях социологические опросы лишь подтвердили усиление взаимного недоверия и вражды. Два года назад, во время ввода израильских войск в Газу, Вы выступали в защиту палестинцев. Изменилось ли Ваше мнение по этому вопросу? Нет, не изменилось. Я и сейчас считаю, что мирное население не должно и не может страдать из-за просчетов своего руководства. Движение ХАМАС, руководящее с 2007 году в секторе Газа, по сути, узурпировало власть в этом регионе, что тяжело отдается на жизни населения. Вместе с тем, ведя борьбу с ХАМАСом, Израиль, безусловно, должен учитывать наличие в Газе гражданского населения. То, что политика и действия ХАМАСа причиняют беспокойство не только израильтянам, но и всему региону, красноречиво подтверждается фактом блокады сектора Газа со стороны арабского же Египта. Египет даже строит на границе с Газой железобетонную стену, уходящую глубоко в землю (тем самым перекрывая палестинцам возможность строить туннели). Однако, обратите внимание, Турция не требовала от Египта снять блокаду с Газы, ибо ухудшение отношений с арабской исламской страной способно помешать претворению в жизнь ее политике неоосманизма. Напротив, громкий скандал с Израилем призван поднять авторитет Турции в среде радикально настроенных арабов. Какие враждебные действия между Израилем и Турцией Вы ожидаете? Как я уже сказал, Турция и Израиль постараются избежать взаимной войны. Вместе с тем, у меня нет никаких сомнений в том, что Турция постарается еще более обострить отношения между Израилем и арабским миром. А в этом случае кровь, и немалая, прольется непременно. И эта кровь будет на совести Турции. Анкара, в результате провокации с «флотилией мира» приобретшая немалый, хотя и более чем сомнительный, авторитет в среде арабских радикальных исламистских кругов, обязательно постарается использовать его против Израиля. В свою очередь, не думаю, что Израиль будет терпеливо взирать на эти действия. У Израиля также есть мощный козырь: курдское население Турции. Думаю, Израиль поддерживает отношения с Курдской рабочей партией, во всяком случае, было бы странно, если бы этого не было. Участившиеся в последние дни диверсионные акты курдов должны заставить Анкару задуматься о будущем Турции. Немаловажны и «баталии» в международных структурах, различных межгосударственных организациях, медиапространстве и т.д. Наконец, вполне прогнозируемо экономическое противостояние. При этом, естественно, потери понесут обе стороны, однако у Израиля, обладающего передовой технологией, в отличие от Турции, намного больше возможностей переориентироваться на другие государства. Может ли ухудшение отношений между Израилем и Турцией отразиться на нагорно-карабахской проблеме? Опосредованно, да. К примеру, внимание Турции – важнейшего союзника Азербайджана – сегодня сконцентрировано далеко не на Карабахе. Кроме того, нынешний конфликт способен ухудшить отношения между Азербайджаном и Турцией. Азербайджанцы, будучи турками и мусульманами, безусловно, симпатизируют Турции в ее конфликте с Израилем. Вместе с тем, Баку совсем не улыбается перспектива потерять важного экономического и политического союзника, каковым на сегодня является Израиль. Учтем также, что между Израилем и Азербайджаном налажено сотрудничество в военно-технической сфере, что для усиленно милитаризующейся закавказской республики имеет огромное значение. Конечно, если дело дойдет до открытого столкновения между Израилем и Турцией, то Азербайджан станет на сторону турецких братьев, а пока Баку пытается лавировать между противоборствующими сторонами. В последнее время наблюдается сближение между Турцией и Ираном. Может ли конфликт между Израилем и Турцией привести к рождению новых политических союзов и блоков. Собственно говоря, это уже происходит. Так, накануне, в рамках турецко-арабского Экономического форума в Стамбуле, Турция и арабские государства – Ливан, Иордания и Сирия заявили об учреждении Совета Сотрудничества. Явственно видны усилия по созданию политического блока Иран-Сирия-Турция… Однако все эти блоки носят временный характер. Между входящими в них государствами существуют глубокие цивилизационные, исторические, политические и религиозные противоречия, преодолеть которые можно лишь на короткое время. Это не стратегические, а тактические союзы, построенные исключительно на почве неприязни к общему сопернику. А такие союзы долго существовать не могут. Учтем также, что Турция по сей день оккупирует, например, принадлежащий Сирии Александреттский санджак; Анкара, вместе с Азербайджаном, занимается подрывной деятельностью в северных тюркоязычных регионах Ирана. Вряд ли в арабском мире забыли долгие века пребывания под турецким игом, тяготы, по сравнению с которыми нынешнее противостояние с Израилем может показаться детскими шалостями. Может ли обострение отношений в регионе подтолкнуть Азербайджан «под шумок» возобновить военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики? В Азербайджане сегодня ненормально высокое количество самоубийств. Там вешаются, топятся, стреляются, травятся... Вместе с тем, не думаю, что Азербайджан сегодня способен решиться на коллективное самоубийство. У войны не тюркское лицо. Тюрки сильны при набегах, грабежах, убийствах. Что же касается чисто военных действий, то им еще много чему есть учиться. И очень долго. А в ситуации, когда внимание Турции отвлечено от Южного Кавказа, бакинским ястребам остается лишь продолжать грабить собственное население. Это у них получается несравненно лучше.
-
-
Один уже только факт существования на свете азербайджанцев убедительно доказывает, что мы не одни во Вселенной.
-
Приезжает американец в Ирландию. Там на какой-то глухой улице к нему сзади подходит какой-то тип и, ткнув ему ствол в спину, спрашивает: - Ты католик или протестант? Американец думает: "Если скажу, что католик, он может оказаться протестантом, и наоборот". И решает схитрить: - Я не католик, и не протестант, я иудей! Сзади доносится: - Аллаху Акбар! Я, наверное, самый счастливый палестинец в Ирландии!!
-
Плечом к плечу с Турцией? 8 июня в Стамбуле, во дворце «Чыраган» состоялся третий саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на котором приняли участие лидеры большинства азиатских государств. Разворачивающиеся в регионе события, в частности, все более разгорающийся турецко-израильский конфликт повлияли на выступления глав государств СВМДА. В свою очередь, турецкие политики и СМИ уделяли самое пристальное внимание риторике и комментариям присутствующих на саммите глав государств относительно конфликта. И более всего это внимание было сконцентрировано на выступлении президента Азербайджана, государства, отношения которого с Израилем в последнее время бурно развивались практически во всех областях. Интерес к выступлению И. Алиева подогревался не только в силу того, что многонациональный Азербайджан позиционирует себя в качестве тюркского государства, но и в силу невнятных оговорок официальных структур этой республики по поводу задержания организованной Анкарой провокационной «флотилии свободы». Именно подобные комментарии дали возможность послу Израиля в Баку заявить о том, что руководство Азербайджана приняло взвешенную политику, а пресса «ведет себя сдержанно». В свою очередь нами было высказано предположение, что истинная позиция Азербайджана по турецко-израильскому конфликту будет высказана Алиевым на саммите СВМДА в Стамбуле. Действительно, все свое выступление на саммите И. Алиев посвятил двум проблемам: нагорно-карабахскому конфликту и отношениям Израиля и Турции. Комментировать выступление Алиева по части нагорно-карабахского конфликта не имеет никакого смысла: Алиев, словно профессиональный мугаматист просто повторяет выученные много лет назад лады и интонации надоевшей лживой песни о «миллионе беженцев», «двадцати процентах» «оккупированной азербайджанской территории» и неуступчивости руководства армянских государств. Все это выглядит смешно, но совершенно не интересно. Как хорошо известный бородатый анекдот в устах опытного, но порядком надоевшего рассказчика. Гораздо интереснее было выступление Алиева в части конфликта между Турцией и Анкарой. Поскольку выдержки из речи Алиева в различных СМИ были слегка «отредактированы» согласно политическим пристрастиям их руководителей, пришлось обратиться к авторитетному источнику: азербайджанскому правительственному новостному сайту «Азертадж». Выяснилось, что Алиев, как и «азербайджанский народ», «солидарен с нашими турецкими братьями в связи с совершенным в Средиземном море нападением на гуманитарное грузовое судно, приведшим к гибели невинных гражданских лиц». Тема «невинности» вооруженных традиционным турецким оружием «миротворцев» – железные прутья и топоры – совершенно отдельная, и мы ее здесь касаться не будем. Нам гораздо интереснее значение следующего пассажа из выступления президента Азербайджана: «Мы решительно осуждаем это нападение и стоим плечом к плечу рядом с Турцией». Означает ли это, что Баку, как и Анкара, готов разорвать с Иерусалимом энергетические и военные контракты, или Азербайджан, стоя «плечом к плечу с Турцией», продолжит дышать в пупок Израилю? В речи Алиева, несмотря на умилительную «невинность» «миротворцев» и турецкое «плечо», существовало двусмысленное предложение, мешающее определиться с его позицией. «Борьба с терроризмом должна идти против всех террористических организаций в мире. Не бывает хорошего или плохого террориста», - заявил президент Азербайджана, и призвал к консолидации усилий против терроризма. Фраза эта более чем двусмысленна. И речь даже не о том, что Азербайджан, долгие годы спонсировавший терроризм в России, в последнее время сам порождает террор и террористов (видимо, «хорошие» террористы все же бывают). Пикантность ситуации состоит в том, что Азербайджан не признает террористическими организациями Рабочую партию Курдистана (РПК), ХАМАС и Хизбаллу. Между тем, турецкое законодательство десятилетия назад признало РПК террористической организацией и Турция все это время ведет с ней бескомпромиссную и кровопролитную войну, жертвами которой, по официальным данным, стали свыше сорока тысяч человек. В свою очередь, Израиль признает ХАМАС и Хизбаллу в качестве террористических организаций. Отметим, что и РПК, и ХАМАС, и Хизбалла признаны многими государствами мира в качестве террористических организаций. Многими, но не Азербайджаном. В этих условиях становится непонятно: против каких «хороших и плохих» террористов призывает И. Алиев консолидировать усилия. Судя по тому, что вечером того же дня И. Алиев провел в Стамбуле незапланированную пресс-конференцию для азербайджанских журналистов, Абдуллах Гюль и Реджеп Эрдоган обратили внимание на двусмысленность речи Алиева. И настоятельно посоветовали ему определиться в своих пристрастиях и выражениях. Что он и сделал. На встрече с азербайджанскими журналистами Алиев был гораздо более категоричен: «Мы всегда с Турцией. Мы никогда не жалели своей поддержки для Турции, и сегодня мы также оказываем поддержку этой стране. Мы подняли голос против кровавого события в отношении гражданских лиц в международных водах, против этого нападения. И сегодня я в ходе своего выступления еще раз выразил это. Мы осуждаем это нападение. Мы выражаем свою солидарность с Турцией, турецким народом, выражаем соболезнования близким жертв. Считаем, что необходимо провести серьезное расследование, преступники должны быть привлечены к ответственности. То есть здесь наша позиция, еще раз хочу отметить, однозначна, категорична, и основывается на наших братских отношениях с Турцией… Знаете, это – момент истины». Безусловно, Алиев еще не раз может поменять «свое» мнение. Человеку, способному на кощунственную подделку подписи у постели умирающего отца, вряд ли известны такие понятия, как честь, достоинство или, тем более, угрызения совести. Не исключено также, что Турция и Азербайджан попробуют разыграть перед Израилем спектакль в «доброго» и «злого» турка. И, тем не менее, вся эта история с метаниями от одного потенциального благодетеля к другому не может остаться незамеченной. Ильхаму Алиеву, скорее рано, чем поздно, придется выбирать: или признать ХАМАС и Хизбаллу террористическими организациями со всеми вытекающими из этого факта последствиями, или попытаться вместе с Турцией занять пока еще вакантную нишу лидера радикального исламистского лагеря. И вступить в противостояние с курдскими соплеменниками. В период конфронтации паритетная и комплементарная политика ни одну из противоборствующих сторон не устроит.
-
Стратегия Тема военной культуры и стратегии воспринимается Армянством как достаточно абстрактная, оторванная от реалий текущей социальной и политической жизни, как тема для узких специалистов. Однако к планированию и проведению реальной армянской политики, исходящей из интересов Армении, невозможно подступиться, не сформулировав базисных ценностей Армянского мира. Каким образом Армения смотрит на мир, какими она видит свои роль и место в XXI веке? С одной стороны, столь тонкие процессы не терпят принуждения и не могут решаться ускоренными темпами. Армянство должно созреть для нового осмысления своего места в качественно меняющемся XXI веке. С другой стороны, сегодня никто не может однозначно утверждать, что старые и новые вызовы оставляют нам необходимый для этого запас времени. В этих условиях возможным выходом могла бы стать сознательная концентрация интеллектуального и духовного потенциала Армянства на проблеме видения Армении XXI века. Необходимость такой концентрации для осуществления прорыва в области национальной (американская терминология) или большой (европейская терминология) стратегии достаточно отчетливо осознавалась нациями с прочными традициями государственности. Относительно спокойные времена порой усыпляют бдительность элит, однако эпоха перемен немедленно высвечивает уязвимость народа перед лицом новых вызовов и угроз, если у него нет видения себя в наступающих временах, нет национальной стратегии. Именно об этом, применительно к дезориентации США после победы в «холодной войне», говорит Джон Гаддис (John Gaddis), который совместно с Полом Кеннеди (Paul Kennedy) и Чарли Хиллом (Charlie Hill) организовал и последние 8 лет ведет курс национальной стратегии в Йелльском университете. В лекции «Что такое гранд-стратегия?» («What Is Grand Strategy?») на конференции «Американская гранд-стратегия после войны» («American Grand Strategy after War») в феврале 2009 года Гаддис говорит о необходимости воспитывать способность концентрироваться для ответа на вызовы, требующие формулировки или адаптации национальной стратегии. Чтоб подчеркнуть жизненную важность данного процесса, он вспоминает известный афоризм Самуэля Джонсона (Dr. Samuel Johnson): «Опасность – школа обучения стратегии», «если человек знает, что через две недели будет повешен, он прекрасно концентрирует свой ум». Надо согласиться, что это тот самый случай, когда Армянскому миру стоит прислушаться к мнению элит других народов. Армянство в XX веке через катастрофу Мец Егерна эмпирически приобрело бесценный опыт того, к чему приводит отсутствие видения будущего, непонимание грядущих времен и ориентированность только на настоящее и близкое будущее. Следуя совету авторитетных представителей стратегической мысли, Армянству необходимо начать концентрировать волю и интеллект на разработке национальной стратегии Армянского мира в XXI веке. Это, в свою очередь, требует знакомства с мировой сокровищницей стратегической мысли, поскольку война и стратегия, меняя формы и способы своего проявления, сохраняют неизменной свою природу. Философские системы, теории и концепции, лежащие в основе современного понимания войны и стратегии, разрабатывались на протяжении тысячелетий и аккумулируют в себе опыт многих и многих поколений и народов. Новые теоретики войны и стратегии (стратегисты) обращаются к тысячелетнему наследию военной и стратегической мысли, пытаясь там найти ответы на новые вызовы, с которыми сталкивается общество в своем развитии. Понимание того, что военные идеи, идеи стратегии играют критически важную роль, а их недооценка или неправильная интерпретация могут иметь катастрофические последствия для общества, существовало всегда. Как отмечает, например, Пол Херст (Paul Hirst), в монографии «Война и власть в XXI веке: Государство, военный конфликт и международная система» («War and Power in the 21st Century: The State, Military Conflict and the International System»), «война направляется идеями об использовании оружия и военных систем почти в той же мере, как и самими техническими и организационными изменениями. Идеи, таким образом, критически важны». К сожалению, оформление армянского видения стратегии и войны в XXI веке сталкивается с рядом объективных трудностей. В основном это связано с потерей армянским народом государственности и ее отсутствием на протяжении веков, что не могло не привести к постепенной деградации, а затем и практически полному прерыванию армянской военной традиции, как социального явления, оформляемого и проявляемого в виде военного сословия или касты. Без сомнения, страна, имевшая на протяжении многих веков до нашей эры статус ведущей державы, которая оформила Армянское Нагорье как политическую и социальную реальность, обладала соответствующей военной культурой и стратегией, элитой и традициями. Сохранение некоторых осколков государственности в ряде провинций, в частности, в Арцахе, помогло сохранить в реликтовом состоянии ряд традиций. Можно даже говорить, что данный фактор сыграл определенную роль во время арцахского этапа национально-освободительного движения армянского народа 1988-94 гг. Тем не менее, этого недостаточно, чтобы можно было говорить об осознанной преемственности, восстановление которой - задача будущего. Военная культура и стратегия Хотя стратегисты едины во мнении, что природа войны и стратегии универсальна и неизменна, тем не менее, конкретная война является культурным феноменом, который зависит от контекста, от большого числа факторов и социальных норм, принятых в данном обществе. Война имеет несколько контекстов, важнейшими из которых являются технологический, социальный, политический, геополитический и культурный, причем серьезные исследователи и стратегисты всегда подчеркивали ключевую роль культуры. Речь идет о широком понимании культуры как исторически сложившейся реальности, определяющей и направляющей все многообразные формы социальной активности общества, его знания и навыки, нормы и идеалы, идеи и верования, общественные цели и ценностные ориентации и т. д. В жизни народа культура играет примерно ту же роль, что и наследственная информация (ДНК, РНК) сложного организма. Она обеспечивает воспроизводство всего многообразия форм социальной жизни, характерных для определенного типа общества, его социальных связей и типов личностей - всего, что, в конечном счете, и составляет реальную ткань социальной жизни народа. Попытки понять окружающую военную и политическую реальность, необходимость изучения противника, должны дополняться познанием своего общества. Такое познание является важнейшим элементом победы, - истина, сформулированная уже в Древнем Китае. Сунь-цзы писал: «Если знаешь его (противника) и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет; если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение». Чтобы «узнать себя», политический деятель, военный обязан знать стратегическую культуру своего народа. Колин Грей (Colin S. Gray) в своей фундаментальной монографии «Современная стратегия» («Modern Strategy») посвящает целую главу стратегической культуре как контексту, в котором происходит выработка и принятие стратегических решений. Стратегическая культура, являясь частью общей культуры, включает в себя географию, историю, традиции, ценности, паттерны поведения, привычки, достижения и неудачи народа, его способность адаптироваться к складывающейся обстановке, решать проблемы, справляться с возникающими угрозами, применять силу, давая ответы на вопросы: почему, когда и как народ и его вооруженные силы ведут войну. Культура по своей природе более инерционна, нежели политика и экономика. Отражая глубинные паттерны социального поведения, она является первичной по отношению к политике и войне. Это означает, что способность общества адаптироваться к коренным изменениям оказывается ограниченной лабильностью его культуры. Проекты непосредственного воздействия на культуру во все времена относились к утопиям, и призывы «трансформировать культуру» следует признать неадекватными. Колин Грей говорит об условиях подготовки будущих стратегов: «Стратегическое образование должно включать образование, известное нам сегодня как гуманитарное. В общем смысле, такому теоретику стратегии представляется, что существуют, по крайней мере, некоторые (но только некоторые) значимые корреляции в истории между наличием хорошего образования и выдающимся мастерством на высших уровнях стратегии. Узкой военной компетентности может быть достаточно, но по ряду веских причин такой военный человек может оказаться под тяжелым грузом неадекватности. Говоря точнее, стратегист не имеет другого выбора, кроме как взаимодействовать (сноситься) с политическим миром, с той областью, откуда проистекает руководство политикой». Колин Грей ссылается на Самуэля Хантингтона и его известную работу «Военный и государство: теория и политика военно-гражданских отношений» («The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations»), в которой автор говорит о том, что высокопоставленный военный должен уметь объяснить текущую и возможную будущую военную ситуацию и картину профессиональным политикам и гражданским лицам способом, который те будут в состоянии постигнуть. Хотя принято проводить различия в видении войны и стратегии у различных европейских государств и США, тем не менее, они находятся в общем контексте западной военной культуры. Разрабатывая собственные доктрину и стратегию, военный истеблишмент каждой из стран Запада достаточно схоже реагирует на вызовы в области геополитики, политики и военной сферы. Как пишет Барри Позен (Barry Posen) в монографии «Источники военной доктрины: Франция, Германия и Британия между мировыми войнами» («The Sources of Military Doctrine: France, Germany, and Britain between the World Wars»), основной целью войны для западных обществ по-прежнему остается разгром вооруженных сил противника, и, если данная цель сегодня открыто не артикулируется, то она присутствует в той или иной форме, в мышлении, образовании и пр. Западная военная культура рассматривает факт разгрома вооруженных сил противника, захват его столицы как признак окончания войны и начала процесса послевоенного урегулирования. Серьезные дискуссии вокруг американского видения войны начались в начале 70-х годов XX века после публикации монографии Рассела Уигли «Американское видение войны» («The American Way of War»). Исследовав войны на протяжении американской истории, Уигли пришел к выводу, что США придерживаются стратегии нанесения сокрушительного военного поражения противнику через его изнурение или уничтожение. Результаты, полученные Уигли в рамках исследования американской истории, в целом применимы ко всей западной военной культуре. Очевидно, что пока что рано говорить об армянском видении войны, однако анализ результатов арцахской войны 1988-1994 гг. показывает, что Армения остается в рамках западного видения войны и культуры, что не могло не привести к объективным для данного пути проблемам поствоенного периода. Выделение стратегии в отдельную реальность, современное понимание стратегии - достаточно молодой феномен. Как пишет историк Джереми Блек (Jeremy Black), еще в конце XVIII века в западном мышлении политика и стратегия не разделялись, но поглощали друг друга, формируя единое целое. Стратегия не выделялась как функция, отличная от искусства государственного управления. Государство не имело постоянных или временных учебных заведений и даже военных штабов, имеющих «стратегическую» повестку. В XXI веке стратегия - это не политика и не война, а, скорее, мост между ними. На стратегическом уровне военные победы бессмысленны, пока они не преследуют цели, которые, согласно Клаузевицу, определяет сфера политики. «Для того, чтобы довести всю войну или хотя бы большой ее отрезок, называемый походом, до блестящего конца, необходимо глубоко вникнуть в высшие государственные соотношения», - пишет он. На этом уровне «стратегия и политика сливаются воедино, и полководец делается одновременно и государственным человеком». «Для незашоренного взора разницы между стратегией и политикой нет, - писал Уинстон Черчилль, усваивая во время Первой Мировой войны, уроки Клаузевица, - С некоторой высоты видно, что истинная политика и стратегия суть одно и то же». Таким образом, относясь к высшим уровням войны и политики, будучи той самой средой, которая позволяет «сшить» пространство политики и войны в единое целое, стратегия играет ключевую роль в военной теории и качественно отличается от тактики. Согласно Клаузевицу тактика, которой офицер занимается значительную часть своей карьеры, может быть сведена к жестким, четким принципам. Поддерживая Клаузевица, Джон Сумида (John Sumida) - военный историк, исследующий его творчество, говорит, что если ум, настроенный на решение тактических проблем, будет применен без подготовки к стратегическим задачам, то «решение на стратегическом уровне, вероятнее всего, будет принято методом и порядком, имеющим, потенциально, гибельные последствия». Тактические проблемы - это «прирученные» проблемы, и они могут быть поняты прежде, чем будет найдено решение. Также имеется шанс найти исторические прецеденты. Кроме того, есть уверенность, что решение существует, и оно четко может быть отличено от неправильных решений. Правильное решение может быть найдено методом проб и ошибок, и всегда имеется одно или более альтернативных решений. Стратегическая проблема - это «дикая» проблема, и она не может быть понята, пока не будет предложено решение. Более того, нет какой-либо гарантии, что решение будет найдено или вообще существует, даже если применяются «правильные» методы. Стратегическая проблема всегда нова и уникальна, и она не может быть решена итеративно методом проб и ошибок, - у вас имеется только одна попытка, и нет очевидных альтернативных решений. Стратегические ошибки всегда очень дорого обходились воюющей стороне. Фельдмаршал Кейтель как-то заметил, что «ошибки в тактике и на оперативном уровне могут быть исправлены в течение текущей войны, в то время как ошибки в стратегии можно исправить только во время следующей». С высказыванием Кейтеля перекликаются оценки уже современного американского стратегиста и военного историка Уильямсона Мюррея (Williamson Murray): «Никакая операционная виртуозность не может возместить фундаментальные изъяны в политической и стратегической оценках. Неважно, политика формировала стратегию, или стратегические императивы двигали политикой. В обоих случаях просчеты ведут к поражению, и любая комбинация политико-стратегической ошибки имеет разрушительные последствия, даже для наций, которые закончили войну в составе победившей коалиции. Даже эффективная мобилизация национальной воли, живой силы, индустриальной мощи, национального богатства и технологических ноу-хау не может спасти воюющую сторону от горьких плодов (стратегических) ошибок. Именно поэтому гораздо важнее иметь корректные решения на политическом и стратегическом уровнях, чем на операционном и тактическом. Ошибки в операциях и тактике могут быть скорректированы, но политические и стратегические ошибки живут в веках». Стратегические горизонты Занимаясь стратегическими оценкой и планированием, важно понимать, что существуют различные типы стратегических горизонтов, определяющие, насколько далеко стратегист в состоянии прогнозировать развитие событий. Согласно Девиду Лейну и Роберту Максфилду (David Lane, Robert Maxfield), горизонты предсказания могут быть ясными, усложненными (complicated) и сложными (complex). Для генерала XVIII века, готовящегося к сражению, день, местность и общая диспозиция войск - своих и противника - были ясными. Также был ясен план будущего сражения: когда, в какой последовательности будут двигаться его войска, и каким может быть ответ противника. Хотя он не мог однозначно предсказать исход будущего сражения, тем не менее, количество возможных сценариев развития ситуации было достаточно небольшим и прогнозируемым. Генерал знал точную дату окончания сражения - завтра битва будет или выиграна или проиграна. Он также знал, что не в состоянии предсказать, какая сторона выиграет, и какие из событий окажут решающее влияние на победу. Генерал XVIII века имел ясные горизонты предсказания. Несколько другой была ситуация для отряда кавалеристов США в XIX веке, продвигающегося на Дикий Запад. Командир отряда не знал местность, и отряд мог наткнуться на большую реку или непроходимый каньон. Он также не знал, где отряд может встретить индейские племена, с которыми немедленно придется вступить в бой. Все, что было известно командиру достаточно четко, это общее направление движения отряда, однако из-за большого числа неконтролируемых и непредсказуемых факторов, он не был в состоянии предсказать и предугадать события завтрашнего дня. Как следствие, командир отряда должен был всегда находиться в состояния полной боеготовности и отправлять вперед разведчиков, которые расширяли бы его собственный горизонт предсказания. Кроме того, командир имел относительно неопределенные временные горизонты, и его поход мог продолжаться дни или недели. Он знал, какие события могут иметь место, с какими препятствиями и противником может столкнуться отряд, но большое количество неизвестных факторов, их комбинация и взаимовлияние делали невозможным предсказание сроков завершения похода. Командир кавалерийского отряда имел усложненные горизонты предсказания. И, наконец, совершенно иным было положение армянского политика во время арцахской войны 1991-94 гг., когда не было никакой возможности понять, кто твои союзники, и есть ли они. Как поведут себя Россия, Турция, Запад, Иран? Поможет ли международное сообщество остановить агрессию Азербайджана или позволит ему уничтожить арцахское армянство? Порой складывалось впечатление, что возникает понимание происходящего, но на самом деле оно оставалось далеким от реальности, так как на следующий день картина кардинальным образом менялась. Армянский политик имел неопределенный горизонт времени и даже не мог назвать всех акторов, имеющих возможности повлиять на исход противоборства. В отличие от командира кавалерийского отряда, задача которого заключалась в продвижении по фиксированной местности, состоящей из знакомых, но пока что непредсказуемых элементов, военно-политический ландшафт армянского политика был эластичным, непрерывно и быстро деформировался в ответ на воздействия, которые осуществлял он и другие акторы, иногда за тысячи километров от Арцаха. Его цель всегда находилась за пределом горизонта предвидения, и связь между тем, чего он хочет, и тем, куда он идет, всегда была тонкой и неопределенной. Горизонт предвидения армянского политика был сложным. При сложных горизонтах предвидения сама структура мира, в котором оперируют акторы, оказывается подверженной изменениям, и какой может быть стратегия, когда «ваш мир активно строится, ты являешься частью строительной бригады и нет никакого проекта». На сегодняшний день стратегическая теория не в состоянии предложить адекватные методы для оперирования со сложными горизонтами и отсылает к гению, интуиции и опыту стратегиста, командующего и политика. Дискурсы высшего политического и военного руководства государства Важнейшим элементом стратегического планирования являются дискурсы внутри круга высшего политического и военного руководства страны. Они позволяют оформить отношения между политическими и стратегическими целями, национальной мощью государства и целями/задачами военных кампаний, через которые планируется достигать намеченных целей. Элиот Коэн (Eliot A., Cohen) в монографии «Верховное командование: военный, государственный деятель и руководство в военное время» («Supreme Command: Soldiers, Statesman, and Leadership in Wartime») говорит о том, что такие дискурсы никогда не были легкими и безболезненными, и нет каких-либо причин думать, что они станут таковыми в будущем. Более того, история говорит не только о многообразной и сложной природе дискурсов, но и о критической роли времени, в течение которого происходит обоюдное уточнение видения ситуации ее участниками. Тем не менее, это единственный путь соединения политики, стратегии и военных целей, достижение которых должна обеспечить военная мощь. Помимо дискурсов внутри высшего политического и военного руководства страны также инициируются иные дискурсы: между командующим и его штабом - они помогают оформить намерение командующего; внутри коалиции союзников, разъясняющие цели будущей кампании; в общественном поле - с целью воздействовать на общественное мнение как внутри страны, так и на международной арене и подготовить его к проведению будущей кампании. Все, сказанное выше, призвано продемонстрировать критическую важность знакомства хотя бы с основными элементами стратегии, умение смотреть на мир, в том числе, и через призму стратегического мышления.
-
Вздрогнул, - вспомнил, потом еще вспомнил Утром, пешим ходом двигаясь «к станку», вздрогнул: где-то там, глубоко, внутри, когда над головой почти что на бреющем пролетели военные самолеты. Потом вспомнил, что говорили, предупреждали, что они пролетят, - нормальный режим, ничего страшного. Потом еще вспомнил - парад 1995 года. Когда над Степанакертом появились наши самолеты, все грудные дети вокруг, включая мою малышку, начали плакать. Матери инстинктивно хватали детей, пытаясь куда-то бежать. Потом раздается возглас: «Это же наши самолеты!» Вздох облегчения, у женщин слезы на глазах… Я вот одного не пойму, тоже там, - в глубине. Да что же это такое? Неужели действительно есть такие подонки с армянской кровью в жилах, мнящие себя политиками, вершителями судеб Армянского мира, на полном серьезе обсуждающие и готовые что-то там сдавать. Они что, действительно думают, что армянские мужчины позволят добровольно, не думая, для сохранения каких-то там мелких бизнес-схем пары десятков семей в серой и черной зоне, своими руками устроить бомбежки своих семей? Я действительно и искренне не понимаю, - нет, не мозгами. Мозгами - никаких проблем, но вот сердцем, что ли, душой… Поставить к стенке и очередью поверх голов, чтобы опомнились. Ну, или на бреющем полете над его, конкретно его семьей. Пролетая, можно включить форсаж для пущей убедительности, чтобы дошло сразу и немедленно, что политика, мразь такая, не только и столько функции «менеджера» при раздаче народного достояния, а защита этого достояния. Защита женщин и матерей, сегодня, сейчас, памяти прошедших поколений и забота о будущих. Ничего мужского – в поведении, повадках, «окраске», «фурнитуре». Слабаки и импотенты, озабоченные доставанием «виагр». Вы что, на самом деле решили, что это вы держите страну? Тратят 99,99% энергии на создание и поддержание внешних связей, ниточек. Мечтают о канатах, уходящих «в верха», вне Армянского мира, в региональные и глобальные центры силы, на которых можно было бы закрепиться, а потом «парить» над армянскими проблемами, армянской землей. «Я лечу и пою…» Практически все политики и политические силы, включая так называемую оппозицию, за редким исключением из «молодой поросли», ведут себя как последние …, - до брезгливости одинаково. «Ах, европа встретилась... Ах, они недовольны…» Думаю порой, все же нужна ситуация, когда у господ из-под ног уходит армянская земля. То, что она, будучи частью Армянского Нагорья, так стабильна, надежна, создает у них иллюзию, что на нее можно не обращать внимания, - никуда не денется. Порой надо на мгновенье лишать армянских политиков - всех, - поддержки истинных Хозяев и Граждан Армянского мира. Тех, которые на самом деле, действительно держат армянскую землю, - молча, буднично, без лишних телодвижений и речей. Это тяжелая работа, требующая концентрации внимания, сил, воли, - не до криков и «дефиле» по красным дорожкам. Порой выдыхаешь матом, но как без него… Тяжелая, будничная работа, ратный труд, - в поле, за компом, на посту. Какая разница, - суть и природа одна. Служивые и служение своему народу, - спокойное, и в ряду тех, кто служил - из века в век. Это ли не счастье? Для мужчины. Еще раз пролетели, 10-20, аккурат под эти слова…
-
Какая-то фигня Пробегая глазами российских блогеров, в том числе, и серьезных вроде бы людей, не могу понять, объяснить желание сузить поле исследования до термина «терроризм», то есть только одной из форм вооруженного противоборства. Все, кому ни лень, и кому лень рассуждают об этом самом терроризме и предлагают методы борьбы с этим злом. Но ведь это не зло, то есть природа, суть, а форма. Сводить войну, которая ведется против России, природу развязанной войны к одной из ее форм, - пусть звучной, но явно не главной – это же пройденный даже для Запада этап, где это дело расцвело буйным цветом – для вполне конкретных целей. Расцвело, дало плоды и благополучно ушло удобрять почву для следующей концепции. Что за желание повторять чужие интеллектуальные зады. Тем более, когда на Западе все чаще начали проговариваться и признаваться, как внимательно и усердно они изучают советский военный опыт, советское военное искусство. Сидеть на таком наследии и пытаться втиснуть российские реалии и угрозы, которые геополитические по определению, в какой-то узкий, обрезанный по самое не могу, дискурс? Ну не получится же детским самосвалом, пусть даже навороченным, и блестящим перевезти Россию и ее угрозы XXI века. Понимаю, что по сравнению с Арменией российский интеллектуальный потенциал, тем более военный, кажется необъятным и безбрежным, но все же так разбрасываться им как-то неправильно. Зачем сегодня столько сил тратить на когда-то «модное словечко», призванное замаскировать нечто другое?
-
Чему же верить: Конституции Азербайджана или его Военной доктрине? Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики (АР) на внеочередном заседании 8 июня принял военную доктрину государства. Ее обсуждают и в азербайджанских СМИ. Обозреватель ИА REGNUM Рафаэль Мустафаев в материале «Проект военной доктрины противоречит Конституции Азербайджана?» рассказал о сомнениях среди бакинских политологов и военных экспертов в части соответствия основному закону страны положений этой доктрины о возможности размещения иностранных баз на территории АР. Но не только в этом бросается в глаза разлад между военной доктриной и конституцией АР. Статья 9 конституции гласит, что АР отвергает войну как средство посягательства на независимость других государств и как способ решения международных конфликтов. А новая доктрина настаивает на праве Азербайджана силой отвоевать территории, оставленные армянам в войне 1991-94 годов. Как бы авторы доктрины не крутили формулировки, суть дела именно в этом. Но как же увязать тогда доктрину с конституцией? Может, карабахский конфликт не международный? Или АР ни разу не брала обязательств решить его мирно, переговорными средствами? Вопрос не нов. До сих пор немало вопросов возникало из-за регулярных угроз силой из самых высоких уст официального Баку, а теперь их множит его стремление подвести под свои угрозы документальную, а главное - директивную основу. Конечно, там упомянуты нормы и принципы международного права. Но, как правило, всуе - лишь в самом общем виде! 1) Начну с того, что руководство АР и персонально глава государства цинично пренебрегают одним из главных принципов современной Европы, который давно воспринят всем цивилизованным миром - принципом неприменения силы и угроз силой. Это второй принцип Хельсинкского заключительного акта и одна из первооснов ОБСЕ. В Баку никто не смеет раскрывать или комментировать этот принцип - это невыгодно, хотя бы потому, что в нем прямо прописана недопустимость любых актов репрессалий с помощью силы (ведь там фактически всё подается именно как репрессалии за оккупацию). Вот еще из официальных расшифровок смысла этого принципа: «Никакое такое применение силы или угрозы силой не будет использоваться как средство урегулирования споров... Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновать обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение этого принципа». Это логически подводит к другому принципу ОБСЕ - мирному разрешению споров, подзабытому в карабахском урегулировании даже посредниками. 2) Вполне ожидаем был отказ Баку от предложения президента Армении Сержа Саргсяна заключить соглашение о неприменении силы при разрешении карабахского конфликта. Хотя, казалось бы, очевидно, что без обоюдного отказа от применения силы и серьезных международных гарантий армяне не будут торопиться с уходом с территорий АР, а продолжат укреплять нынешнюю линию обороны и настаивать на пакетном урегулировании. Тем более наивно при поэтапном движении рассчитывать на их уход и нанесение потом военного удара с выгодных близких позиций. Лютое взаимное недоверие сторон страхует их от грубых просчетов. Так что идея предложенного Арменией соглашения еще пригодится. Его не заменят гарантии в искомом всеобъемлющем соглашении, ибо обратной силы иметь не будут и не могут обезопасить немалый период до подписания и вступления этого последнего в силу. 3) Есть и иные политические и моральные помехи новому применению военной силы со стороны Баку в этом конфликте. Есть соглашение о прекращении огня с 12 мая 1994 г., причем с согласия Гейдара Алиева бессрочное (в отличие от всех прежних со Степанакертом, где прямо указывался срок действия). Более того, оно заключалось по настоянию «общенационального лидера», на сей раз даже без попыток выдвинуть предварительные условия. Затем он сам и другие руководящие лица АР публично выступали с заверениями, что оно будет соблюдаться вплоть до заключения соглашения о прекращении вооруженного конфликта. При его прямом участии в подготовке было подписано под эгидой ОБСЕ соглашение об укреплении режима прекращения огня, позволявшее локализовать и улаживать инциденты (но Баку давным-давно не выполняет его). Вступая в СБСЕ и затем в Совет Европы АР обязалась решить конфликт мирными, переговорными средствами. Наконец, известно, что Ильхам Алиев был среди подписавших Московскую декларацию с той же установкой, а потом вновь отличился серией угроз и отказом отвести снайперов с передовых позиций (на чьей совести будет теперь убийство ими военнослужащих и мирных жителей на линии соприкосновения?). Подход официального Баку к этим фактам будет, как броский штрих, определять меру состоятельности еще молодого государства и его руководства, но, видно, там это ни во что не ставят. 4) А ведь эти штрихи лягут уже не на чистый фон. Он и так замаран ответственностью прежних руководителей АР (больше, чем армянских) за превращение политической напряженности в Карабахе в кровавый вооруженный конфликт, а потом за упорное нежелание вовремя прекратить военные действия, несмотря на многократные требования Совета Безопасности ООН. Те самые военные действия на протяжении 2,5 лет, которые и помогли армянам оккупировать 7 районов АР. Характерно, что эта очевидная причинно-следственная связь между боевыми действиями и оккупацией всячески замалчивается в Баку. Об оккупации там говорят много, но так, будто у нее лишь армянские корни, а бедные азербайджанские руководители тут не причем. 5) Конечно, нынешнее руководство открыто не может позволить себе критического анализа этого феномена - можно критиковать лишь до А. Эльчибея включительно. Но на фоне бесчисленных памятников «общенациональному лидеру» и его повального обожествления просматривается и молчаливый пересмотр ряда его установок. Еще в полемике с Народным Фронтом Гейдар Алиев признавал, что Нагорный Карабах потерян. С учетом собственного тяжкого опыта и разочарований в войне он, в конце концов, стал серьезней подходить к прекращению военных действий и мирному решению конфликта. С разными оговорками и выкрутасами, но шел на соглашения даже с таким неудобным для него партнером как НК. Только этим и можно объяснить появление в 1995 г. в статье 9 конституции АР установки, отвергающей войну как способ решения международных конфликтов и создающей ныне немало неудобств для официального Баку. Неудобны ему и оба соглашения, заключенные при Гейдаре Алиеве: одно там уже не выполняется, а другое - дают понять - тоже готовы отбросить. А потом будут удивленно вопрошать, какие обязательства и соглашения Азербайджан не соблюдает?
-
Азербайджанские и турецкие военные, согласно рабочему плану военного сотрудничества, проведут в июне совместные учения. Как передает Trend, 15-20 июня будет проведен обмен опытом в сфере защиты от оружия массового уничтожения (ОМУ) и обсуждение средств борьбы с данной угрозой новыми боевыми средствами. 14-18 июня планируется проведение учений по подготовке судов к бою в Центре надводных учений «Йылдызлар» («Звезды»).
-
Уроки карабахской войны и значение освобожденных территорий В контексте мирного урегулирования Карабахского конфликта одним из наиболее обсуждаемых и имеющих широкий общественный резонанс в Армении и НКР вопросов является дальнейшая судьба семи административных районов, ранее составлявших часть Азербайджанской Советской Социалистической Республики и перешедших в ходе Карабахской войны под контроль НКР (Лачин, Кельбаджар, Зангелан, Кубатлу, Джебраил - целиком, Агдам и Физули - частично). Позиции сторон конфликта по вышеуказанным территориям полярно противоположны, что в первую очередь проявляется в терминологии: если для НКР и Армении эти районы являются частью исторической Родины и считаются освобожденными или реинтегрированными территориями, то азербайджанская сторона утверждает, что они оккупированы со стороны ВС РА, безосновательно ссылаясь на резолюции Совета безопасности ООН №822 (30.02.1993), №853 (29.07.1993), №874 (14.10.1993) и №884 (12.11.1993). В посвященной азербайджано-карабахскому конфликту литературе применяется также термин «зона безопасности», который отражает основную функцию указанных территорий в системе обеспечения безопасности НКР, не неся в себе эмоциональные или позиционные оттенки. Значительную часть полученной в последние годы от добычи нефти и газа прибыли Азербайджан направляет в сферу обороны: резкое увеличение военных расходов дало ему возможность приобрести в большом количестве наступательное вооружение и военную технику, другое военное имущество у Украины, Турции, Израиля и других государств. ТАБЛИЦА I Военные расходы Азербайджанской Республики по годам (в долларах США) 2003 год 144 млн. 2004 год 247 млн. 2005 год 321 млн. 2006 год 662 млн. 2007 год 941 млн. 2008 год 1200 млн. (но, фактически - 2000 млн.) 2009 год 2300 млн. Согласно представленным Азербайджаном официальным данным в регистр ООН по обычным вооружениям, в 2002-2007 гг. эта республика приобрела 162 единицы бронетанковой техники, 5 единиц бронетранспортеров, 260 единиц артиллерии и 27 боевых самолетов. 26 июля 2008 года в ходе состоявшегося в Баку военного парада по случаю дня национальной армии Азербайджана были продемонстрированы новые образцы вооружения и военной техники: реактивные артиллерийские установки «Смерч» 9К58 и «Ураган» 9К57, самоходные пушки 203-миллиметрового калибра «Пион» 2С7, оперативно-тактические ракеты «Точка» 9К79, фронтовые истребители Су-27 и МИГ-29. Очевидно, что военно-политическое руководство Азербайджана, не исключая силовой вариант решения карабахского конфликта, значительно повысило наступательный потенциал своих ВС, что является серьезной угрозой для стабильности и мира в регионе. Не случайно, высокопоставленные чиновники Азербайджана все чаще и чаще выступают с воинственными заявлениями. Достаточно красноречива также статистика случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. ТАБЛИЦА 2 Случаи нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана по годам 2006 год 589 2007 год 1445 2008 год 3480 В отличие от других конфликтов, в зоне карабахского конфликта нет миротворческих сил и хрупкое перемирие сохраняется прежде всего благодаря балансу сил. В данном контексте сформировавшаяся вокруг НКР зона безопасности является одним из главных факторов сдерживания агрессивных устремлений противника, а для армянского народа освобождённые земли Нагорного Карабаха имеют также важное значение в историческом, культурном и моральном планах. В рамки данной статьи не входит подробный анализ политического, морального, культурного или исторического значения освобожденных земель, поэтому мы попробуем представить наши соображения об освобожденных территориях прежде всего в плане их роли в системе военной безопасности НКР. Уроки азербайджано-карабахской войны или почему сформировалась зона безопасности Для того, чтобы понять необходимость формирования зоны безопасности вокруг НКР и её сегодняшнее значение, в первую очередь необходимо ознакомиться с историей карабахского конфликта, поскольку вышеупомянутые районы были освобождены не столько вследствие волевого решения руководства НКР, сколько это было продиктовано объективными соображениями сдерживания агрессии Азербайджана, ликвидации угрозы физического уничтожения народа НКР. Можно с уверенностью утверждать, что в 1990-е годы военно-политическое руководство НКР никогда не ставило перед собой вопроса возвращения территорий, составлявших ранее часть исторической Армении и в дальнейшем перешедших к Азербайджану. Освобождение вышеуказанных районов напрямую было обусловлено агрессивными действиями Азербайджана, продиктовано оперативно-тактической целесообразностью, и лишь после установления перемирия этот факт обрел политико-военное, экономическое значение, также как и важность с точки зрения сохранения культурного наследия армянского народа. ТАБЛИЦА 3 График освобождения территорий 1. Лачин 18 мая 1992 г. 2. Кельбаджар 5 апреля 1993 г. 3. Агдам 23 июля 1993 г. 4. Джебраил 15 августа 1993 г. 5. Физули 22 августа 1993 г. 6. Кубатлу 30 августа 1993 г. 7. Зангелан 1 ноября 1993 г. До освобождения Лачинского района и установления сухопутной связи с Республикой Армения Нагорно-Карабахская Республика пребывала в условиях жесточайшей экономической блокады. Было прекращено электро- и газоснабжение. Необходимое минимальное количество боеприпасов, продуктов питания, лекарств, горючего и смазочных материалов перевозилось из РА в НКР силами гражданской авиации - многоцелевыми вертолетами «Ми-8» и приспособленными для грузоперевозок пассажирскими самолетами «ЯК-40» и «АН-2». Нелишне также отметить, что полёты самолетов стали возможны лишь после освобождения Ходжалу, так как единственный действующий аэропорт Карабаха находился на территории этого села и контролировался Азербайджаном. Организовать доставку воздушным путем достаточных объемов материальных средств, необходимых для всестороннего обеспечения день ото дня разрастающихся боевых действий, не представлялось возможным: Армения не располагала военно-транспортной авиацией, а летно-технические характеристики гражданской авиации - вышеназванных вертолетов и самолетов, не предусмотренных для перевозки грузов, не позволяли осуществить бесперебойное обеспечение. С другой стороны, серьезную опасность для воздушных перевозок представляли формирующиеся военно-воздушные силы Азербайджанской Республики. 8 апреля 1992 года лейтенант авиации Вагиф Бахтияр оглу Курбанов угнал из аэропорта Ситал-Чай первый боевой самолёт ВВС Азербайджанской Республики - штурмовик Су-25. Уже 9 мая Курбанов атаковал гражданский самолет «ЯК-40», перевозивший раненых из Степанакерта в Ереван. Подобное развитие событий, несмотря на очень высокий боевой дух и волю к победе, могло бы стать причиной поражения сил самообороны НКР и, как следствие, неминуемого физического уничтожения и депортации армянского населения НКР. Лачинская операция стала первым шагом, направленным на улучшение военно-политического и географического положения. Неудачи Армии обороны НКР летом 1992 года, в ряду которых особенно болезненной была потеря большой части Мартакертского района, показали, что пока не будет уничтожена расположенная в Кельбаджаре азербайджанская группировка, Мартакертскому району НКР и Лачинскому коридору будет угрожать постоянная опасность. Освобождение Кельбаджарского района значительно сократило линию фронта, обеспечило тыл Мартакертскому району, а также создало возможность использовать проходящую через Кельбаджар магистраль, связывающую северо-западный участок НКР с Республикой Армения. Освобождение в мае 1992 года города Шуши уменьшило, но вовсе не ликвидировало угрозу для мирных карабахских городов, особенно населения столицы НКР - города Степанакерта. Военно-политическое руководство Азербайджана рассматривало военно-воздушные силы и крупнокалиберную артиллерию не столько в плане выполнения задачи огневого содействия войскам на поле боя, сколько в качестве средства терроризирования армянского населения. Варварские воздушные и артиллерийские обстрелы мирных населённых пунктов преследовали цель заставить людей покинуть места своего проживания. После того, как был освобожден город Шуши, военное руководство Азербайджана сконцентрировало в большом количестве артиллерийские средства в Агдамском районе, в том числе установки «Град» БМ-21 и дальнобойные морские пушки. Действующая в Агдаме вражеская общевойсковая группировка, вонзившаяся подобно клину в центральные районы НКР, представляла собой постоянную опасность для флангов Мартакертского и Мартунинского оборонительных районов НКР. Освобождение Агдама обеспечило безопасность мирного населения Аскеранского района и столицы НКР - города Степанакерта. Стало возможным использование рокадной дороги Мартуни - Агдам - Мартакерт. Параллельно со всем этим группировки противника, дислоцированные в Кубатлинском, Физулинском, Джебра-ильском и Зангеланском районах, не прекращали попытки взять под свой контроль Лачинский коридор - основную дорогу жизни, связывающую НКР с Арменией. Командование Армии обороны НКР прекрасно осознавало, что наличие крупной группировки противника на правом фланге и в тылу действующих на юго-восточном направлении фронта подразделений несёт угрозу стабильности на всём фронте, также как и военным перевозкам из Армении в НКР. А благоустроенная магистраль и железная дорога, протягивающиеся к центральным районам Азербайджана, позволят командованию ВС противника, оперативно произвести в случае необходимости перегруппировку войск с целью проведения наступательных операций. То, что установление контроля над семью районами бывшей Аз. ССР не было обусловлено захватническими устремлениями карабахской стороны, косвенным образом подтверждается еще одним фактом: во время наступательных операций в 1993 году подразделения азербайджанской армии, в особенности на юго-восточном направлении, обратились в паническое бегство, однако, несмотря на отсутствие сопротивления, продвижение подразделений Армии обороны НКР продолжалось только до рубежа, который был необходим для стабилизации фронта, сокращения фронтовой линии, обеспечения флангов. ТАБЛИЦА 4 Контроль над освобожденными территориями со стороны Армии обороны НКР Лачин 1835 кв. км. полностью Кельбаджар 1936 кв. км полностью Агдам 1094 кв. км 77% или 842 кв. км Джебраил 1050 кв. км. полностью Физули 1384 кв. км. 33% или 462 кв. км. Кубатлу 802 кв. км. полностью Зангелан 707 кв. км полностью Переход вышеназванных семи районов под контроль НКР и опасность потери новых территорий заставили Азербайджан в мае 1994 года сесть за стол переговоров и подписать соглашение о прекращении огня, которое соблюдается по сей день. Азербайджан использовал все предыдущие случаи прекращения огня, достигнутые при международном посредничестве, для перегруппировки своих вооруженных сил, пополнения разбитых подразделений и начала новой фазы военных действий, поскольку они не были скреплены безусловными военными успехами Армии обороны НКР. Значение освобожденных территорий НКР сегодня I. Сокращение линии фронта До образования зоны безопасности вокруг НКР протяжённость границы между НКР и РА с Азербайджаном или линии соприкосновения вооруженных сил двух республик составляла около 1100 км. В настоящее время протяженность линии соприкосновения сократилась на 450 км. или около 41%. Учитывая ограниченность мобилизационных ресурсов НКР и РА, особенно то, что в настоящее время и в ближайшие 3-4 года в армию будут призываться юноши, родившиеся в самые тяжелые в современной истории армянского народа годы - 1991-1994, а в указанный период рождаемость была катастрофически низкой ввиду карабахской войны и экономической блокады, очевидно, что сокращение линии фронта позволяет установить наиболее целесообразный количественный состав ВС и разумные сроки обязательной воинской службы. Не менее важным является вопрос сокращения расходов, направленных на организацию несения боевого дежурства. По всей длине линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана сооружена глубоко эшелонированная система инженерных укреплений. Сооружение подобных фортификационных укреплений на более протяжённой линии фронта потребовало бы пересмотра расходов НКР на оборону, а в настоящих условиях значительная часть сэкономленных средств используется для улучшения бытовых и социальных условий военнослужащих: по данным показателям, Армия обороны НКР находится в числе передовых ВС на постсоветском пространстве. 2. Защита северных и южных флангов Нынешняя конфигурация линии фронта обеспечивает надёжную защиту северного и южного флангов Армии обороны НКР. Северное направление охватывает труднодоступный Мровский хребет, чья высота превышает 2800 м. Пересеченный рельеф, суровый климат и отсутствие дорог значительно ограничивают возможности подразделений 1-го и 3-го армейских корпусов ВС Азербайджанской Республики в нанесении фланговых ударов и вторжении в тыл Армии обороны НКР на Кельбаджарском направлении. На южном направлении лишены такой возможности и подразделения 2-го армейского корпуса ВС АзР, поскольку на данном отрезке НКР граничит с Исламской Республикой Иран, которая, являясь стратегическим партнером РА, безусловно, не позволит Азербайджану осуществлять на своей территории передвижение войск с целью вторжения в тыл карабахских вооружённых сил. 3. Доминирующие позиции После создания зоны безопасности значительно улучшились в военно-географическом плане позиции подразделений Армии обороны НКР, несущих боевое дежурство: сегодня позиции Армии обороны НКР доминируют над позициями ВС Азербайджана, а в равнинной местности они находятся в равных условиях. 4. Контроль и диверсификация путей сообщения Не секрет, что гарантом безопасности НКР является Республика Армения, с территории которой, в случае возобновления военных действий, должно осуществляться всестороннее обеспечение Армии обороны НКР. Сухопутная граница и постоянная сухопутная связь с РА имеют важное стратегическое значение. Сегодня РА и НКР связывают четыре автомагистрали: Варденис - Кельбаджар - Мартакерт, Ереван - Горис - Степанакерт, Капан - Зангелан - Джебраил, Мегри - Минджеван - Горадиз. Одна из стратегически важных рокадных путей сообщения - автомагистраль Джебраил - Физули - Агдам - Мартакерт - также проходит через освобожденные территории. В случае сдачи Азербайджану шести освобождённых районов под контролем НКР останется одна межгосударственная магистраль - Ереван - Горис - Степанакерт и одна рокадная - недавно построенная автомагистраль «Север-Юг», что, в случае возобновления военных действий, осложнит осуществление военных транспортировок и передвижение войск. 5. Контроль над водными ресурсами Карабахский аналитик и политолог Давид Бабаян провел довольно обширную работу, доказавшую, что Кельбаджарский район имеет важное значение также в контексте обеспечения водной безопасности НКР. Истоки почти всех крупных рек НКР находятся на территории Кельбаджарского района. Опыт прошлой войны показал, что азербайджанская сторона, не колеблясь, использует также и данный рычаг давления на армянскую сторону, порой даже отравляя истоки рек, обеспечивающих водоснабжение карабахских населенных пунктов. Контроль над водными ресурсами имеет также важное значение с точки зрения производства электроэнергии. 45% необходимой населению и экономике НКР электроэнергии вырабатывается на Сарсангской ГЭС, построенной на реке Тартар, которая берет свое начало в горах Кельбаджара. Контроль над водными ресурсами обретет еще большую значимость, поскольку в будущем возрастет доля НКР в производстве электроэнергии, достигнув 80-90%. В настоящее время правительство НКР осуществляет программу сооружения малых и средних ГЭС. В ближайшем будущем будут сданы в эксплуатацию 5 новых ГЭС. 6. Обеспечение продовольственной безопасности НКР Освобожденные земли имеют жизненно важное значение также с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности НКР. Учитывая соседство Республики Армения с враждебно настроенными Турцией и Азербайджаном, ненадежность проходящих через Грузию дорог и ограниченный объем перевозок, осуществляемых через территорию Ирана, возделывание зерна и других злаковых культур на освобожденных территориях обретает стратегическую значимость. На долю освобожденных территорий приходится большая часть орошаемых земель НКР. Для представления объемов возделываемого там зерна приведем лишь одну цифру: в 2008 году только в Кашатагском (бывшем Лачинском) районе было собрано 13890,5 тонны зерна - 18,17% всего урожая НКР. 7. Сравнительная отдаленность населенных пунктов от линии фронта Опыт азербайджано-карабахской войны показал, что одной из основных мишеней для азербайджанских ВС было мирное население НКР. В ходе войны из Шуши, Агдама, Физули, Джебраила и других огневых точек наносились артиллерийские удары не только и не столько по подразделениям Армии обороны НКР, сколько по мирным населённым пунктам НКР и РА. Такое же задание выполняла военная авиация Азербайджана, предоставив задачу обстрела войск штурмовым вертолётам «МИ-24», в то время, как самолёты ВВС бомбили исключительно армянские мирные населенные пункты. В результате бомбардировок всех крупных населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики, а также городов Капан, Горис и приграничных сел Республики Армения погибли многие сотни мирных жителей и тысячи были ранены, что послужило одной из основных причин для создания зоны безопасности вокруг НКР. Сегодня большинство крупных приграничных населенных пунктов НКР и РА находятся вне зоны поражений артиллерии Азербайджана бригадного и корпусного звена. В заключении следует констатировать, что освобожденные и реинтегрированные территории Нагорного Карабаха, закреплённые в Конституции НКР 2006 года под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики, играют ключевую роль в сохранении военного баланса в зоне азербайджано-карабахского конфликта, что является основным фактором предотвращения новой войны. Сурен Сарумян, майор Армии обороны НКР, главный редактор газеты «Мартик» Министерства обороны НКР
-
Власть и элита Пункты, которые вряд ли станут текстом. "Навеяно" темами, в которые ушел с головой. И армянской реальностью 1. Социальная реальность бесконечно сложна и многообразна. 2. Любые попытки воздействовать на нее , адаптироваться и проч. требуют ее ограничения в той или иной форме. В этом случае многообразие реальности сводится к некоторой проекции или ограниченному множеству проекций, с которыми можно совладать. 3. Управление социальной реальностью, таким образом, сводится к умению выстроить проекции, которые оказываются достаточно адекватными, чтобы направить ее в желаемом направлении. Другими словами, - это умение ограничивать адекватным образом реальность, сводить бесконечное множество типов социального поведения к ограниченному и желаемому. 4. Власть - это способность осуществлять управление социальной реальностью, то есть способность ограничивать ее, оперировать ограничением, границами. Власть - это вкус, страсть к ограничению и чувство границы. 5. Элита – ограниченное множество личностей, систем, осуществляющих функцию власти в социуме. 6. Быть элитой означает иметь чутье, инстинкт власти, что предполагает не только способность оперировать границами и ограничивать макромир и социальную реальность, но также и микромир, - то есть себя, свой внутренний мир. Другими словами, быть элитой - значит обладать способностью к самоограничению. 7. Способность к самоограничению становится неотъемлемой частью принадлежности к элите и ипостасью власти. Отсутствие способности, воли к самоограничению означает импотенцию в вопросах отправления власти, осуществления властных полномочий. 8. Вывод. Власть - это способность к ограничению социальной реальности и самоограничению, знание границ и умение их не переходить, - вовсе не потому, что не в состоянии. Скорее наоборот, - это способность к самодисциплине, обузданию тяги к беспределу. То есть это способность знать и соблюдать Закон. 9. Таким образом, быть у власти, быть элитой означает умение вводить, различать и соблюдать закон, но никак не право нарушать его. Стремление и тягу к нарушению, беспределу можно считать одним из признаков маргинальности личности, класса, общества и его обреченности. Интерпретация власти как права и лицензии на беспредел, произвольное нарушение границ означает неготовность нести бремя власти, неготовность к власти, а значит и ее отсутствие. 10. Применительно к политической системе и политической власти. Политическая власть может принадлежать и принадлежит только тем, кто в состоянии ограничиваться. Беспредел, тяга к беспределу есть симптом того, что мы имеем дело не с личностью, обладающей властью, но менеджером, управляющим, который осуществляет перераспределение власти, но не обладает ею. 11. В Азии в рамках восточных деспотий данное положение дел становится нормой, законом. Яркий пример- Азербайджан или классика Османской Империи, где власть сосредотачивается в руках одного человека - Султана. Остальные - рабы или менеджеры того или иного уровня. В рамках такой системы нет и не может быть политической элиты, но только класс политических управляющих. 12. Ну а что же Армения и Армянский мир? Есть ли у нас способность выстроить политическую элиту, тем самым вырывая армянскую социальную реальность из азиатских цепких объятий и страстного желания «армянской толпы» взвалить всю тяжесть и ответственность власти на одного человека? Не знаю... Хотя выхода-то нет. Или нам удается это сделать, или мы возвращаемся в Османскую империю. И, кстати, внимательнее прислушивайтесь к голосам, которые скоро начнут, а, может, уже начали петь дифирамбы османам.
-
Современная армянская идентичность. Две крайности В XXI веке перед Армянским миром стоит целый ряд жизненно важных вызовов и задач. Некоторые из них, связанные с необходимостью укрепления армянской армии, экономики, достаточно ясны и прозрачны, критическая важность других для будущего Армении не столь очевидна. К последним, без сомнения, относится выработка современной концепции армянской идентичности. Сегодня актуальность проблемы идентичности как для наций, так и для государств со сложным этническим составом признана повсеместно. Пытаясь сформировать понимание армянской идентичности в XXI веке, нужно исходить из принципа его эффективности при решении задач, с которыми сталкивается Армянство. На сегодня можно выделить две крайние позиции, задающие диапазон вариантов. Эти крайности не только конфликтуют друг с другом, но взаимно друг друга обусловливают. В первом, «минималистском», случае армянская идентичность воспринимается как свободное неформальное членство в некоей разновидности воскресного клуба, где реально или виртуально собираются люди, болеющие за одну и ту же «команду». Оно не налагает каких-либо обязательств на участника, кроме чисто символических. В основе обычно лежит чувство сопричастности, порой сопереживания. До последнего времени главным выражением членства в «клубе» были интерес к составу «команды» и «соревнованиям», их обсуждение с другими болельщиками, участие в торжественных мероприятиях и приобретение атрибутики – сувениров с символикой «команды». Вы можете быть простым болельщиком или заядлым «фанатом», можете временно ощущать себя членом «команды» в некоторых «соревнованиях» и «конкурсах» – например, по поводу продолжительности истории «клуба», красочности его традиций, числа всемирно известных игроков и масштаба их достижений. Однако в любом случае сохраняется значительная дистанция, часто даже пропасть между судьбой «клуба» и отдельной личности, оставляющая за нею право «разочароваться» и переключиться на другой «клуб» – например, клуб поклонников группы «The Red Hot Chili Peppers» или фанатов футбольного клуба «Челси». Ранее членам «клуба» часто недоставало удобной и необременительной формы выражения своих эмоций болельщика, способных повлиять на исход «соревнования». Теперь современные средства массовой коммуникации предлагают идеальные формы активности, такие как голосование через SMS и сеть «Интернет». Три конкурса «Евровидения» с участием представителей Армении – два взрослых и один детский – позволяют уверенно говорить о новом явлении. Трудно припомнить другой подобный случай единодушия и эффективности нашей диаспоры в самых разных странах. По крайней мере, итоги голосования по таким странам, как Россия, Турция и Грузия, однозначно указывают на солидарное голосование проживающих там армян при сильном разбросе остальных голосов. Какой, в самом деле, удобный способ демонстрации своей принадлежности к Армянству – необременительный, простой и анонимный. Обезличенность, нейтральность и эффективность современных коммуникаций гарантируют, что ваш голос дойдет до места назначения и скажется на результатах. Когда «победа» – не важно, в чем и над кем – достается перевесом в несколько голосов, когда телезрители разных стран могут лицезреть высокое место вашего «клуба» в общем списке, ваше сердце наполняется гордостью – вполне возможно, именно ваш голос и ваша активность оказались решающими. В таком солидарном голосовании и такой гордости нет ничего дурного. Плохо то, когда подобного рода голосования и покупка «атрибутики клуба» становятся главными проявлениями армянской идентичности. Идентичность «болельщика команды» ныне свойственна значительной массе армян, в первую очередь, безусловно, в Спюрке. (Хотя это вовсе не означает, что с идентичностью в самой РА дела обстоят образцово-показательно). Существует и другая, «максималистская», крайность, когда составляется целый список необходимых качеств – всем, кто не обладает таковыми, отказывают в праве называться армянином. При этом в явном или завуалированном виде в категорию «сомнительных лиц», которым надо доказывать свое «соответствие», оказывается включенным большинство Армянства, в том числе практически весь Спюрк. Некоторые «пункты» подобных списков зачастую так жестко сформулированы и оторваны от реальной жизни, что ничтожное количество армян сегодня в состоянии им соответствовать. Список оказывается тоталитарным по своей сути и преследует цель создать чувство неполноценности и уязвимости чуть ли не в каждом, кто попытается «пройти тест» на армянскость. В этом случае армянская идентичность становится предметом тщательного расследования. Она рассматривается как пропуск в закрытое сообщество, доступ в которое требует прохождения длительной процедуры «инициации». Новоявленному адепту, претендующему на вступление в ряды «ордена», уже недостаточно родиться армянином или считать себя армянином, он должен доказать свое право, после чего ему отводится ступень на длинной лестнице иерархии армянскости без какого-либо права обсуждения как самих принципов ее построения, так и критики «старших наставников». Любое частичное несоответствие законам «евгеники» армянской идентичности приводит к отказу от права называться армянином. Причем как сам принцип построения списка, так и жесткость требований позволяют в любой момент времени и в любых условиях обнаружить несовершенства практически в любом члене «ордена». Привычная картина из жизни закрытых, авторитарных обществ и структур. Данный подход рассчитан на людей с высоким уровнем самосознания, рефлексии и социальной активности. Для других проблемы идентичности просто не существует. Не важно, полноценна она или ущербна – она воспринимается как нечто природное, само собой разумеющееся. Проблема становится просто болезненной для Спюрка, нагруженного различного рода психологическими комплексами по поводу своей идентичности, и на практике выливается в попытки эксплуатации этих комплексов. Одним из важных условий «списка требований» является, например, готовность рассматривать репатриацию как актуальный для себя и своей семьи вопрос. Очевидно, что сегодня лишь ничтожное меньшинство армян Спюрка к этому готово. Следовательно, практически весь Спюрк попадает в положение «недоармян» или «неармян». Дело вовсе не в том, чтобы оправдывать всех и вся в Спюрке или его идеализировать. Нужно ясно и четко говорить о конкретных достоинствах и недостатках, не хватаясь по всякому поводу за такие святые понятия, как наименование «армянин». Возьмем простой пример, аналогию из семейной жизни. Жена может ругать мужа за множество больших и малых недостатков – от неаккуратности до неумения заработать деньги. Но постоянно твердить ему, что он не мужчина – приведет ли это к росту чувства ответственности за семью, подтолкнет ли на подвиги в семейной жизни? Или это верный путь к разрушению семьи? В одном случае говорится о недостатках, в другом – об ущербности человека как личности. В первом случае цель – исправление. Во втором – либо просто выплеск раздражения и злости, нежелание задуматься о возможных последствиях, либо стремление дискредитировать, унизить человека в его же собственных глазах, чтобы легче было его использовать. Ущербность «списочного подхода» ярко видна на примере граждан Армении. Очевидно, что им намного проще соответствовать большинству критериев армянскости. Но тогда мы должны согласиться, что политические и околополитические авантюристы, готовые продать за тридцать сребреников интересы армянской государственности, предприниматели и недобросовестные чиновники, разрушающие своими шагами как экономику страны, так и нравственные начала армянского общества, являются большими армянами, чем талантливые армянские музыканты, врачи, спортсмены в Спюрке, чем бизнесмен, считающий долгом выделить часть своих средств на возрождение Армянского мира. Казнокрад, государственный преступник, предатель, любой гражданин РА, который относится к своей с трудом возрождающейся стране по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», оказываются по многим списочным параметрам большими армянами, чем иноязычный патриот, работающий на благо Армении в Спюрке, который пока не планирует перебираться с семьей в Армению. Ведь у тех, первых, правильное место жительства, нет проблем ни с языком, ни с воспитанием армянами своих детей. Хотя на самом деле эти категории лиц приносят своей стране реальный вред в отличие даже от худшей, неуклонно ассимилирующейся части Спюрка – всего лишь пустого балласта для Армянства. Все новое – это хорошо забытое старое. Возможно, в самом деле, забыты не столь уж давние деления армян на «плохих» и «хороших», «настоящих» и «ненастоящих», «врагов» и «своих» по классовому и партийному признакам. Допустим даже, что сегодняшние критерии выбраны достаточно обоснованно. К каким практическим результатам может привести постановка вопроса: кто на самом деле армянин, а кто армянин только по происхождению? Даже последний «статус» при таком подходе становится проблематичным – сразу возникает вопрос о проценте армянской крови. Разрушающий смысл любых анкетных и списочных подходов с формальными критериями очевиден и проверен неоднократно в течение XX века – они либо обречены оставаться пустыми словами, либо ведут к появлению «суда», рассматривающего конкретные «личные дела». Неужели кто-то верит, что такого рода разделение окажется чудодейственным лекарством, заставит «сомнительных» посыпать голову пеплом, в сжатые сроки освоить язык, погрузиться в глубины армянской культуры, записаться в очередь на репатриацию? Даже если список требований абсолютно правилен, рассчитывать на его позитивный эффект – непростительная схоластика, питающаяся умозрительными конструкциями. У того, кто оторван от Армянства, но испытывает смутную потребность встать на путь возвращения, ощущает хотя бы слабую тягу к родине предков, отказ в праве называться армянином (если чьи-то полномочия отказывать в таком праве или присваивать его вдруг будут восприняты всерьез) только усилит комплекс собственной неполноценности. Это отнюдь не самый лучший стимул, скорее наоборот. Человек не пойдет туда, где ему с порога станут указывать на его ущербность. Где факелом, которым нужно освещать путь, держа его в высоко поднятой руке, будут тыкать в лицо, требуя отчета, предлагая заполнить анкету, которыми печально прославилась советская власть (и ХХ век в целом). Такой человек получит еще один повод раствориться в неармянской, привычной для себя среде, где его уже считают своим или сочтут очень скоро. Мы достаточно старый народ, чтобы не понимать: любые попытки подчинить многообразие народной жизни той или иной теории – классовой, этнической, расовой и пр. – ведут к «рассечению» и «отсечению». Армянскому миру неоткуда компенсировать новые утраты. Борьба за каждую личность, каждую социальную, религиозную и пр. группу, ощущающую себя частью Армянства, без сомнения, должна иметь совершенно другой вектор – не отторжения, а притяжения. Вместо разного рода большевистских «проверок» и схоластических «сводов правил» гораздо полезнее было бы задуматься об эффективных способах возрождения, усиления армянской идентичности в диаспоре и воспитания на родной земле здорового патриотизма, инстинкта государственности. В таком контексте допустимо говорить о желательности, важности неких характеристик армянина. Но при другом подходе к людям: не выставляя с порога требования, не отнимая ни у кого права, которое даже самые тоталитарные, враждебные Армянству режимы не могли отнять, – права считать себя армянином. Важно отдавать себе отчет, что сейчас никто, к сожалению, не толпится в очереди, ходатайствуя о признании его «хорошим», «настоящим» армянином или вообще армянином. Для начала нужно привлечь людей, создать поле притяжения к Армении и Армянству в том глобализированном мире, где каждого человека ежечасно и ежеминутно пытаются соблазнить идеологическим товаром, культурной продукцией, верованиями, культами, другими идентичностями – «космополитичной», «американской», «французской», «российской» и т. д. Подведем промежуточный итог. Нельзя допустить размывания армянской идентичности до уровня самосознания спортивного болельщика. Однако не менее вредно устанавливать жесткие критерии идентичности, дополнительно раскалывая и без того разобщенное, неоднородное Армянство. Необходимо работать с людьми, используя операциональный критерий – практику. Время не ждет, и в эту работу нужно включаться как можно большему числу людей. Несомненно, упомянутые выше два крайних восприятия армянской идентичности связаны с историческим прошлым и той нишей, которую наш народ занимал последние века. Существование в качестве относительно замкнутой этно-конфессиональной группы в рамках крупных держав имперского толка, необходимость выполнять специфичные и жестко ограниченные социально-экономические функции (крестьянский труд, ремесленничество, торговля, предпринимательство), высокие, практически непреодолимые барьеры, отделяющие Армянство от других, базовых для государственности институтов (центральное и местное управление, судебная система, армия, крупное землевладение), не могли не привести к деградации и сужению базы идентичности. Полное отсутствие одних органичных для нации функций и способность выполнять большинство других исключительно в составе держав мирового масштаба привели к ключевому национальному дефекту, который имеет множество граней. Проблемы с построением самостоятельного и подлинно независимого государственного организма и проблемы с выработкой полноценной и автономной идентичности есть две грани этого ключевого дефекта. Мец Егерн и появление Спюрка создали дополнительные предпосылки для закрепления неполной идентичности. Однако государственность Советской Армении, пусть даже ограниченная, и связь с землей, уцелевшая в таких исторических регионах как Арцах, Сюник и др., создали основу выхода за рамки прежней идентичности в конце 80-х годов. Длительный процесс превращения нации в этнокорпорацию, а затем ее дальнейшей деградации по периферии до состояния «клуба» не мог не повернуть вспять с очередным возрождением армянской государственности, но движение вперед быстро стало пробуксовывать, демонстрируя всю глубину недуга. Очевидно, и второй полюс восприятия идентичности есть следствие тех же исторических причин. Попытки возведения и укрепления границ, жестко отделяющих Армянство от внешнего «опасного» и «враждебного» мира, есть следствие осознания своей неполноценности, своего рода защитная реакция, позволяющая законсервировать армянскую идентичность. Необходимость выживания, по крайней мере, как общины, вынужденный отказ от многих органов и функций национального организма не могли не привести к появлению социальных инстинктов, стремящихся замкнуть Армянский мир на самого себя. Оборонительная стратегия неминуемо ведет к обращению здоровых инстинктов борьбы внутрь, к тем расколам и конфликтам, о которых столько написано и древними летописцами, и публицистами XIX-XX веков. Стратегия мощи и силы, созидающая державы, основана не на численности государствообразующего народа, а на векторе инклюзивности, то есть включения, ассимиляции, переваривании в контактных зонах всего чужеродного, что только возможно – народностей, культур, материальных и нематериальных ценностей. Стратегия слабости, разрушающая не только государство, но даже возможность его создания, основана на эксклюзивности, то есть на попытках отстоять некую «чистоту», некий набор свойств, раз за разом изгоняя за рамки все отклоняющееся, обрубая все боковые ветви. К сожалению, последняя стратегия стала для нас привычной. Именно вследствие падения политических и размывания этнотерриториальных границ укрепление и ужесточение границ этнических казалось многим некоей компенсацией этих потерь. Однако в реальности это оказалось всего лишь следствием предыдущих поражений и очередным шагом к новым огромным утратам. Достаточно вспомнить хотя бы религиозный принцип, исходя из которого с колоссальными потерями для Армянства от него жестко отчуждались армяне-халкедониты, армяне-католики, армяне-протестанты, армяне-мусульмане. Любые попытки продолжать сегодня эту стратегию объективно препятствуют возрождению Армянского мира и укреплению государственности. Фактически мы имеем дело с двумя противоположными пониманиями природы границ, отделяющих Армянский мир от мира внешнего. В первом случае границы оказываются исчезающе незаметными и несущественными, во втором – непроницаемыми, и в обоих случаях Армянский мир оказывается зависимым и несамостоятельным, замыкаясь в первом случае полностью на внешний мир, схлопываясь и съеживаясь – во втором. История уже многократно доказала, что с точки зрения государственного строительства стратегия инклюзивности – включения и встраивания в Целое всего разнородного – не имеет альтернативы. Она совмещает открытость разного рода границ с наличием мощного внутреннего центра притяжения. Для этого необходимо отказаться от попыток окончательно сформулировать нормы армянской идентичности. Ее концепция должна постоянно развиваться. Концепция идентичности не может быть самоцелью, по крайней мере, до полного восстановления неоспоримого суверенитета над Армянским Нагорьем, но должна служить только средством сплочения ради практических дел. Главное требование – центростремительность инициируемых процессов. При определении армянской идентичности мы должны исключать любые определения и подходы, приводящие к исключению из Армянского мира или отдалению от него личностей, социальных групп, общин, находящихся на его периферии или даже в контактной зоне. Любые философские, культурологические, политические и другие теории и взгляды, ведущие к дальнейшему расчленению и распылению армянского народа, должны отметаться и отторгаться. Во главу угла должна ставиться идеология инклюзивности – выявления в периферийных группах мельчайших остатков армянской идентичности и постепенного полноценного включения этих групп в Армянский мир. При плановом и целенаправленном использовании этой стратегии разнохарактерность чужеродных элементов не растворит, а укрепит неизменную основу, духовное ядро Армянского мира.
-
Процесс не пошел (не прошел) Наверное надо написать пару слов с утра по поводу приостановки армяно-турецкого процесса, но как-то не тянет, - усталость от всего этого. Все давным-давно написано. Лучше расположусь-ка поудобнее, готовясь к спектаклю, который начнет разворачиваться в ближайшие дни. Как все те, кто вчера так страстно отдавался Турку, втайне надеясь на то, что Серж Саргсян небезразличен к вуайеризму и сочтет интересным, снизойдет до того, чтобы понаблюдать за совокуплением из-за ширмочки или через глазок - одним глазком, мгновенно перестроятся и поменяют позу и партнеров по «бизнесу». Какие там три дня или до первых петухов, - и глазом моргнуть не успеем, как окажемся отодвинутыми, затертыми куда-то туда – в даль. Можно сказать, кожей чую, как они «разворачиваются в стремительном марше». Ну и слава богу... Пытаться объяснить им, что все не так, что жизнь и люди, Армянство - несколько более сложное явление и у них могут быть другие цели и задачи, думаю, бесполезно. Для всех тех, кто оказался верен памяти предков, внутреннему голосу, не поддался, не изменил себе и Родине, хотел бы выделить одну грань этого процесса. Это в том числе и наша общая заслуга – всех нас. Публичных и непубличных, очень и очень влиятельных армян, входящих в сотню, а может и еще выше, влиятельнейших людей планеты до последнего старика в армянской горной деревушке или школьника, который только-только входит в жизнь, учится принимать решения и отвечать за них. Да, были и остаются глобальные, региональные, локальные и пр. процессы, но это, в том числе, и МЫ (Пелешян), – Армянский мир, сумели повлиять на ситуацию и приостановить реализацию катастрофического для Армянства сценария. Результатом – для всех нас - должно стать осознание того, что мы МОЖЕМ влиять на ситуацию и принимаемые решения. Должно прийти осознание того, что в XXI веке невозможна реализация сценариев, против которых встает народ. Нет такой силы, которая могла бы противостоять воле народа, - если это действительно воля и это действительно народ, а не «историческая общность людей», проживающая на территории планеты Земля. Глядишь, еще чуть-чуть, и мы придем к формуле, что ДОЛЖНЫ менять ситуацию и влиять на решения глобальных и региональных центров силы, армянских президентов, актуальной армянской элиты.
-
Последний предел Катыньская трагедия вот уже почти четверть века привлекает к себе внимание всего мира. Недавно она вновь оказалась в центре всеобщего внимания в связи с крушением президентского лайнера, направлявшегося к месту захоронения жертв трагедии. Именно это обстоятельство мы и хотели бы подчеркнуть особо: польская делегация во главе с президентом страны направлялась, причем через несколько дней после такой же акции, возглавляемой премьер-министром, почтить память польских офицеров, репрессированных Советской властью. Для нас, армян, все, что связано с катыньской трагедией, исполнено особого смысла. Ведь за 20 лет до Катыни, где погибли 22 тысячи польских офицеров, в конце 1920 - начале 1921 гг. большевики, только что пришедшие к власти в Армении, репрессировали более 1400 генералов и офицеров Армянской армии. Правда, не все они были тут же расстреляны, однако те же расстрелы, ссылки, концлагеря в итоге действительно лишили армянскую нацию лучших ее сыновей, «цвета нации», как справедливо говорят поляки о жертвах Катыни. Армянская история в отсутствие государственности - есть история утрат не только территорий, но и последовательной утраты элиты. Как свидетельствуют летописи и исторические хроники, завоеватели, не удовлетворяясь традиционными материальными трофеями и пленением с целью выкупа, целенаправленно уничтожали национальную аристократию, главной задачей которой, как и у всех народов, была защита Отечества. Так что уничтожение национального дворянства, знати было по существу уничтожением и военной аристократии и наоборот. Это - тема отдельного и очень интересного разговора, здесь же мы только обозначим ее. Очень старая история Манук Абегян, анализируя «Историю халифов» хрониста VIII в. Гевонда, утверждает, что уничтожение армянской знати - это целая политическая программа, которую магометане осуществляли с начала VIII века. Он цитирует Гевонда, который пишет: «Халиф Влид в первый же год своего правления хотел истребить роды нахарарские... Ибо говорил, что «они (нахарары) будут препятствием нашему владычеству...» Приведем два эпизода из поведанных Гевондом. Захватив Нахиджеванский край, магометане призывают к себе армянских нахараров с их всадниками якобы для внесения в список получателей жалованья. «Они, - пишет Гевонд, - по обыкновенной своей простоте не предполагали здесь хитро устроенной для них западни и отправились по приглашению. Армян (по некоторым данным более 800 человек - Л. М.) разделили на две части, из коих одну заживо сожгли в нахиджеванской церкви, а другую - в церкви города Храм... И опустела страна наша». Второй эпизод также относится к началу VIII века, когда захватчики еще только пытались «искоренить из армянской земли все знатные роды азатов с их конницей». Он примечателен двумя моментами. Первый. Арабы безжалостно преследуют и уничтожают князей Васпуракана, и те, вступив в переговоры, задают своим покорителям потрясающий по своей наивности вопрос, который мы, ничему не научившись, повторяем в схожих ситуациях и сегодня, 1200 лет спустя: «Из-за чего вы преследуете нас? Чем мы провинились перед вами? Страна наша пред вами: вам уступаем свои жилища, виноградники, леса, огороды и поля наши, для чего же вы хотите иметь и нас самих? Позвольте нам пройти за пределы наши». Повторяем, несмотря на то, что теперь уж ответ на него точно известен: в начале VIII века васпураканскую армянскую элиту уничтожали для того, чтобы в начале XX века легче было бы осуществить Геноцид в качестве завершающего этапа упомянутой М. Абегяном программы уничтожения армянской нации, а нахиджеванскую элиту уничтожали для того, чтобы в 1920 году турецкие войска смогли с легкостью войти в осиротевший с XIII века край и истребить или изгнать еще сохранявшиеся на этой территории остатки его исконных владельцев. Арабы отклонили просьбу васпураканцев. И отсюда - второй поучительный момент. Оказавшись в безвыходной ситуации, армяне, которых было меньше 2000, вступают в бой и наголову разбивают 5-тысячное вражеское войско, из которого осталось в живых только 300 человек. Подобными свидетельствами полны практически все армянские летописи. Почти современная история Репрессии Советской власти против армянских офицеров были, по сути, продолжением этой многовековой политики по ослаблению армянства, лишению его способности к сопротивлению. Это утверждение полностью подтверждается множеством конкретных исторических фактов, которые исследовал, в частности, профессор Гюлаб Арамович Мартиросян, автор чуть ли не единственного исследования по этой теме «Офицеры Республики Армения в концлагере города Рязани» (Рязань, 2002). Так, сравнивая масштабы репрессий офицеров в Армении и соседних республиках, он приходит к выводу, что репрессии офицеров в Грузии и Азербайджане не могли привести к разрушению вооруженных сил этих стран, так как всего 200-250 офицеров этих республик были отправлены в концлагеря России. А среди 93 офицеров Грузинской армии, находившихся в концлагере Рязани, было 8 русских и 36 армян, служивших в ней как жители Тифлиса. Как бы то ни было, к сентябрю 1922 года почти все они вернулись домой. О каких армянских вооруженных силах и каких офицерах идет речь? Армянские вооруженные силы были организованы раньше правительства и самой Республики Армения. В начале 1917 года в Российской армии служили более 160 тысяч армян. Сразу же после Февральской революции представители армян в России обратились к Временному правительству с просьбой о возвращении на Кавказ армянских офицеров и солдат с европейского фронта. Правительство Керенского, который в свое время был адвокатом армянской стороны в известном «деле «Дашнакцутюн» и хорошо разбирался в сложившейся ситуации, это предложение оценило положительно. Офицерам армянского происхождения было разрешено покинуть свои части и отправиться на защиту исторической Родины. В итоге уже летом 1917 года на турецком фронте было создано 6 армянских полков. К октябрю 1917 года на этом фронте уже действовали две армянские дивизии. К концу 1917 года они вошли в состав вновь организованного Армянского корпуса: командующим корпусом был назначен генерал Товмас Назарбекян, начальником штаба - генерал Вышинский, командиром первой дивизии, состоящей из четырех полков, - генерал Арамян, командиром второй дивизии - полковник Силикян, командиром конной бригады - полковник Горганян. В корпус была включена дивизия генерала Андраника, состоявшая из трех бригад: первая включала Эрзрумский и Ерзнкайский полки, вторая - Хнусский и Караклисский полки, третья - Ванский и Зейтунский полки. В составе корпуса были также местные подразделения - Лорийский, Шушинский, Ахалкалакский и Казахский полки. За короткое время своего существования вооруженные силы РА вели исключительно национально-освободительную войну, отражая непрекращающуюся агрессию Турции и других соседей. На их счету оборона Карабаха, Зангезура, Утика, героические сражения мая 1918 года, наконец, отчаянное сопротивление вторгшимся осенью 1920 года в Армению турецким войскам. Советизация Армении, как известно, была осуществлена без единого выстрела со стороны армянской армии. «Соглашение между правительствами РСФСР и Республики Армения об условиях сдачи власти в Армении Военно-революционному комитету», заключенное 2 декабря 1920 года, содержало специальный пункт, который гласил: «Командный состав армянской армии не подвергается никакой ответственности за действия, совершенные в рядах армии до провозглашения Советской власти в Армении». Этот пункт, как, впрочем, и остальные, был вероломно нарушен большевиками буквально через 10 дней. Репрессии, особенно во 2-й половине января, приняли такие масштабы, что министр иностранных дел Советской Армении А. Бекзадян 26 марта 1921 года вынужден был обратиться в ЦК РКП(б) с письмом, в котором отмечал, что за 3 месяца существования Советской власти в Армении были арестованы 1400 офицеров Армянской армии (как подсчитал Г. А. Мартиросян, в том числе 20 генералов и 30 полковников). Руководивший этой акцией глава ЧК Армении Геворк Атарбекян, ссылаясь на инструкции ВЧК, требовал спешной и безусловной высылки за пределы Армении всех бывших офицеров, даже состоящих на службе в Красной Армии и даже с партийными билетами. Трудно сказать, действительно ли существовала такая инструкция, в чем сомневался А. Бекзадян, или то была личная инициатива палачей армянского народа Геворка Атарбекяна, Ависа Нуриджаняна и других, но высылались действительно все. «Такая огульная массовая высылка всех бывших офицеров, громаднейшее число которых не участвовало в гражданской войне против Советской России и входило в ряды армянской интеллигенции, не могла не отразиться на настроении трудящихся масс Армении в нежелательном для Советской власти смысле и не создать определенное враждебное к ней отношение, которое и было использовано нашими противниками», - пишет Бекзадян, имея в виду Февральское восстание 1921 года и указывая на одну из его причин. И поскольку чекистские репрессии вряд ли имели целью вызвать восстание, то следует предположить, что целью их было именно уничтожение «цвета нации», возможной способности армян к сопротивлению, что не могло уложиться в сознании даже «нормальных» большевиков. Об этом свидетельствуют и повальные аресты армянских офицеров и интеллигенции на территории Азербайджана и Грузии, где в течение 10 дней после советизации были арестованы и отправлены через Баку в концлагерь города Рязани 219 армян. Интересно, знали местные исполнители указания ВЧК, да и само их московское начальство о приказе начальника Генерального штаба Турции Исмет-бея от 20 сентября 1920 года, в котором цель турецкого вторжения в Армению была сформулирована хоть и ложно, но четко и ясно: «Наша главная цель - уничтожение армянских вооруженных сил»? Не исключено, конечно, что о самом приказе они не знали, но, по сути, продолжали выполнять его, завершая начатое турками в ходе войны. Чудовищность замысла подтверждается тем обстоятельством, что 90% арестованных были молодыми людьми 22-35-летнего возраста. А демографическое положение Армении в 1920-1921 гг. было катастрофическим: на 1000 человек населения рождались 8,7, а умирало 204,2 человека. Вооруженным силам Армении, армянскому народу в целом был нанесен страшный удар, последствия которого мы испытываем до сих пор. Спасители армянской государственности Исследователи последовательного многовекового уничтожения армянской элиты, вероятно, когда-нибудь проследят преемственную связь, не всегда очевидную и непосредственную, между процессом уничтожения элиты и судьбой армянского народа, с внутренним смыслом нашей истории, который, по словам уже упоминавшегося нами М. Абегяна, заключается главным образом в борьбе против чужеземных поработителей во имя защиты своего физического существования и своей духовной жизни. Такую связь, к примеру, Г. Мартиросян видит между арестами армянских офицеров и интеллигенции в первые месяцы Советской власти и заключением Московского договора от 16 марта 1921 года. Возможно. Конечно, было бы логично включить в настоящую статью хотя бы краткий рассказ о славных боевых действиях Армянской армии, крупнейших сражениях, в которых принимали участие репрессированные генералы и офицеры, назвать поименно хотя бы наиболее выдающихся из них, поведать об их дальнейшей судьбе. Однако сделать это в газетной статье невозможно. Скажем только, что Армянская армия в те годы выполнила главную свою задачу - спасла армянскую государственность, и уже этого одного достаточно, чтобы заслужить вечную признательность народа. Но тут-то и возникают вопросы: как народу эту благодарность осознать и как ее выразить? Проблемы тоже для нас не новые. Процитируем историка Гевонда в последний раз. Описывая героическое сражение под Арчешем в 775 году, в котором малочисленные армянские силы бесстрашно вступили в бой с 30-тысячным вражеским войском, Гевонд так завершает свой рассказ: «...Страна наша, погруженная в глубокую печаль, стоном стонала, оплакивая кончину своих храбрых и славных защитников... Все это еще больше усилило гнев наш: запрещено было даже открыто оплакивать умерших и скорбеть о них, совершать поминки по ним и предавать могиле погибших». Так что только благодаря такому чуду армянской истории, как Гевонд и ему подобные подвижники, мы сегодня, 12 веков спустя, знаем о доблестных подвигах наших героев и можем выразить им свою благодарность. Если, конечно, пожелаем. Условия VIII и XX веков слишком различны, чтобы искать в них буквальное сходство, однако слишком уж приложимы запреты, упомянутые Гевондом, к запретам, наложенным большевистской властью на память об истинных героях майских сражений 1918 года, видных военачальниках Армянской национальной армии, особенно жестоко погубленных ею. Построенный этой же властью полвека спустя великолепный мемориал на поле Сардарапата не мог искупить содеянного преступления, ибо, во-первых, подобное преступление искупить вообще невозможно и, во-вторых, памятник оказался хоть и прекрасным, но каким-то неполным, во всяком случае, репрессированным армянским офицерам на нем своего особого места не нашлось. Здесь уместно вспомнить факт, который поведал нам весьма осведомленный человек, историк-академик Грачик Рубенович Симонян. Оказывается, когда в середине 60-х в ЦК КП Армении разрабатывался проект Мемориала в Сардарапате, предполагалось, что это будет Музей армянского национально-освободительного движения в широком историческом плане. Проект был послан в Москву, однако приехавший из центра функционер (все фамилии известны) представил отрицательное заключение, и на территории Мемориала был открыт этнографический музей. Это тоже тема отдельного разговора, но, может, есть смысл сегодня, не ожидая разрешения Москвы, вернуться к первоначальному замыслу. Может, тогда на территории Мемориала появится специальный памятный знак в честь воинов, которые приехали помочь исторической Родине в минуту опасности и не только, как и остальные, участвовали в Майских сражениях, но и стали затем жертвами репрессий. Может, тогда в музее Мемориала появится и специальный раздел, подробно рассказывающий о героической и трагической судьбе этой части офицеров Армянской национальной армии Первой Республики Армения. Может, внимание к этой драматической странице нашей истории распространится за пределы Мемориала и в Аванском ущелье будет увековечена память о зверски убитых армянских генералах и офицерах, как предлагают в своих письмах их потомки. Может, тогда вспомним и о погребенных в спешке в братской могиле в селе Чанахчи 150 вероломно расстрелянных турками участниках Караклисского и других сражений. Вот уже 92 года эта частица «цвета нации» лежит там забытая нацией и самим Господом, ибо могила не ограждена и на ней не установлен даже простенький крест. Обо всех этих и других случаях преступного забвения памяти репрессированных офицеров и солдат Армянской национальной армии «ГА» в последние годы писал не раз (см. «ГА», 29.05.2008 г., 02.10.08 г. и др.). Пока, к сожалению, каких-то существенных сдвигов в этом вопросе добиться не удалось. Несмотря на это, мы будем и дальше продолжать прилагать усилия в этом направлении, возможно, добиваться включения этой проблемы отдельным пунктом в военно-патриотическую программу «Страницы истории и культуры», осуществляемую Министерством обороны РА. В конце концов, и первые лица Армении также должны иметь возможность посещать места массовых захоронений репрессированных армянских офицеров – «цвета нации» и выражать им свою признательность. Левон Микаелян
-
Мгер джан! А ты знаком с трудами Вилена Сафаряна? http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=916752
-
Покоритель Истины Вилен Сафарян Незамеченно для научной среды и общества ушел из жизни замечательный человек и выдающийся исследователь Вилен Сафарян. Подобно метеориту, ворвался он в историческую науку в 2002 году, высветив своими ошеломляющими результатами одну из фундаментальных страниц мировой истории, - происхождение письменности т. н. «Шумера». Он был первооткрывателем, результаты изысканий которого, пусть с опозданием, но обязательно произведут переворот в науке. Горько сознавать, что в руководстве нашей Академии наук не нашлось человека, который за эти семь лет хоть раз поинтересовался бы революционной работой Вилена Сафаряна. Обычно в подобных случаях говорят, что такова участь многих великих ученых и их идей, которые в свое время не признавали. Но под общей формулой в каждом конкретном случае была своя драма. А драму ученого всегда создавала косная научная среда. Так как имя В. Сафаряна, к сожалению, мало знакомо читателям, вкратце изложу миссию, которая уготована была ему судьбой. Закончив геологический факультет ЕГУ, В. Сафарян всю жизнь проработал геологом. Но, будучи высокообразованным человеком, он, как и многие армяне, постоянно интересовался нашей историей и культурой. И чем больше он углублялся в историю, тем больше замечал в ней противоречий, порождающих вопросы, не имеющие ответа. А среди этих вопросов доминирующим был вопрос об утерянной древнеармянской письменности: какую письменность опекал армянский бог письма Тир? Пытливый ум Сафаряна стремился не просто задавать вопросы, но и получать ответы. Это и предопределило его многолетнюю скрупулезную исследовательскую работу в поисках ответов. Вот как сам В. Сафарян сформулировал мотивацию своих научных изысканий: «Обилие неубедительных аргументов, негармоничность в логических построениях предопределили процесс реанимации мертвого дела «мертвых языков». В. Сафарян знал, что без письма нет культуры, понимал, что бог письма Тир (Джир, Грох) был богом реального, а не мифического письма. Поиск привел его к загадочным «шумерограммам», до сути которых никто до него не смог докопаться. История письма - один из главных разделов исторической науки. При помощи дешифровки забытых письмен ученым удалось прочесть неизвестные страницы мировой истории. А это - очень трудная, кропотливая работа, требующая огромной эрудиции и обязательно - интуиции. Не случайно из огромного числа исследователей успеха в дешифровке добивались единицы. И среди них наш В. Сафарян. Специалисты отмечают, что существует два пути дешифровки. Один - механический, на основе существующего методического анализа. Второй путь - аналитический, базирующийся не только на знаниях, но также и на интуиции. Тут следует подчеркнуть, что в истории науки немало примеров, когда специалист в одной области знаний добивался успеха в другой. Например, дешифровщик древнего критского письма М. Вентрис был архитектором, ну а имена Гете и Бородина всем известны. Для науки не важно, кто сделал открытие. Главное, чтобы человек, взявшись за серьезную проблему, вырос до профессионала и пользовался бы научными методами. Именно так и поступил Вилен Сафарян. 30 лет в свободное от основной работы время, с пяти часов утра пытливо изучал он всю имеющуюся литературу, связанную с письменностью народов Ближнего Востока и Египта. Его окружение не знало, чем он занимается. Нет необходимости подробно рассказывать о том, что и как преодолевал В. Сафарян в своих поисках. К счастью и к чести армянской мысли, труд его увенчался успехом: наступил миг, когда «мертвый» язык протошумерских иероглифов заговорил живым армянским языком. В. Сафарян обнаружил ключ к древнейшей тайне истории! Многократно перепроверив полученные результаты, В. Сафарян решился выступить перед научной общественностью. В 2002 году он сделал доклад на расширенном заседании научного совета университета управления «Гладзор», а затем издал концептуальную часть своих результатов в книге «Поиски в пантеоне мертвых языков. Доказательства армянского прочтения «шумерских» надписей». Конечно, его доклад поразил своей оригинальностью многих. Во время предварительного обсуждения выступавшие отметили большую важность результатов В. Сафаряна, имеющих не только научное, но и национально-политическое значение, так как раскрывают реальную роль армянского народа в истории мировой цивилизации. А вот цитата из отзыва декана факультета востоковедения ЕГУ Г. Меликяна: «Учитывая важность научной основы исследования и считая необходимым подвергнуть его в дальнейшем серьезному изучению, рекомендую вышеупомянутое выступление к печати и депонированию». А в Ежеквартальном реферативном сборнике №4 за 2002 г. отмечается, что, «обследовав миниатюры, являющиеся уникальными памятниками письменности, информацию, переданную посредством причудливых условных знаков глиняных плиток пятитысячелетней давности, обнаруженных в Междуречье, и критически переосмыслив труды ведущих востоковедов А. Фалькенштейна, И. Фридриха, А. А. Ваймана, И. Дьякова, В. Сафарян выяснил язык звукового ребусного варианта, использованного шумерами», и далее ... «выявленное ... в надписях определенное количество пар анонимов и анофонов является достаточным доказательством того, что «шумерские» тексты написаны по-армянски». Конечно, его доклад ошеломил публику: не все поняли и осознали новизну его выкладок. Это и понятно: трудно усвоить революционно новый подход к старой научной проблеме. После того доклада наши пути пересекались и мы подружились. Я очень сожалею, что мы не имели достаточного времени для дискуссий по сложным проблемам теории письма. Но еще больше сожалею, что обремененный своими проблемами я не смог быть рядом с ним в последние недели его жизни... В. Сафарян покорил научную вершину истинной дешифровки «шумерограмм» и этим совершил научный подвиг. Имя его должно быть записано в истории науки рядом с такими гигантами дешифровки письмен, как Шампольон, Раулисон, Грозный, Вентрис. Какие же качества позволили В. Сафаряну добиться успеха? Он обладал необыкновенной работоспособностью, умением сосредоточиться и предельной точностью. В этом ему, видимо, помогли и высокий спортивный шахматный разряд, и целеустремленность. Но главное, конечно, это острый аналитический ум, позволивший ему среди множества таинственных знаков различить смысл и закономерности, которые выявили структуру армянского языка с его системой омонимов и синонимов. Именно этим качеством видения порядка отмечены работы всех великих людей. Давно замечено, что великие люди обладали и высокими моральными качествами. Это необходимая составляющая в поисках Истины. В. Сафарян был добрым, честным, жизнерадостным человеком, обладал тонким юмором, не терпел низости и подлости. Был большим патриотом. Без таких моральных качеств нельзя добиться глубинного успеха в науке и творчестве. К сожалению, формальный успех сегодня сопутствует другому типу людей. Вершина славы ученого следует (часто с большим опозданием) после покорения вершины Истины. Некоторым же кажется, что можно подняться на вершину славы, минуя миг озарения Истиной и перескакивая через нормы морали, воспользовавшись только манипуляцией чужими выводами. Открытия высвечивают не только мглу веков, макро- и микромира, но также мглу душ окружающих ученого людей. И тогда становятся заметны почитатели и недоброжелатели. Как и любой новатор, В. Сафарян готов был отстаивать свою концепцию по указанным правилам игры, но предоставлять ему такую возможность никто не собирался. Здесь нет необходимости и возможности описать ту драму, в которой оказался В. Сафарян после того, как подобрал ключ к шумерограммам: это дело будущих биографов. Но еще раз подчеркнем, что драма ученого начинается с позиции Академии наук и других чиновников, «регулирующих» науку. В заключение подчеркнем, что В. Сафарян был отличным учеником Учителей нашего народа. Г. Нжде завещал нам превзойти наших предшественников, и В. Сафарян превосходно справился с этой задачей. Он ушел в бессмертие учеником, чтобы затем вернуться Учителем. Самвел Бабаян, независимый исследователь древних символов и алфавитов, автор теории происхождения алфавитов
-
15 лет назад им оттрахали целую армию. Так ничего, Только успевают памятники ставить.
-
Согласно данным американской "Ассоциации контроля за армиями", армия Республики Армения обладает оперативно-тактическими баллистическими ракетами "Skud" на жидком топливе, способными нести различные боеголовки, в том числе, и ядерные. Дальность действия данных ракет составляет 300 км. http://www.armscontrol.org/factsheets/missiles
-
Ванес Мартиросян одержал победу над Джо Грином Ванес Мартиросян (28-0-0, 17 КО), выступающий в младшем среднем весе, одержал очередную победу на профессиональном ринге. 4 июня в Нью-Йорке он встретился в 10-раундовом поединке с Джо Грином (22-1-0, 14 KO), которого победил единогласным решением судей со счетом 96-93, 96-93 и 98-91. В этом бою Ванес проводил защиту титулов NABF и WBO NABO.
-
Грузинские власти делают все, чтобы очистить регион Самцхе-Джавахети от армян Антиармянская политика грузинского руководства набирает обороты, и прошедшие выборы показали это как нельзя лучше. Следующие выборы в Джавахке, если таковые состоятся, могут привести этот армянонаселенный регион Грузии к противостоянию с центральной властью Тбилиси. Сегодняшний Ахалкалаки, увы, ничем не отличается от того, что здесь было 20 лет: разбитые дороги, бедность, безработица, массовый отток работоспособного населения в Россию. Фактически, все заявления президента Грузии о «внимании к проблемам региона» ничего не значат: нет нормальных дорог, рабочих мест. Обогреваются здесь дровами не потому, что газа нет, а потому что очень дорого. Положение в Ахалкалаки еще больше ухудшилось с уходом российской военной базы, благодаря которой армяне могли не уезжать, а работать в Джавахке. Однако база ушла, а вместо нее пришли проблемы: и, в первую очередь, безработица. С уходом военных на родину потянулись и духоборы – сегодня в регионе осталось всего 800 человек, которые тоже собираются в дорогу. Положение армянского населения в Джавахке можно сравнить разве что с ситуацией в Нагорном Карабахе до 1988 года. Грузинские власти делают все, чтобы очистить регион от армян. В городе Ахалцихе, центре региона, армян почти не осталось. В Ахалкалаки и селах района армянское население пока составляет большинство. По мнению местных активистов, единственное требование армянского населения заключается в предоставлении автономии в составе Грузии, разрешение вести делопроизводство на родном языке, развивать культуру и литературу. Но именно этого официальный Тбилиси предоставить не может и не хочет. Вместо этого идет насильственное огрузинивание оставшихся армянских церквей, обязательное введение грузинского языка в школах в качестве основного. Одним словом, антиармянская политика грузинского руководства набирает обороты, и прошедшие выборы показали это как нельзя лучше. Да и дело не только в выборах. Власти превратили армянскую общину Тбилиси в некое эфемерное общество, которое ни на что не способно и делает то, что по ее мнению, хорошо для армян Грузии. И всего лишь единицы, которые адекватно оценивают ситуацию и понимают, куда ведет политика президента Саакашвили. Сам Михаил Саакашвили окончательно уверился в том, что лучше всего дружить с Азербайджаном и Турцией против Армении. Доля вины в нынешней политике грузинского руководства в отношении армянской общины Грузии лежит и на властях Армении. Мы почему-то думаем, что с Грузией нельзя портить отношения, потому что именно через Грузию Армения получает газ, необходимые грузы из России. То есть мы сами поставили себя в положение просителя, в положение слабого. А со слабым еще никто в мире не считался и считаться не будет. Тот же Михаил Саакашвили, если бы почувствовал твердую позицию Армении в вопросе Джавахка, не стал бы проводить активную политику ассимиляции армян. В Квемо-Картли живут азербайджанцы, и они пользуются большими правами, нежели армяне. Правда, надо отметить, что в Грузии любое нацменьшинство воспринимается как недружественное, и поэтому нет очень уж большой разницы в отношении к тем же армянам или азербайджанцам. Равно как и к еврееям, оставшимся русским и другим национальностям. Особое отношение к туркам-месхетинцам, которых Тбилиси никоим образом не желает принимать, несмотря на подписанные перед Советом Европы обязательства. Надо заметить, что в этом вопросе власти и оппозиция едины – Грузию должны населять грузины. Прямо напрашивается параллель с пантюркистами: все, проживающие в Турции, независимо от национальности, турки. Фактически, Грузия идет по пути Ататюрка, который вместо национальности в паспортах решил указывать вероисповедание, что и делается сейчас в турецких удостоверениях личности. Такой демократ Саакашвили на эту крайнюю меру наверное не пойдет, но попытку «мягкой депортации» уже предпринимает. Чем это все закончится для Грузии – сказать трудно. В том же Джавахке армяне никуда уезжать не собираются, и из беседы с ними становится ясно, что они ждут возвращения российских военных. Прямо это пока не заявляется, но настроения такие есть. Но они и не могут не быть в стране, в которой палачам армянского народа устанавливают памятники и мемориальные доски, а на словах клянутся в «вечной дружбе и любви». Карине Тер-Саакян
-
Американо-турецкие отношения Весной 2006 года состоялись два ключевых события в американо-турецких отношениях: состоялся знаковый визит Госсекретаря Кондолизы Райс в Турцию (апрель) и заседание Американо-турецкого совета (The American-Turkish Council's annual conference, Washington, D.C. March 2006). В ходе визита Райс было принято решение подготовить документ «об общем видении стратегии». В начале апреля новоизбранный президент Барак Обама посетил Турцию, заявив, что США намерены поддержать включение Турции в Евросоюз и готовы продолжить стратегическое сотрудничество с ней. Данные политические события имели высший представительный уровень, содержали обсуждение кардинальных проблем американо-турецких отношений. По различным оценкам, формально США и Турции удалось достичь важных договоренностей в отношении перспектив развития отношений, но в действительно данные события только усилили противоречия, выявили уязвимые места в отношениях и поставили целый ряд вопросов. Турция продолжает курс на усиление внешнеполитической самостоятельности, что постоянно наталкивается на барьеры, в качестве конкретных задач США в регионе. Данная ситуация достаточно парадоксальна, так как и США, и Турция стремятся преодолеть возникшие проблемы в отношениях между ними, но даже при данных обстоятельствах постоянно возникают новые проблемы, которые обретают системный характер. То есть, данные проблемы возникают из системных условий в политике США и Турции. Исследования Турции и различной турецкой проблематики США имеют давние традиции, в разное время ими занимались видные американские исследователи и аналитики. В таких ведущих исследовательских учреждениях, как «Центр стратегических и международных исследований», «Вашингтонский институт стратегических исследований», «РЭНД-корпорейшн», «Институт Среднего Востока», Фонд «Наследие», «Центр оборонной информации», «Вашингтонский институт стратегических исследований», а также в ряде университетов существуют либо проекты турецких исследований, либо отдельные темы по Турции. Турецкая тематика регулярно, в различных аспектах, обсуждается в СМИ, на представительных конференциях, в элитарных клубах, публикуется немало книг. Турецкое направление является одним из приоритетных и сложных в разведывательной деятельности. На протяжении нескольких десятилетий Турция, являясь надежным партнером США, не представляла проблем для получения информации, но турецкое общество и политический класс всегда предъявляли США немало сюрпризов. Разведывательным и аналитическим службам США далеко не всегда удавалось адекватно прогнозировать то, что происходило в общественно-политической жизни Турции. Турция не всегда являлась удобным партнером для США, принимая во внимание курдскую проблему, турецко-греческие отношения, проблему Кипра, амбиции Турции в отношении ряда стран Ближнего Востока – Сирии, Ирака, Ирана, армянский вопрос и другие. Наиболее сложными и неудобными для США являются отношения между Турцией и Европейским Союзом. Но все эти проблемы рассматривались США как вполне терпимые, пока в конце 80-х и начале 90-х годов не выявились новые, неприятные тенденции в политике Турции, особенно, в общественных настроениях в отношении США. Несмотря на не очень хорошие ожидания американцев в части партнерства Турции во время иракской войны 2003 года, отказ Турции пропустить 4 дивизию к иракской границе стал шоком для американского истеблишмента и привел к принципиальному пересмотру отношений с Турцией. Американские исследователи и аналитики неохотно высказываются по проблеме американо-турецких отношений. Американцы предпочитают не говорить об одном из блоков в их стратегической политике, особенно, принимая во внимание столь долголетнее тесное сотрудничество с геостратегическим партнером в столь проблемном регионе. По высказыванию одного из ведущих американских политологов Энтони Кордесмана (CSIS), «многое, что можно услышать от американских экспертов о Турции, несомненно, правда, но это только часть правды». Данная формулировка во многом отражает положение в американской политологии и аналитике, так как многие американские исследователи на протяжении многих лет тесно связаны с Турцией, прежде всего, с турецким правительством. Даже если данное сотрудничество осталось в прошлом, американские исследователи ощущают ответственность не только за прошлые обязательства, но и за неспособность верно спрогнозировать те процессы и события, которые произошли в Турции. Большинство американских (как и британских) экспертов не возражают против предложенной им следующей формулировки – «в американо-турецких и турецко-американских отношениях нет глубокого кризиса, данные отношения продолжают оставаться предсказуемыми и ровными, но существующие проблемы имеют тенденцию к усугублению, нет надежд на их скорое решение, что не может позволить США и далее рассматривать Турцию как надежного партнера». Вместе с тем, данная формулировка не совсем адекватна и недостаточно точна, что требует ее расшифровки и развития анализа данных процессов. По оценке Энтони Кордесмана, для экспертов, представляющих такие регионы, как Кавказ, Ближний Восток, Балканы, Россию, характерно переоценивать роль Турции в американской политике. Турция действительно важная страна для США и продолжает оставаться ведущим партнером США в регионе Ближнего Востока. США связывают с Турцией ряд задач в регионах, окружающих Черное и Каспийское моря, на Ближнем Востоке. Но проблемы, возникающие в отношениях с Турцией, не являются приоритетными во внешней политике США. «Если провести один день в Совете национальной безопасности, то о Турции можно вообще не услышать или услышать наряду с двумя десятками других проблем». По мнению эксперта, Турция хорошо представлена различными программами в ведущих институтах и аналитических центрах, Турция довольно часто упоминается в публикациях, касающихся большого спектра проблем, связанных с рядом регионов и проектов. Все это создает впечатление, что для США Турция является ключевой проблемой. По оценке Энтони Кордесмана, экономические связи и экономические отношения США в Турции незначительны. Энергокоммуникационная конфигурация в регионе, в соответствии с планами США, по существу, завершена. Проекты, которые связаны с Турцией, имеют абсолютное политическое обеспечение. Другие проекты межрегионального значения, планируемые США, в среднесрочной перспективе не предусматриваются. Существующий уровень отношений вполне устраивает США, но не устраивает Турцию. Поэтому со стороны Турции поступают различные предложения и претензии, которые не всегда могут быть приемлемы для США. Данное мнение разделяют некоторые другие американские эксперты. Вместе с тем, следует принять во внимание, что имеются различные оценки ведущих экспертов, касающихся американо-турецких отношений. Ряд экспертов, например, Вэйн Мерри (E.Wayne Merry), Бюлент Алиреза (Bulent Aliriza), Сонер Кагатай (Soner Cagaty), Джеймс Джатрас (James George Jatras), Фиона Хилл (Fiona Hil), Джон Ситилидис (John Sitilides) и некоторые другие, придерживаются мнения о том, что проблематичность в турецко-американских отношениях возрастает и что данные проблемы, несомненно, носят системный характер. По их оценкам, проблемы нарастали последнее десятилетие, и США не сумели вовремя осмыслить происходящие события, надеясь на своих традиционных партнеров – турецкий генералитет, который сам подвержен новым политическим веяниям. Игнорирование новых тенденций в Турции привело к провалу в американской политике в отношении этой страны, что привело не к коррекции в тактических планах, а к необходимости пересмотра ряда «опорных» партнеров в регионе. Данная группа экспертов считает, что если б даже Турция сохранила лояльность США, в частности, в отношении военной операции в Ираке, все равно произошли бы изменения в американо-турецких отношениях, так как это обусловлено тенденцией спада интереса США к этой ближневосточной державе как региональному партнеру. В 90-х годах Турция ощутила потерю интереса США к ней, что совпало с нарастающими амбициями Анкары. Другая группа экспертов - Свэнт Корнелл (Svante E. Cornell), Питер Розенблат (Peter R. Rosenblatt), Пол Сандерс (Paul J. Saunders), Джудит Киппер (Judith Kipper), Зейно Баран (Zeyno Baran), Патрик Клаусон (Patrick Clawson), представляющие не только видные исследовательские институты и центры, но и влиятельные политические группировки американского истеблишмента, более оптимистично смотрят на перспективу американо-турецких отношений. По их мнению, несмотря на провал в данных отношениях, обе стороны стремятся стабилизировать отношения, наполнить их новым содержанием и, главное – придти к определенным договоренностям по правилам консультаций и согласованию по вопросам внешней политики. США и Турция понимают, что возвращение к прежним отношениям не будет, и необходимо построить новые отношения. Данные новые отношения должны включать такие вопросы, как региональные направления политики, вооружение и модернизация вооруженных сил, сотрудничество в отношении других партнеров – НАТО и Европейского Союза, по внутренним проблемам Турции и общим проблемам безопасности. По мнению отдельных экспертов, в наибольшей степени заинтересовано в развитии отношений с Турцией оборонное ведомство США, которому необходимо выполнять ряд задач в регионе, что предусматривает сотрудничество с Турцией. (В Пентагоне в значительной мере проблемами Турции был занят предыдущий посол США в Турции Эрик С. Эдельман –заместитель министра обороны по политике, главный советник министра обороны в администрации Дж.Буша. Э. Эдельман заменил на этом посту Дугласа Файта. Он карьерный дипломат, служил послом в Турции с июля 2003 по июнь 2005. До этого работал помощником по национальной безопасности вице-президента Чейни с февраля 2001 по июнь 2003 года. В Конгрессе Турция крайне непопулярна, а так называемое протурецкое лобби, по существу, распалось. Причем, наиболее рьяные ранее защитники интересов Турции заняли откровенно анти-турецкую позицию. По признанию армянских и греческих лоббистов, блокировать решения Конгресса о поставках вооружений Турции стало менее сложным. В отношении кипрской программы США без больших возражений восприняли позицию руководства Республики Кипр по отношению к инициативам ООН и Европейского сообщества. Обычно в Конгрессе имеется значительная инерция в отношении анти-американских решений, принимаемых странами и международными организациями. В американской и британской политической литературе проблемы Турции стали рассматриваться как достаточно принципиальные, и, в определенном смысле, Турция по отношению к интересам и политике США стала «Францией» Востока, то есть, будучи союзником США, она стала «камнем на дороге», о который США постоянно спотыкаются. В большинстве данных публикаций содержат определенные клише, системно повторяемые мысли и выводы, при этом, чаще всего отсутствуют содержательные рекомендации и предложения. Большинство экспертов занимают позицию сожаления по поводу происходящих событий и неудач в попытках урегулирования данных отношений. Создается впечатление, что США, в целом, смирились с этим положением и не стремятся применить оригинальные, новые решения и, тем более, принципиально новые инициативы в развертывании политики на Ближнем Востоке или в Евразии, в рамках которой Турция обнаружила бы свое «почетное» место. США, которые на протяжении десятилетий культивировали пантюркизм как геополитическую и политико-идеологическую доктрину, в начале 90-х годов в значительной мере пересмотрели доктрину пантюркизма, пытаясь представить ее как культурную концепцию. В ряде турецких программ, которые включены в исследовательские планы ведущих аналитических институтов и центров США, пантюркизм выглядит как некие мероприятия, направленные на решение культурных, лингвистических и социальных проблем тюркоязычных стран и народов. Американские эксперты считают, что пантюркизм может быть модернизирован и лишен политических, идеологических и, тем более, расистских элементов. Однако, эти аргументы не всегда выглядят убедительно. Если в Центральной Азии пантюркизм, как геополитическая и идеологическая доктрина Турции, потерпела полное фиаско, так как народы данного региона существенно отличаются от анатолийского культурно-исторического типа, то в Азербайджане доктрина пантюркизма по прежнему популярна, хотя к ней относятся иждивенчески, а политическая ментальность азербайджанского общества во многом имеет подражательный характер в отношении анатолийского социо-культурного и политического типа. Американцы в своей пропаганде всячески стараются избегать обсуждения и даже упоминания данного понятия. В отношении внешнеполитической ориентации Азербайджана у американских экспертов сложилось два мнения. Одни считают, что имеются две угрозы или, как принято выражаться, неприятные перспективы, что связано с исламским влиянием и с идеями пантюркизма. Другие эксперты считают исламизм и пантюркизм вымышленными угрозами, и азербайджанское общество уже вполне определенно сделало выбор – самая радикальная европеизация, при этом, выброс, как аппендицита, всех нетипичных, азиатских элементов и черт, вместе со многими этно-культурно-религиозными традициями. Оба мнения, несомненно, являются крайними, но азербайджанцы на самом деле будут удивлять мир попытками самой радикальной европеизации, когда исламские и пантюркистские идеи всегда будут в маргинальном состоянии. Турция не имеет существенных проблем в Азербайджане и не нуждается в применении нарочитой пантюркистской пропаганды. Вместе с тем, Турция, ощущая, что пантюркистские идея не воспринимаются США, может использовать ее в качестве контр-аргумента. Таким образом, пантюркизм это «законсервированная» доктрина, которая может быть успешно актуализирована, что может стать единой целью борьбы для США и России. США и Россия заинтересованы в ослаблении политических и военных отношений Азербайджана с Турцией, хотя, при определенных обстоятельствах, США попытаются привести турецкое влияние в качестве аргумента в диалоге с Россией. Российско-турецкое сближение, которое очень беспокоит США, может привести к временной поддержке военных усилий Турции в Азербайджане. Вместе с тем, любые усилия США вывести Турцию из-под влияния России не исключают, а, напротив подтверждают намерения США проводить политику сдерживания турецких амбиций, прежде всего, в регионах. P. S. В Вашингтоне развернута довольно широкая дискуссия по турецкой теме, которую инициирует вовсе не администрация или экспертное сообщество США, а сама Турция, ее правительство, с помощью ряда американских экспертов – этнических турок. Ведущий специалист по Турции в США Ян Леззер из Фонда Германа Маршала утверждает, что турки очень хотят выдать данную дискуссию за организованную американцами, но это не так, и администрация вовсе не пытается придать Турции большее значение, чем она из себя представляет. Администрация США приняла тактику не превращать отношения с Турцией в суперважные, и надеется, что внутренняя ситуация в этой стране изменится. Одновременно, США не пытаются предпринять усилия по сдерживанию экспансии Турции в направлении регионов, но только в тактическом формате. США, несомненно, надеются на то, что Турция встретит противодействие со стороны соседей и соперников в регионах, что создаст более благоприятный фон для развертывания американской политики. Но нет сомнений в том, что США уже располагают разработками на случай радикальных действий Турции. Но, это тема для другой статьи.