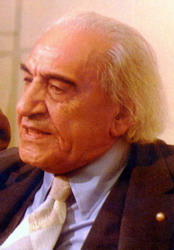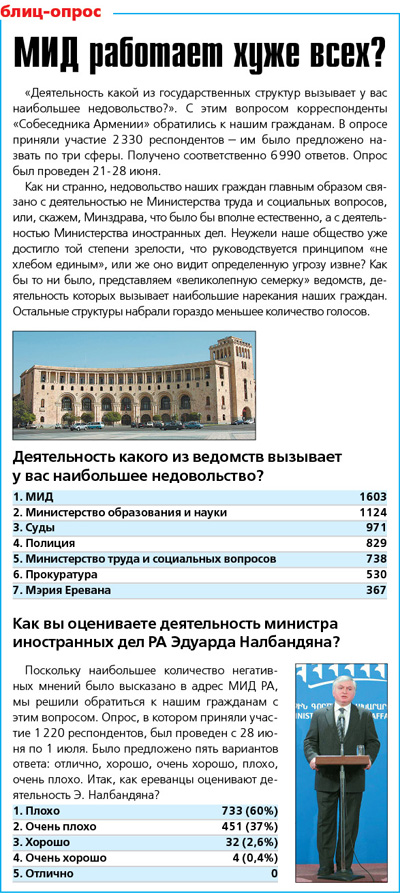-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
1915 год - водораздел в судьбе Комитаса «Комитас. Каждый раз, когда я слышу это имя, передо мной возникают наши неповторимые скалы и чистые родники. Как эти воды, чиста и светла музыка Комитаса, источники которой - в глубинах души армянского народа. Армянская народная песня с самостоятельной вековой историей благодаря Комитасу получила мировую славу. Комитас - величайший композитор нашего народа, духовный отец нашей музыки. И каждый армянский композитор и музыкант должен глубоко изучать песню Комитаса, чтобы не потерять связь с истоками нашей народной музыки». Арам Хачатурян Рождение, учеба, судьба 26 сентября завершается 140-летний юбилей Комитаса. В написанной в 1908 году автобиографии Комитас вспоминает, что его родители переселились из провинции Гохтн, а он родился в 1869 году в Малой Азии, в городе Кутина: «На третий день меня крестили и дали имя Согомон. Мои и отцовская и материнская родня - от природы звонкоголосые. Отец и дядя были известными псаломщиками в городской церкви святого Теодороса». Сочиненные родителями песни их сын Согомон записал в 1893 году, когда уже был известным Комитасом. Единственному сыну когда-то зажиточной, однако обедневшей армянской семьи достался жестокий удел: не прошло и года, как он потерял мать, в 1880 году скончался отец. После смерти родителей забота о воспитании и учебе Согомона легла на плечи бабушки - Мариам. Дальнейшее течение своей учебы Комитас считает счастливым подарком судьбы. Священик Геворг Дерцакян, который должен был поехать в Святой Эчмиадзин, чтобы его посвятили в сан епископа, получает распоряжение от Католикоса Всех Армян Геворга IV привезти в Эчмиадзин ученика, который должен будет обучаться в Геворкяновской семинарии. Из двадцати малышей выбор падает на Согомона. Разочарованию Католикоса (мальчик не мог даже говорить на армянском) Согомон смело возражает: «Я приехал сюда, чтобы учить армянский». И учит, но не только армянский. Он становится в семинарии преподавателем музыки, а в 1895 году принимает сан священника. Снова передадим слово Комитасу: «В мае 1896 года благодаря известному благотворителю Александру Манташяну я, чтобы получить высшее музыкальное образование, поехал в Берлин к известному композитору Рихарду Шмидту. Параллельно прошел обучение на факультете философии берлинского университета Фридриха Вильгельма, где изучал музыку, философию, историю. Моими педагогами были Беллерман, Фляйшер и Фридлендер». Армянский композитор, получивший лучшее музыкальное образование того времени, совершил путешествие по Европе, поставив перед собой цель - пропаганду армянской церковной и мирской музыки. Он читал лекции об армянской музыке и давал концерты в Ереване, Тбилиси, Баку, Берлине, Париже, Цюрихе, Берне, Лозанне, Женеве и Венеции. Как он сам признается, играя в одиночку роль целого института. «У армян собственная музыка» В своей одноименной статье Комитас поднимает вопрос о том, почему на страницах известных музыкальных энциклопедий игнорируется армянская музыка: «Игнорировать музыку нашей нации - это не вопрос наличия или отсутствия такого права, а всего лишь вопрос незнания. Поскольку наши музыкальные материалы необработаны, не собраны, не изучены и не классифицированы, поскольку не хватает средств и специалистов. Для осуществления подобной работы безупречно, на совесть, жизни одного человека не хватит». Напоминая, что для изучения истории музыки европейских народов работали сотни специалистов, что этому содействовали десятки организаций и на протяжении веков были изданы сотни томов, он делает печальный вывод: «Одними лишь добрыми намерениями историю национальной музыки написать нельзя, тем более армянской музыки». Дополнив добрые намерения профессионализмом, талантом и трудолюбием, Комитас спас от забвения песню армянского крестьянина. Он также является основоположником армянской национальной классической музыки, который, использовав достижения своих предков и богатый мировой опыт, создал армянский национальный музыкальный стиль, основанный на народной песне. Комитас убежден: «Кто хочет создать армянскую культурную музыку, тот за основу должен брать народную песню, должен руководствоваться принципами стиля этой песни, иначе созданное им не будет армянской музыкой». Пропагандист и проповедник армянской песни поставил целью своей жизни доказать миру, что у армян своя самостоятельная музыка. Он организовал в Берлине две лекции, посвященные армянской народной и духовной музыке и концерт. С той же целью в 1905 году в Тбилиси состоялся концерт четырехголосого хора 60 учеников семинарии под управлением Комитаса. Спустя год в Париже сестры Шушаник и Маргарит Бабаян и студент парижской консерватории Арменак Шахмурадян исполнили обработанные и полифонизированные Комитасом песни. В 1910 году Комитас приезжает в Полис и организует создание нового хора, хора, состоящего из 300 представителей обоих полов, преисполненных комитасовским культом армянской народной песни, выступавшего с концертами повсюду - в Египте, Берлине, Париже. То, что в эти годы Комитас обосновался в Полисе, было судьбоносным. На этот раз - жестоким роком. Великое молчание 11 апреля 1915 года Комитаса арестовали и отправили в ссылку. По иронии судьбы за короткий месяц ссылки он познакомился и подружился с Даниелом Варужаном и Сиаманто. По свидетельствам очевидцев, в начале Комитас был спокоен и уравновешен, морально поддерживал других ссыльных. Все неожиданно изменилось после того, как в то время, когда он пил воду, жандарм выхватил у него из рук ведро, ударил его. Очевидцы считают этот инцидент переломным, так как Комитас полностью отказался от воды, перестал общаться и говорить с другими. Врач Рубен Севак замечает в его поведении робость. Вскоре Комитаса и еще 12 ссыльных возвращают в Полис. Напомним, что из сосланных 291 представителя армянской интеллигенции выжили лишь 40. В том числе Комитас. Но в Полис возвращается совершенно другой Комитас. Даже деревья кажутся ему жандармами. Массовая резня еще не началась, но Комитас, предчувствуя геноцид тысяч младенцев, стариков и женщин, уже видел кошмарные сны. Турка, врача военного госпиталя, он воспринимал как представителя османского режима, не доверял и не слушался его. Душевная травма Комитаса не поддавалась лечению, наоборот, день ото дня она становилась глубже. Он хотел жить у себя дома, требовал свой стол и пианино. Его решили отправить во Францию, а Комитас был убежден, что едет выступать в конгрессе Парижа, так как был действительным членом Международной музыкальной ассоциации. С 1919 года его помещают в психиатрическую больницу в Париже. В эпикризе сказано, что больной «никогда не говорит о семье и друзьях, а высказывает недовольство людьми, которые обманным путем привезли его сюда». Лечащий врач Морис Дюксте в дальнейшем писал, что это молчание - не признак заболевания, так как, по его мнению, Комитас не молчал, а просто не хотел разговаривать. Писатель Асатур Наварян в свое время вынес на публичное обсуждение вопрос, стоит ли Комитаса, как безнадежно больного, держать в психиатрической больнице? Существовала точка зрения, что его болезнь - следствие пережитой тяжелой травмы, которую можно излечить. Эти споры и точки зрения были безрезультатны. Комитас скончался в больнице в 1935 году и после его смерти был обнаружен документ, согласно которому больного должны были переместить в Вену. По свидетельству очевидцев, Комитас перед смертью был уравновешен, вспоминал родину, без сожаления говорил о своей не имеющей особой ценности жизни. Попросил присутствующих преклонить колени и благословил их. Затем попросил: «Заботьтесь об армянских детях и любите друг друга. Любите так сильно, чтобы смогли жить». В 1991 году в Париже Луиз Фов-Ованисян защитила диссертацию, в которой попыталась поставить истинный диагноз болезни Комитаса. Ее мнение состоит в том, что «армянская община того времени совершила непростительную, чудовищную ошибку. Комитаса ни в коем случае не следовало госпитализировать. Он никогда не был сумасшедшим!» Гаяне Мкртчян
-
«Турецкий военный трибунал был прообразом Нюрнберга...» Известный геноцидовед, директор Института Зоряна, иностранный член НАН РА Ваагн ТАТРЯН вместе с турецким историком Танером Акчамом выпустил книгу «Протоколы процесса над партией «Иттихат ве теракки» в Стамбуле», которая нашла широкий отклик в Турции. Предлагаем читателям фрагменты интервью профессора Татряна газете «Азг». - Почему Турция пошла на этот шаг и после Первой мировой войны создала судебный орган, рассмотревший дела политиков, обвиняемых в Геноциде армян? - До зарождения и развития кемалистского движения, к концу войны Турция была слаба, подавлена и опасалась, что из-за армянских погромов условия мирных договоров будут весьма тяжкими не только как для проигравшей стороны, но и страны, чье правительство совершило тяжкие преступления. Поэтому они попытались показать, что преступления - дело рук турецкого революционного меньшинства, а народ невиновен. Организовали военный трибунал, который собрал множество материалов. Этим, в частности, занималась комиссия под руководством бывшего наместника Османа Масари. В декабре 1918 года начался процесс. 14 декабря султан издал указ, по которому начались судебные преследования виновных в армянских погромах, завершившиеся обширным приговором 8 марта, увенчанным убийственными фактами. - Значит эти факты - в открытых архивах и вы сумели их приобрести? - Скрыть факты Геноцида подобного масштаба почти невозможно. Главный погромщик доктор Назым и второй Бехаэддин Шакир поспе окончания войны сумели скрыть много важных документов, но на основании оставшихся суд вынес приговор. Приведу один факт. 23 июня 1915 г. помощник Б. Шакира из Харберда телеграммой сообщает Назыму: «Бедных армян Харберда не только депортируют, но и подвергают погромам и уничтожению». По запросу суда командир 3-й армии Вехиб-паша подготовил 18-страничный доклад, который ныне находится в архиве армянского патриаршества Иерусалима. Там сказано: «Главным ответственным за депортацию и погромы армян является центральный комитет партии «Иттихат ве теракки» («Единение и прогресс»), и этот комитет осуществил преступления умышленно». Трибунал вынес приговор, основываясь не на свидетельствах, а на официальных документах партии «Иттихат» и Османской империи. Это очень важно, потому что несколько нанятых турками американских и европейских ученых говорят, что суд, мол, был фиктивным, турки были проигравшими. И чтобы опровергать подобные мнения, военный трибунал пошел на следующий шаг. Высокопоставленные лица (один из Министерства внутренних дел, другой - из Министерства юстиции) по инициативе суда изучали все представленные документы на предмет истинности оригинала. Эти чиновники, бывшие члены «Иттихат», тщательно рассмотрели все документы и на каждом заверили, что они соответствуют оригиналу. Эта реальность имеет важное значение для оценки работы трибунала и вынесенного им приговора. По моему мнению, турецкий военный трибунал - не только прецедент Нюрнберга, но и, учитывая его прочную документальную основу, доказывает бесспорность Геноцида. - Тем более что он был организован не какими-то отдельными местными силами. Кстати, те турки, которые сегодня признают Геноцид, подчеркивают, что он не был организован государством... - Во всех приговорах подчеркнуто, что автором решений является комитет «Иттихат». В этой связи есть много схожего с Нюрнбергским процессом, где в основном была осуждена нацистская партия. А здесь была осуждена возглавляющая Турцию партия «Иттихат». - Г-н Татрян, поговорим о вашей книге, которая переведена и на турецкий, что является беспрецедентным фактом: до этого подобные работы не издавались... - Не только беспрецедентным, но и невероятным. 85 лет подряд турецкое правительство не только замалчивает это преступление, но и преследует турецкую печать и турецких издателей. Я удивлен, что турецкое правительство позволило выход такой книги. Думаю, либо не обратили на нее внимания, либо, находясь в сложной политической ситуации и желая набрать очки в Европе (вот какие мы справедливые...), разрешили. Эффект книги был огромным. Многие турки, студенты университета Анкары, Измира, Стамбула говорили: «Как это наше правительство обманывало нас 85 лет?..» Издатель университета Бильги позвонил мне, поздравил, сказал, что нужно второе издание. - А какой был тираж? - Насколько помню, 1500 или 2000, что достаточно много для академического издания - Готовите ли вы аналогичные труды на турецком? - Турецкий издатель Заракоглу недавно издал перевод моей книги «История армянского геноцида». То же издательство 6 лет назад выпустило мою другую работу «Армянский геноцид по международному уголовному праву», ранее изданную Йельским университетом. Напечатана и третья моя книга «Анализ различий армянского и еврейского геноцидов». Книга «История армянского геноцида» переведена также на греческий, испанский, итальянский, недавно - на русский, в Ереване. Руководство Музея-института Геноцида армян прилагает усилия, чтобы издать ее в Москве. Есть и другие планы - как мои, так и в сотрудничестве с Танером Акчамом. - За последние 10 лет процесс признания Геноцида армян набрал силу, уже 21 страна его признала. Как вы к этому относитесь, а также к тому, что Барак Обама не произнес слова «геноцид»? -Армяне воодушевлены признанием более 20 стран. Но не надо обольщаться, так как Геноцид признали законодательные, а не исполнительные органы этих стран, творящие внешнюю политику. Только во Франции признали обе ветви власти. Так что не надо заниматься самообманом. Пока Турция - член НАТО, ничего не изменится. Если меня спросят, к чему я пришел, углубившись в проблему Геноцида, я скажу: все определяют сила и мощь. Турция, будучи слабой в 1918-20 гг., сделала признание, потом, когда кемализм набрал силу, и она победила Армению и Грецию, этот смиренный, готовый к покаянию турецкий народ вдруг стал надменным. Весь вопрос в том, что мы сегодня слабое государство по сравнению с Турцией и долго должны ждать, пока они признают. И это произойдет, если Турция значительно ослабнет в результате внутренних распрей, если турок столкнется с турком и возникнет гражданская война или Турция по какой-либо причине выйдет из НАТО. Но все равно они уже достигли 72 миллионов. - А если развяжутся турко-курдские столкновения? - Самая уязвимая точка в нашей позиции - это то, что главным авторитетом в Турции является не государство, премьер или президент, а армия. Я опасаюсь, что, если будет предлог, эта армия может завоевать Армению и Грецию. Я отыскал один документ в книге нанесшего поражение Армении в 1920 году Кязима Карабекира. Там есть тайная телеграмма турецкого правительства от 8 ноября 1920 г. Карабекиру, где прямо говорится: «Сообщаем вам, что у Турции есть 2 вечных врага: Армения на востоке и Греция на западе, и невозможно представить мирной жизни с этими народами, поэтому предписываем вам, приказываем - Армения политически и физически должна исчезнуть с лица земли. Чтобы осуществить эту программу, вы должны выказать обманчивую позицию по отношению к правительству Армении». Это уникальный в мире прецедент, когда МИД страны прямо призывает к обману в данном случае терпящих поражение армян. «Наши братья - азеры, наша главная цель - уничтожить Армению и помочь Азербайджану» - говорится дальше. В тот же день министр иностранных дел Турции посылает телеграмму правительству Армении, где говорит о готовности помочь голодающему народу... ...Когда я встретился с президентами Армении, сказал, что вы, кавказские армяне, не имеете опыта общения с турками, послушайте немного турецких армян... В начале прошлого века главными действующими политиками тогдашней Республики Армения тоже были кавказские армяне. В 1911-12 гг. полководец Андраник тайком приехал в Стамбул и сказал руководству «Дашнакцутюн»: «Что вы делаете? Они погасят наш очаг...» Акнуни тогда очень сблизился с Талаатом и говорил, что это новые турки, европейцы, джентльмены. Единственный из «Дашнакцутюн», кто понимал турок и ушел из партии, был Шаан Натали. И сегодня перевоплощения премьера Эрдогана: то без условий он, то выдвигает условия. Это все армия. Раз дней в 10 он совещается с армией и та диктует ему свою волю. По моему мнению, мы должны быть очень осторожными и бдительными и с сомнением подходить к турецкой дипломатии. Беседу вел Армен Манвелян («Азг», 19 августа 2009 г.)
-
Жизнь Декларации 23 августа 1990 г. Парламент РА принял Декларацию о независимости Армении. Несмотря на то, что Республика Армения официально провозгласила суверенитет ровно через месяц после этого исторического события (по итогам состоявшегося 21 сентября референдума), сам процесс суверенизации страны стартовал со второй половины 80-х годов и был обусловлен осуществляемой президентом СССР Михаилом Горбачевым политикой децентрализации власти. Впрочем, то обстоятельство, что Армения, как и все остальные союзные республики бывшего СССР, получила независимость «сверху», конечно же, никак не умаляет ее ценности, тем более что, в отличие практически от всех союзных республик, армянский народ десяток раз выявлял способность заявлять о своем политическом суверенитете именно в период распада империй или ослабления региональных позиций метрополий. Собственно, этим диктовалась и обоснованная эмоциональность самого документа. По замыслу своему и содержанию она основывалась на трех базовых позициях: а) Республика Армения и Нагорный Карабах - неделимое политическое целое; б) восстановление исторической справедливости; в) единая история, единая нация, единая перспектива. Касаясь первой позиции, отметим, что именно она была заложена в основу декларации. Преамбула документа не оставляет на сей счет никаких сомнений: «Верховный Совет Республики Армения, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха», провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности». Это крайне важное положение, которое необходимо декларировать и сегодня, особенно на фоне активизации процесса урегулирования проблемы. Первый президент, который сегодня, обуреваемый реваншистскими страстями, позиционирует себя едва ли не в качестве основателя Третьей Республики, стал также первым, кто открыто выступил против этого положения, заявив, что «нас не поймет международное сообщество». Относительно второй позиции пункт 11 декларации недвусмысленно заявляет: «Республика Армения поддерживает дело международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи и Западной Армении». Первый президент выступил и против этого принципиального пункта, заявив во вторую годовщину декларации: «Я уверен как ученый, политический деятель и президент республики, что войной мы ничего не добьемся. Она не будет иметь никаких хороших последствий для Армении. Итог войны будет тот же, что и в 1920 году, когда Армения была государством в 60 тысяч кв. км. Тогда была серьезная возможность сохранить на этой территории государство, но, вместо того чтобы решать вопросы непосредственно с Турцией, мы погнались за совершенно нереальными мечтами и потеряли половину территории». Примечателен и 4-й пункт декларации, имеющий непосредственную связь уже с третьей основополагающей позицией, - единая нация, единая перспектива: «Армяне, проживающие за пределами Республики Армения, имеют право на гражданство Республики Армения». Это тем более интересно, так как «настоящая декларация служит основой для разработки Конституции Республики Армения...» (пункт 12-й.) Однако Конституция, в основу которой должны были быть положены соответствующие пункты декларации, в корне видоизменила этот постулат: «Гражданин Республики Армения одновременно не может являться гражданином другого государства» (Конституция РА, глава 2, статья 14). Таким образом, принятая 23 августа 1990 года декларация так и осталась невостребованной по всем основным позициям. Второй президент республики, безусловно, возвратился к провозглашенным в декларации положениям. При всей справедливой критике относительно принципов ведения его внутренней политики мы не можем не признать, что именно Роберт Кочарян: а) официально заявил о невозможности пребывания Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и безальтернативности наличия сухопутной связи между двумя армянскими республиками; б) официально провозгласил с трибуны ООН курс страны на достижение международного признания и осуждения Геноцида армян в Турции; в) выступил инициатором проведения всеармянских форумов «Армения – Диаспора», и вместе с тем при нем были приняты конституционные поправки, в которых разрешался вопрос гражданства. Можно, конечно, бесконечно долго рассуждать о том, что далеко не все протекало в нужном русле (впрочем, об этом и писалось неоднократно), но в целом попытка возврата к декларации предпринималась со всей очевидностью. В любом случае, это был безусловный шаг вперед (в данном случае – назад). Время показало, что принятая 19 лет назад декларация и по сей день остается, видимо, самым грамотным, продуманным и вместе с тем эмоциональным документом нашей новейшей истории.
-
Дорога в «рай» Труды и дни Гургена Яникяна, совершившего акцию возмездия в 78-летнем возрасте - полвека спустя после Геноцида, свидетелем и жертвой которого он был 27 января 1973 года Гурген Яникян выстрелами в американском городке Санта-Барбара положил начало новому этапу борьбы за признание Геноцида армян. Гурген Яникян по возрасту, безусловно, принадлежал к тому поколению армянских народных мстителей, которые лично пережили Геноцид и которые осуществили свои акции возмездия в самом начале 20-х годов. Яникян же, будучи фактически старше и Согомона Тейлиряна, и Арама Ерканяна, весь жизненный опыт которых по существу сводился к национальной трагедии начала XX века, совершил акцию возмездия лишь полвека спустя, в 78-летнем возрасте, сознательно выступив своеобразным связующим звеном между двумя поколениями народных мстителей. Гурген Яникян родился 24 декабря 1895 года в Карине (Арзруме). Ему не исполнилось и 6 месяцев, когда в Западной Армении была осуществлена очередная массовая акция Геноцида, жертвой которого стали больше 300 тысяч невинных армян. Отец Гургена, поддерживавший тесные отношения с персидским консулом в Карине, сумел укрыть свою семью на территории консульства. Спустя две недели им удалось добраться до русской границы. Здесь выяснилось, что маленький Гурген исчез. Оказывается, он выскользнул из обледеневших рук матери, даже не почувствовавшей пропажи. Несмотря на возражения родственников, мать и старший брат Акоп решили вернуться и найти младенца. Пройдя почти 7 километров, они обнаружили Гургена почти в безжизненном состоянии, обогрели его своими телами и вернулись к границе. Добрались до Карса. Здесь удалось устроиться благодаря захваченным с собой деньгам и поддержке местного персидского консула, о которой ходатайствовал его коллега из Карина. По его совету маленький Гурген становится персидскоподданным. Спустя 5 лет мать Гургена, его старший брат Акоп и 6-летний Гурген тайно возвращаются в Арзрум, чтобы перенести в Карс спрятанный в сарае железный ящичек с драгоценностями и документами. Мать и Гурген спрятались за сараем и в щелку наблюдали за Акопом, который выкапывал ящичек. Но тут два турка, услышав удары кирки, вбежали в сарай, схватили Акопа и отрезали ему ятаганом голову. Гурген вскрикнул от ужаса, но мать ладонью зажала ему рот. Гурген с такой силой прокусил ей руку, что правая ладонь у нее на всю жизнь осталась неподвижной. Увиденное так потрясло Гургена, что после возвращения в Карс его пришлось вместе с сестрой Сатеник отправить в Швейцарию на лечение. Здесь Гурген начал посещать французскую школу. Только через три года Гурген и Сатеник вернулись в Карс, откуда вместе с братом Левоном их отправили учиться в армянскую школу Нор Нахиджевана. После ее окончания родители послали Гургена в Эчмиадзин, где он должен был поступить в духовную академию. Но мальчик вовсе не мечтал стать священнослужителем и намеренно провалил все экзамены. Вынужденно его определили в тифлисскую школу Нерсисян, окончив которую он поступил на архитектурный факультет Московского университета. В эти годы Гурген вполне серьезно увлекся артистической деятельностью, принимал участие в спектаклях на русском и армянским языках известных театральных трупп Москвы и Тифлиса. В театре Мейерхольда он исполнял роли Арбенина в «Маскараде» Лермонтова, Саввы - в пьесе Леонида Андреева и другие с таким успехом, что Мейерхольд предлагал ему стать профессиональным актером. А в труппе Ваграма Папазяна, с которым очень сдружился, он выступал рядом с такими знаменитостями, как Сирануйш, Абелян, Харазян и другие. Началась Первая мировая война. Газеты ежедневно приносили горькие вести об ужасных армянских погромах. Гурген понимает, что пришло время отомстить за брата и других невинных жертв. Он собрал 50 добровольцев и отправился с ними в Тифлис, где его отряд поступил в распоряжение командира 2-й дружины Дро. Дружина отбывала в Западную Армению через Игдыр, куда прибыли попрощаться и родители Гургена. При расставании отец сказал: «Сынок, отомсти за свой народ, не опозорь меня». Гурген ответил: «Отец, неужели ты сомневаешься во мне?» В составе дружины Дро отряд Яникяна восстанавливал разрушенные мосты и проводил разведку в тылу врага. Однажды, возвращаясь из очередного рейда, Гурген обратил внимание на странный холмик, прикрытый камнями и травой. Под ними оказалась пещера, скрывавшая целый турецкий арсенал. Гурген двумя гранатами взорвал арсенал, но повредил себе спину и попал на три месяца в госпиталь. Там ему вручили Георгиевский крест. Завершив лечение, Гурген вновь вернулся в действующую армию. Карс заняли турки, и семья Яникянов бежала в Тифлис. После освобождения города Гурген нашел свой дом и принадлежавший отцу завод по переработке нефти полностью разрушенными и сожженными. Во дворе церкви штабелями были сложены более трех тысяч обугленных тел, в центре двора, отдельно - сотни изуродованных и полусожженных тел женщин и девушек. Позже Гурген признавался: «Во всей истории моей жизни как очевидца-свидетеля Геноцида именно здесь мне пришлось увидеть самую жестокую сцену, которая оставила неизгладимый след в моей памяти и душевных чувствах. С этого дня месть стала главной целью моей жизни. Когда мы на 50 военных повозках вывозили покойников из города, чтобы захоронить их в общих ямах, передо мной предстала еще одна ужасная сцена: у стены, обняв друг друга, с открытыми глазами, словно просящими у меня помощи, лежали наш зять Хачик и его 7-летний сын. Русский священник похоронил обоих на армянском кладбище». После революции армия была расформирована, и Яникян возвратился в Москву, чтобы завершить прерванную учебу. Успешно защитив диплом, он еще некоторое время продолжал образование в Швейцарском университете. Затем возвращается в Тифлис, откуда направляется в Харьков на ответственную работу. Здесь он женится на Шушаник Комурджян, девушке из известной новонахиджеванской семьи. В качестве главного условия женитьбы Гурген просил обещания Шушаник помогать ему в выполнении данной им клятвы. Шушаник обещала и оставалась верной своему обещанию до последнего дня жизни. Умерла она в апреле 1974 года. В самом начале 30-х годов Гургену и Шушаник удалось выехать в Иран. Помогли когда-то оформленные консулом в Карсе документы. Как рассказывает сам Яникян, во время суровой зимы 1929-1930 годов вследствие проведенной Сталиным коллективизации почти 40 млн. человек от Кавказа до Дона оказались на грани голода. Яникяну, получившему чрезвычайные полномочия, удалось в кратчайшие сроки доставить крестьянам семена, что спасло их от верной смерти. Он был награжден почетной грамотой правительства, денежной премией и, главное, разрешением выехать с женой в Иран, подписанным Сталиным и Калининым. Описывать 15-летнюю жизнь Гургена и Шушаник в Иране здесь нет никакой возможности. Скажем только, что принадлежащая им строительная компания, выполняя крупнейшие заказы правительства, построила первый в Иране подземный оружейный завод, строила мосты, дороги, в том числе и железные дороги (в частности, была проложена в годы Второй мировой войны железная дорога от Персидского залива до советской границы, по которой доставлялась в СССР помощь союзников). Шушаник, врач-гинеколог по специальности, открыла собственную клинику, пользовавшуюся блестящей репутацией. Они стали очень состоятельными людьми и могли, наконец, приступить к осуществлению своего замысла, о котором Гурген писал так: «Наш план был очень прост: на наши личные средства тайно подготовить фильм для того, чтобы показать миру перенесенные нашим народом страдания и зверства турок, Геноцид армян, не забыв и о предательстве так называемых цивилизованных наций. Севр и Лозанна должны были получить достойную оценку в нашем фильме. Книгу и сценарий я уже написал, а название придумала моя жена – «Рай». Фильм (вместе с пояснительными брошюрами) должен был быть показан бесплатно во всех концах мира. Мы хотели потрясти совесть человечества, пробудить наш дремлющий народ, новую жизнь и надежду внушить молодому поколению, призвать его к борьбе за наши права». По завершении строительства стратегической железной дороги правительство США награждает Гургена Яникяна и предоставляет американское гражданство, которое, как он справедливо считал, откроет ему большие возможности. До отъезда в Калифорнию Гурген дважды посетил Дер Зор и Багдад, побывал в местах массового истребления армян в 1915 году, заснял тысячи кадров. Однако его отъезд из Персии и получение американского гражданства не понравились шаху, который не позволил Яникяну получить причитавшийся ему 1 миллион долларов и завершить работу над фильмом. Не сумел он получить причитавшиеся ему деньги и позже, хотя и обращался в суд на основании существующего в США закона, согласно которому «ни одно зарубежное государство не может получать помощь от Америки, если оно должно хотя бы одному американскому гражданину, имеющему несомненные доказательства этого». И хотя у Гургена на руках были все необходимые документы, справедливого решения американского суда он так и не добился - слишком велики были тогда интересы США в Иране. Отступая от нашего повествования заметим, что в соответствии с этим упомянутым в воспоминаниях Яникяном законе многие сотни, а то и тысячи американских армян могли бы потребовать у своего правительства приостановить оказание помощи Турции, без которой последняя не прожила бы и месяца. Многократные обращения в прокуратуру штата ни к чему не привели, и с идеей фильма пришлось расстаться. И Яникян стал искать другие возможности реализации данной отцу клятвы. В этой связи уже во время судебного процесса над ним Яникян спросил председателя суда: «Неужели справедливо, что на скамье подсудимых рядом со мной не находится прокурор штата, ибо именно он направил меня к гостинице «Балтимор» и вынудил, вопреки моей воле и принципам, превратить мой кулак в пулемет». Однако жизнь Яникяна в Штатах вовсе не свелась к борьбе за получение иранского долга. Нет, конечно, его деятельная натура и многообразные интересы побудили совершить 4 кругосветных путешествия для проведения серьезных исследований в области истории народов и религий. Во время этих путешествий он имел множество встреч с такими знаменитыми современниками, как греческий король Георгио II, король Египта Фарук, коммунистическими лидерами, министрами и т. д. Многие из них оставили свои автографы на редкой турецкой банкноте, которую вместе с картиной, висевшей в спальне султана Гамида, Гурген использовал для знакомства с двумя турецкими дипломатами. В эти же годы Гурген Яникян опубликовал в европейских газетах множество политических, искусствоведческих, в основном театроведческих, социологических статей под псевдонимом Негруг, его книги «Победы Иуды», «Крест Гарена», «Голос американца», «Вознесшийся Иисус», «Личность», «Симфония жизни», «Наша миссия» и «Рай» переведены на многие языки. На основе книги «Рай» снят 20-часовой фильм о турецких зверствах, однако американские власти не позволили завершить фильм. В США Яникян создал прибор «Янискоф», способный «видеть» на 400 ярдов в глубину. Он подарил безвозмездно свое изобретение правительству США с условием, чтобы оно использовалось только в добрых целях. Однако, когда он обратился с просьбой к тому же правительству США с просьбой предоставить ему прибор для поиска братских захоронений в пустыне Дер Зор, где он хотел возвести гигантский памятник жертвам Геноцида, оно отказало ему, опасаясь испортить отношения с Турцией. В своих воспоминаниях «Цель и истина» Гурген Яникян пишет: «Три дня я не выходил из дома. Три дня я искал выход. Все эти три дня перед моими глазами проходили картины моей 78-летней жизни. И среди них неизменно возвращающееся видение - кровь, бьющая фонтаном из перерезанной шеи брата... Итак, решение мое окончательно. Неожиданным шагом привлечь внимание, что даст мне возможность говорить, требовать, что должно пробудить мой дремлющий народ... Кровь. Кровь. Я всегда был против крови. Полагал, что слово сильнее крови. Но жизнь доказала, что я глубоко ошибался. Уроки жизни подсказали мне, что только кровью ты можешь привлечь внимание человечества. Видение даже подсказало мне, чья это должна быть кровь. Кто уничтожил мой народ, кто попрал все святыни, справедливость, всякое право?.. Варварское турецкое правительство. Вот кому я должен объявить войну во имя возвращения наших справедливых прав. Я не выступаю от имени какой-либо партии, течения или группы. Я буду действовать как армянин, который устал ждать, обманут многими обещаниями и больше молчать не может. Я обращусь к подобным мне отдельным армянам, призвав их продолжить войну, объявленную мною турецкому правительству. Не сомневаюсь, что в нашей нации найдутся многие, готовые пожертвовать своей жизнью, если потребуется... И еще я был убежден, что если вопрос нашего Геноцида не получит оценки, человечество исчезнет с лица нашей земли…» Так рассказывал Гурген Яникян, осужденный на пожизненное заключение, в своих обрывистых воспоминаниях «Цель и истина», о принятии им решения, которое изменило всю его жизнь. Человек искусства, художественная натура, он с этого дня последовательно составлял сценарий, как он называл, «спектакля» и параллельно воплощал его в жизнь. Безусловно, эти последние годы (как, впрочем, и вся предшествовавшая им жизнь Гургена Яникяна) требуют детального описания. Описания не столько событийного (хотя сюжет детективного по сути «спектакля» закручен мастерски), сколько психологического, фактическая основа которого заложена в уже упоминавшихся воспоминаниях его автора и одновременно главного действующего лица. Почему он решил, что местом действия должна стать Калифорния (сам он жил в это время в Санта-Барбаре, а перемещаться с оружием посчитал опасным)? Почему он решил, что объектом акции должны стать турецкие консулы (других чиновников турецкого правительства здесь не было)? Почему он решил, что это должен быть не консул в Сан-Франциско (он показался Яникяну «слишком ничтожным» для такого дела), а Лос-Анджелеса (тем более, что чиновников здесь было двое)? И так шаг за шагом и в полном одиночестве (Шушаник в это время уже лежала тяжело и безнадежно больная). Для знакомства с турками (а это был обязательный элемент сценария) нужен был серьезный и не вызывающий подозрений повод. И такой повод Яникян нашел: он явился в консульство под видом тщеславного перса Гурги-хана, который готов подарить турецкому правительству имеющуюся у него уникальную купюру с подписями знаменитых людей в обмен на достойный орден. Подумав, что этого туркам может показаться мало, Яникян решил присовокупить к купюре имевшуюся в его коллекции картину итальянского художника, которая висела когда-то в спальне султана Гамида. Эта картина, изображавшая нагую купальщицу, во время революции была украдена и спустя годы подарена Яникяну. Турки, естественно, заинтересовались предложением. Они попросили у него копию купюры и фотографию картины для отправки в Анкару, откуда и должен был прийти окончательный ответ. До получения ответа Яникяну необходимо было переделать массу дел. Прежде всего, разместить свою ценнейшую коллекцию. Он вступил в переписку с Ереваном и предложил официально пригласить его, чтобы лично вручить подарки - две картины (одна из них знаменитая «Восточная комната» М. Сарьяна) и перстень армянского царя, подобного которому в музеях Армении не было. В Ереване он был лишь однажды, когда приезжал в Эчмиадзин для поступления в духовную академию. И вот теперь он мечтал увидеть столицу Советской Армении, священный Арарат, а также повидаться с сестрой Сатеник, которую не видел 42 года, и племянницу Тамару, которым до этого помогал всю жизнь. Исполненное восхищения описание 15-дневного пребывания в Ереване мы здесь из-за нехватки места опускаем. Спустя некоторое время после возвращения Яникян узнал, что турецкое правительство принимает его предложение. Он может передать консулу подарки, а орден получит по их прибытии в Анкару. Место встречи, день и час назначили турки. Отель «Балтимор». Через 15 дней, 27 января 1973 года. Суббота. Написал необходимые письма. Раздарил все имущество молодым друзьям. Каждый вечер, не изменяя привычке, проводил время в развлечениях. В пятницу вечером с почтой разослал около 300 писем, оставил только 10 местных, чтобы они дошли после того, как все будет закончено. При себе оставил только по одному экземпляру собственных книг и письма, полученные от президентов Джонсона и Никсона. Вечером пошел на берег океана и отдался воспоминаниям. «Видел себя в нашем тифлисском доме. Я - 16-летний ученик русской Коммерческой школы, возвращаюсь после уроков, целую маму и, положив голову ей на колени, прошу рассказать о моем детстве. Поглаживая голову, она начинает: «Ты должен был родиться через месяц. Мясник-турок купил новое оружие и, чтобы испробовать его, убил твоего дядю перед нашим магазином. С этого начались погромы в Арзруме. Дядю ночью мы похоронили во дворе нашего дома. Я не выдержала, и ты появился на свет на 3 недели раньше срока. Священника не было, отец помолился, и мы назвали тебя «Сын резни»... Мы, 27 человек, большие и маленькие, спрятались в сарае иранского консульства. Прижавшись друг к другу, сидели молча. Вдруг ты заплакал и, что я ни делала, не замолкал. Жена дяди сказала: «Праксима, задуши мальчика, не то мы все погибнем». Что мне было делать, засунула тебе в рот кончик шали. Когда ты начал синеть, не выдержала, вытащила шаль. Так я повторила 2-3 раза, многие плакали, отец твой тоже беззвучно лил слезы. Не могу, сказала я, не могу своими руками задушить своего мальчика. Если Господь захочет, защитит моего сына... Взяла тебя и ушла в дальний конец сада. Отец твой по ночам приносил нам хлеб и воду». Гурген Яникян знал, что ему предстоит сделать утром. По отношению к туркам, с которыми должен был встретиться, он не испытывал никаких чувств. Они для него были лишь «средством достижения цели. Эти или другие - для меня было безразлично. Я чувствую, что плачу... Но это не были слезы сожаления или сомнения, а бешенства, возмущения тем, что ход событий вынудил меня прибегнуть к методу, который всегда был для меня неприемлем. Для достижения цели я вынужден пожертвовать, возможно, самым главным из своих принципов». Он вернулся в отель, предупредил, чтобы его разбудили в 8 часов утра. В 9 пошел попрощаться с Шушаник. В 10:00 вернулся в свой номер и занялся последними приготовлениями. Вышел во двор и стал прогуливаться в ожидании гостей. Вернулся в номер. Взял заранее подготовленный том «Кто есть кто» с вложенным в него парабеллумом и положил на столик перед зеркалом. Осмотрел также браунинг и отложил в сторону, накрыв еженедельником «Тайм». Из окна увидел, что гости вошли в фойе, вышел навстречу. Обмениваясь любезностями, вошли в номер. Главный консул попросил позволить осмотреть купюру, а сам передал Яникяну письмо из Анкары с согласием принять подарки на его условиях. «Я решил, прежде чем перейти к делу, сказать им несколько слов, чтобы они узнали, кто я и почему они должны умереть, - пишет Яникян. - Без обиняков сказал: - Я армянин и родился в Арзруме». После непродолжительного диалога, когда разъяренные турки пытались наброситься на него, он схватил оружие и тринадцатью выстрелами уложил обоих. Затем вызвал полицию и 15-20 минут спокойно дожидался ее приезда. Судебный процесс, несомненно, заслуживает отдельного рассказа. Прежде всего, он оказался вовсе не таким, каким представлял его Яникян. Он надеялся, что в какой-то степени удастся повторить берлинский процесс Тейлиряна, не в том, конечно, смысле, что он будет оправдан, а в том, что процесс даст возможность ему самому и защитникам напомнить миру об ужасах Геноцида армян. Этого не случилось и не могло случиться, ибо теперь уже режиссерами спектакля, исполняемого американским правосудием, были турки. Как писал после суда Яникян в письме к президенту США, он не знает другого такого случая, чтобы суд отказался выслушать мотивы преступления. Эту тенденциозность суда фактически признал и прокурор Минер 25 лет спустя: «Сожалею, что не позволил полноценно представить факты, относящиеся к Геноциду, не потому, что Яникян мог быть выпущен на свободу, а потому, что самые темные страницы истории - геноциды - должны быть выявлены, чтобы подобные ужасы отныне не повторялись. К сожалению, Геноцид армян до сих пор не осужден». С другой стороны, Яникян не получил ожидаемой поддержки от соотечественников. Дело дошло до того, что созданный в его защиту комитет, включавший и представителей трех армянских партий, вследствие возникших с Яникяном разногласий был распущен, и он оказался отрезанным и от армянской прессы, и от общественности. Как бы то ни было, приговор суда был предрешен: пожизненное тюремное заключение. Между тем сам Гурген Яникян в своих тюремных записках указывает на целых 6 положительных последствий своей акции: среди них, безусловно, привлечение внимания мировой общественности к проблеме Геноцида и, как он говорил, пробуждение армян. Находясь в заключении, он узнал о появлении нового поколения народных мстителей, призванных к действию его выстрелами и назвавших свою организацию его именем. Но это уже другая частица армянской истории. ... В 1981 году, после 8-летнего пребывания в тюрьме, Гурген Яникян был переведен в закрытую для посетителей больницу, где и скончался после долгой болезни 27 марта 1984 года. Еще во время судебного процесса один из его адвокатов объяснял суду, что «Яникян - одна из важнейших частиц армянской истории». Осознание этой истины необходимо всем нам. Левон Микаелян
-
Предписано лгать 26 августа на азербайджанском сайте 1ньюс.аз появилась статья, в которой ставится под сомнение моя профессиональная добросовестность. В статье, подписанной инициалами Б. А., в избытке разбросаны также и оскорбления в мой адрес, но к этому я уже давно привык. Ругаются, значит чувствуют мою правоту и свое бессилие. На этот раз, однако, вместе с уже ритуальной руганью, в статье зазвучали обвинения, способные подорвать доверие ко мне азербайджанского читателя, к которому обращена значительная часть моих публикаций. Интересно, что когда я писал о курдском происхождении семьи Алиевых и большинства руководящего состава Азербайджана, об угодных шайтану делишках шейх-уль-ислама хаджи Аллах Шукюра Паша-заде, о махинациях И. Алиева по подделке указа собственного отца, якобы назначившего его премьер-министром и т. д., никто в этой республике и не подумал обвинить меня во лжи. На то были серьезные причины: в Азербайджане прекрасно понимали, что при необходимости многое из написанного мною будет подтверждено документами. Но самое главное, шумиха вокруг легитимности И. Алиева может привести к требованиям о графологической экспертизе "указа Гейдара Алиева". Потому и предпочитали "замолчать" вопрос. Так что же побудило сегодня обвинить меня во лжи. Причем обвинение было "оформлено" совместными усилиями одного из крупнейших агентств Азербайджана и окопавшимся в Будапеште, а затем в Берлине дезертиром Вугаром Сеидовым. История эта началась 22 марта текущего года, когда в одночасье на нескольких азербайджанских порталах появилась статья Вугара Сеидова "Урок истории Мелик-Шахназаряну". В число этих сайтов входили как государственный Азертадж, так и "частные" Дей.аз., 1ньюс.аз., Бакилиляр.аз и еще несколько сайтов помельче, в том числе и живой журнал самого Сеидова. Вечером того же дня все эти сайты неожиданно убрали статью, причем, убрали основательно, вплоть до того, что были "вычищены" кэши. Мне неизвестно, какие усилия и финансы требуются для подобных действий, но, думаю, "рядовым" журналистам и "маститым" политологам это не под силу. Тем не менее, статья сохранилась на одном забытом Аллахом и азагитпропом сайте. В статье, написанной языком и набившими оскомину аргументами азербайджанской пропаганды, не было ничего интересного, что могло бы послужить поводом для ее массового уничтожения. Если не считать угрозы дезертира поймать меня в прорезь прицела и стращание прокуратурой Азербайджанской республики. Тем не менее, как мне представляется, именно это стало причиной изъятия статьи: в те дни шел суд над покушавшимся на меня турком Аршаком, и Азербайджану дополнительный шум по этому поводу вряд ли был полезен. Возможно, правда, статью убрали потому, что там Сеидов по недомыслию процитировал мою статью, в которой нынешний посол Азербайджана в Венгрии был назван по его старому прозвищу "кирпич Гасан". Как бы там ни было, полузабытая статья сохранилась в моем архиве. Вспомнил я о ней потом, когда тот же Сеидов давал большое интервью тому же агентству 1ньюс.аз., а потом еще, когда на форуме принадлежащего мне портала Voskanapat.info появился некий Вася. Мне, бывшему филологу, не составляет особого труда "вычислить" литературный почерк, а Вугар-Вася (взявший за псевдоним первые буквы своих инициалов), максимально облегчал мне задачу. Этот человек просто копировал целые фразы и абзацы из своих прошлых статей. То ли меньше платить стали, то ли идеи иссякли, но факт остается фактом: в беспросветном мраке азербайджанских засланцев Вугар светился, как униформа дорожного рабочего. Подобное поведение азербайджанского политолога выглядело забавным: мне даже было интересно, сколько ему платят за тиражирование одних и тех же фраз? А то, что Сеидову платили, не вызывало никаких сомнений: он и сам утверждал в своем интервью, что является государственным работником. Пропагандистского фронта, надо полагать. Но однажды Вугар прокололся. Он вдруг, явно не посоветовавшись с начальством, решил выдать новую идею: оказывается провозглашение Азербайджаном государственной независимости 30 августа 1991 года, а также Конституционный акт о независимости Азербайджанской республики от 18 октября того же года... были незаконными. Нет, не подумайте, что Вугар вдруг стал правдолюбцем. В его "гениальной" идее крылась задумка: раз мы провозгласили свою независимость незаконно, то и Декларация о независимости НКР незаконна, поскольку, рассуждал азербайджанский светоч политологической мысли, она исходила от незаконного решения Азербайджана. После того, как хозяева Сеидова ознакомились с прозвучавшими из Еревана ответами, "государственный служащий" на долгое время исчез с государственного сайта Азертадж. Затем его, как видно, вновь допустили к кормушке. Разрешили вначале публиковаться в разных азах, а затем вернули в Азертадж. Обычно в Азербайджане подобные "промахи", схожие с предательством, не прощаются. Сомневаться не приходится: за Сеидова ходатайствовал достаточно авторитетный в Азербайджане человек. Заговор сокурсников 25 июня сего года в азербайджанской газете "Эхо" было опубликовано интервью владельца российского агентства Регнум Модеста Колерова. В целом спокойное и выдержанное интервью привлекло мое внимание известием о том, что В. Сеидов является сокурсником Колерова. Об этом, правда, мне было известно, но Колеров добавил: "Кстати, моим однокурсником является и Али Гасанов, что важно само по себе". Действительно, важно. Это значит, что Сеидов и Али Гасанов, заведующий общественно-политическим отделом администрации президента Азербайджана, являются товарищами со студенческой статьи. Вот и она, могучая рука, добившаяся прощения для Сеидова. Но какое нам дело до сокурсников Гасанова? Студенческих друзей-товарищей у него может быть много. Верно, но не все из них являются владельцами крупнейших информагентств. И хотя о нынешних связях Колерова с Гасановым ничего компрометирующего не известно, зато о связях Колерова с Сеидовым достаточно откровенно рассказал сам Вугар: "Хозяин Регнума - мой товарищ, Модест Колеров". И опять никаких проблем. Никто не вправе ни запретить, ни осудить дружбу студенческих товарищей. Более того, это норма человеческих отношений. До тех пор, пока эта дружба не направлена против кого бы то ни было, тем более, против целого народа. В данном случае, армянского. Вугар уже несколько лет, как периодически публикуется в Регнуме. И каждый раз с откровенно антиармянскими фальсификациями. И каждый раз мы удивляемся, возмущаемся и... делаем понимающие глаза: Колеров просто радеет родному человечку. И в самом деле, в Регнуме нередко можно встретить и высокопрофессиональные статьи на темы о Южном Кавказе, в том числе и нагорно-карабахского конфликта. Как говорится: фифти-фифти. Несколько профессиональных статей и один Вугар. Однако с некоторых пор в Регнуме стали появляться статьи и интервью, в которых густо перемешаны ложь, фальсификации и ненависть к армянам. У статей этих разные авторы: это то Умар Сайдуллаев (о слабости Вугара к собственным инициалам уже говорилось), то Илькин Меликов, то... "украинский историк польского происхождения" Стефан Мадалински. О том, что все эти лица, писанины которых отдают зловонными миазмами человеконенавистничества, являются одним и тем же Вугаром Сеидовым, я и написал. За что, как говорилось в начале этой статьи, и был "обвинен" 1ньюс.аз. Что ж, постараюсь обосновать мою точку зрения. И делаю это специально для моего азербайджанского читателя, который уже знает об уничтоженной статье Сеидова, сохранившейся лишь в моем архиве и на сайте Иреван.аз. Давайте вместе сравним текст Вугара Сеидова с высказываниями "Стефана Мадалински". Я думаю, здесь не надо быть профессионалом, чтобы заметить даже не раздвоенное копытце, а мозговые испражнения одного человека. Вугар Сеидов: "Мелик-Шахназарян, впрочем, не обмолвился ни словом о песне «Ай дзерунин» и пьесе Анны Петросян «Тюремная камера», воспевающих в эпических тонах презренного палача и мясника Г. Яникянa, заслуженно отправленного американской фемидой за решетку и проведшего затем остаток своей никчемной жизни под домашним арестом". "Стефан Мадалински": "Не в курсе он также о песне "Ай дзерунин" и пьесе Анны Петросян "Тюремная камера", воспевающих в эпических тонах этого презренного палача и мясника, заслуженно отправленного американской фемидой за решетку и проведшего затем остаток своей никчемной жизни под домашним арестом". Вугар Сеидов: "Возможно, он изрядно комплексует от чувства стыда за позорный поступок своего соотечественника Гургена Яникяна из калифорнийской Санта-Барбары, пригласившего 27 января 1973 года на обед двух своих друзей, турецких дипломатов из консульства в Лос-Анджелесе Мехмета Байдара и Бахадира Демира и затем вероломно убившего обоих разделивших с ним хлеб и соль и ни о чём не подозревавших гостей". "Стефан Мадалински": "...как в Армении возвели в ранг национального героя подлого убийцу Гургена Яникяна из калифорнийской Санта-Барбары, пригласившего 27 января 1973 года на обед двух своих друзей, турецких дипломатов из консульства в Лос-Анджелесе Мехмета Байдара и Бахадира Демира и затем вероломно убившего обоих разделивших с ним хлеб и соль и ни о чем не подозревавших гостей". Вугар Сеидов: "О чем говорит хотя бы тот факт, что в 2000 году власти Армении перезахоронили останки гитлеровца Дро у мемориала... воинам-героям". "Стефан Мадалински": "О чем говорит хотя бы тот факт, что в 2000 году власти Армении перезахоронили останки гитлеровца Дро у мемориала... воинам-героям!" Приведенные примеры идентичности Сеидова и "Мадалински" можно продолжить долго, но, думаю, приведенных примеров достаточно даже для самого твердолобого поклонника многоликого Гадеша. Подобными примерами легко можно заполнить широкоформатную газету, особенно если прибавить уже упомянутое интервью и всяких там "Умаров Сайдуллаевых". Просто на этот раз Вугар превзошел самого себя, ибо считал, что статья "Урок истории..." уничтожена безвозвратно. Однако проблема не в удивительных способностях воспроизводить самого себя словно двуполый красный калифорнийский червь. Проблема в том, что выступая под именами представителей разных национальностей: кавказец Умар Сайдуллаев, украинский поляк Мадалински и т. д., Вугар Сеидов занимается тем, что является уголовно наказуемым деянием в любом цивилизованном обществе: пропагандой расовой и национальной ненависти и нетерпимости. И еще проблема в том, что помогает ему в этом одно из крупнейших российских агентств. Я, естественно, далек от обобщающих мыслей и вовсе не намерен искать во всем этом некий заговор. Более того, я даже пытаюсь понять Колерова, позволяющего публиковать весь этот расистский бред. Ностальгия по молодости обладает могучей притягательностью. Но тем более было бы неправильно и даже преступно закрывать глаза на всю эту антиармянскую вакханалию. Где бы она ни происходила, и кто бы ни был ее вдохновителем и проводником. Глупо было бы считать, что в Регнуме не знали, кого, зачем и по чьему повелению публикуют. Убежден, МИД Армении, посольство Республики Армении в России обязаны предпринять все возможное, чтобы положить конец этому заговору сокурсников. Сегодня он продолжается, и желающие познакомиться с остальными лицами Сеидова на Регнуме могут сделать это на сайте ОпенАрмения. Толерантность с душком В уже упоминавшейся совместной статье Сеидова и 1ньюс.аз. было высказана уверенность, что взятые порталом Voskanapat.info интервью у лидеров национальных движений коренных народов Азербайджанской республики являются плодом моего воображения. Сам придумал, сам опубликовал. Предположение это является естественным для человека, который постоянно, словно штамм гриппа, перевоплощается. Как говориться, мерит своим аршином. Хотя, как кажется, Сеидов знает и даже уверен, что эти люди не вымышлены. Просто он по-своему "хитро" провоцирует, чтобы имена этих людей были раскрыты (в бакинской тюрьме "освободилось" место зверски замученного талышского ученого и патриота Новрузали Мамедова, надо срочно "заполнить вакансию"). А поскольку один из респондентов, ныне вынужденно проживающий в Москве лидер движения За духовное возрождение Талыша Фахраддин Абосзода назвался своим именем, то во мне "заподозрили" лидера аварцев и лезгин одновременно. А в качестве "аргумента" даже сообщили, что Мелик-Шахназарян беседовал с представителями "наспех созданных им же несуществующих в природе организаций". Придется "выдать" им на расправу сайт www.khabal.info, в котором, в частности, есть "Обращение лезгинского и аварского народов против государственного азербайджанского фашизма". Подписано это обращение лидерами одиннадцати организаций, в том числе и "созданными мною" Аварским народным фронтом имени Имама Шамиля и Лезгинским народным движением "Садвал". Можно, кстати, еще парочку адресов им выдать, в том числе и газет "Черновик" или "Новое дело", да опасаюсь подвести друзей. Справедливости ради надо сказать, что многоликий Гадеш цитирует не только себя, родимого. Он еще занимается обильным плагиатом, безудержно и без зазрения совести цитируя выражения и "приглянувшиеся" обороты из армянских сайтов. Так легче жить, наверное, ибо когда голову Вугара навещают собственные мысли, итог оказывается печальным. Вроде последствий идеи о незаконности провозглашения Азербайджанской республики. Не вечно же Али Гасанов будет "отмазывать" товарища по студенческой парте. И еще и платить при этом. Кстати, о незаконности Азербайджанской республики. Азербайджанская республика, зародившаяся в 1918 году вследствие экспансии Турции в Закавказье, столь же незаконно "возродилась" в 1991 году. Вопреки воле населения, за пять месяцев до того заявившего на референдуме о своем желании остаться в составе СССР. Однако две сотни назначенных депутатами людей решили иначе, вопреки международному праву и советскому законодательству, презрев мнение населения советской республики. И провозгласили "независимость Азербайджанской республики". Сеидов прав, существование этого государства является правовым нонсенсом и преступлением против коренных народов, вместе со своей исторической родиной оказавшихся в пределах незаконнорожденного государственного образования. И даже сегодня, спустя 18 лет после того, как Азербайджан украл свободу у населения республики и узурпировал власть в населенных коренными народами регионах, честный и контролируемый международными наблюдателями опрос воли населения, уверен, станет концом этого экспансионистского образования. Но Сеидов предпочитает об этом не говорить. У него другое задание. Как, собственно говоря, у других представителей азагитпропа. Предписано врать. Как можно больше. Авось, что-нибудь, да прилипнет. И еще предписано пугать. Необычайно забавно выглядят эти угрозы, звучащие из уст поверженного противника. Провального, несостоявшегося государства, каковым, согласно мнению авторитетнейшего американского журнала «Foreign Policy» и другого ведущего политологического институтов США – Американского Фонда Мира (The Fund for Peace, является Азербайджан. Да и как может нормально развиваться государство, незаконное с самого своего рождения? Вот и остается многоликому Сеидову "пугать" нас то зачехленными, то расчехленными танками, уверять своих сограждан (простите, жителей Азербайджанской республики, ибо сограждане Сеидова - то ли венгры, то ли немцы), что Карабахскую войну выиграли не армяне НКР а... Россия. Россия, которая, якобы, и оружием карабахцев снабжала, и сама воевала за карабахских армян. Между тем, единственным исправным (и щедрым) поставщиком оружия Армии Обороны НКР являлись вооруженные силы Азербайджана. И на тех самых зачехленных танках, которыми стращает нас дезертир, в случае расчехления очень скоро будут нарисованы герб и знамя Нагорно-Карабахской Республики. Все это правда, которую азербайджанские штатные, внештатные и заштатные пропагандисты пытаются скрыть от своего народа. А потому как огня боятся тех ресурсов, которые доносят истину в том числе и до азербайджанского читателя. Не этим ли страхом движимы Сеидов и 1ньюс.аз., обращающиеся к азербайджанским хакерам с призывом "заняться" порталом Voskanapat.info? Очень толерантное предложение азербайджанских журналистов, полностью соответствующее политике незаконнорожденного и незаконно функционирующего государствоподобного образования. P. S. В начале прошлого века жил в Турции гениальный армянин Агоп Мартаян, прозванный "Дильачар-ом" - "Открывший (открывающий) язык". Прозвали его так за огромный вклад в реформирование (очищение от арабского и персидского пласта и, в прямом смысле, создание новых слов на основе известных корней) турецкого языка и адаптирование латиницы к турецкому языку. Вугар Сеидов узнал о человеке, который приспособил латиницу к тюркскому языку, и составил письменность, на котором сегодня пишут в том числе в Азербайджане, на одном из форумов. И все было бы нормально, если бы на возглас некоего недоумка: "А-а-а-а, это тот самый Мартоян, в честь которого был назван месяц Март?" Сеидов не попытался блеснуть собственным, весьма специфичным остроумием: "Нет - тот, из-за схожести с которым назвали в его честь породу "мартышка". Думаю, эпизод в комментариях не нуждается.
-
Джавахкский политический активист Ваагн Чахалян 21 августа переведен в колонию строгого режима №6 города Рустави. Союз «Еркир» констатирует, что грузинские власти вместо обеспечения безопасности находящегося под арестом политического деятеля, подвергают его еще большей опасности, переведя в учреждение, где содержатся лица, отбывающие наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. «Этим шагом, направленным на усиление в отношении Ваагна Чахаляна как прямого, так и косвенного давления, грузинские власти надеются сломить его решимость к продолжению судебной тяжбы, поскольку в процессе судопроизводства все более и более вскрывается полностью сфабрикованный характер уголовного дела», — отмечается в сообщении Союза «Еркир». Основываясь на вышеизложенном, организация потребовала от грузинских властей незамедлительно прекратить давление в отношении Ваагна Чахаляна и гарантировать его безопасность, переведя до окончания всего процесса апелляции в вышестоящих судебных инстанциях в первоначальное место заключения — изолятор №8 города Тбилиси.
-
Мусабеков страдает амнезией? Или занимается пустой игрой слов. Во вторник 25 августа бакинский политолог Расим Мусабеков заявил азербайджанскому новостному агентству 1news.az: «…напомню, что ни в начальный период переговорного процесса в 1993-94 гг., ни тем более потом карабахские армяне не сидели за одним переговорным столом с Азербайджаном и только посредством третьей стороны – Армении и стран сопредседателей МГ ОБСЕ подписывались документы о прекращении огня и перемирии». А чтобы придать своим словам больший авторитет, Мусабеков предварил это утверждение словами: «Я прекрасно помню этот начальный период переговоров 1993-94 гг., поскольку сам принимал в них непосредственное участие». Откровенно говоря, господина по фамилии Мусабеков лично я не припомню, хотя в переговорном процессе принимать участие приходилось. Не знакома мне и его внешность, но тут я допускаю неблаготворное влияние времени. Говорят, оно особенно немилосердно для проигравшей стороны. Тем не менее, хотелось бы привести один любопытный документ, который Р. Мусабекову, принимавшему личное участие в переговорах между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой должен быть знаком. Документ был написан и отправлен в Степанакерт 25 июля 1993 года на бланке министерства обороны Азербайджанской республики (исходящий номер 2/231) МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ НАГОРНОГО КАРАБАХА КОМАНДУЮЩЕМУ АРМИЕЙ господину С. БАБАЯНУ В случае аналогичного обязательства обеих сторон обязуемся сроком на 3 (три) дня в течение которых будет достигнута договоренность о встрече руководителей Азербайджана и Нагорного Карабаха прекратить любые наступательные операции, ракетные, артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки. Договоренность вступает в силу с 00 часов 25 июля 1993 года, по получении сторонами упомянутых обязательств. При достижении договоренности о вышеупомянутой встрече, прекращении огня автоматически продлевается до 24.00 часов дня этой встречи, если на ней не будут согласованы иные сроки. И. О. МИНИСТРА ОБОРОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Подпись С. АБИЕВ Как мы легко можем убедиться, в данном письме не упоминаются ни посредники, ни какое-либо иное государство. С. Абиев (кстати, он до сих пор возглавляет министерство обороны Азербайджана) обращается к своему коллеге из Нагорно-Карабахской Республики лично, не прибегая к посредничеству кого бы то ни было. Да в этом и не было нужды, так как война шла между законно реализовавшей свое неотъемлемое право на самоопределение Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджанской республикой, совершившей агрессию против НКР. Следует учесть, что никогда в периоды своих кратковременных успехов, достигнутых исключительно с помощью дивизий СНГ, Азербайджан ничем себя не обязывал. И лишь тогда, когда вооруженные силы Азербайджанской республики остались лицом к лицу с Армией Обороны НКР, все с неумолимой логичностью становилось на свои места. Армянские подразделения переходили в наступление, один за другим освобождая населенные пункты Арцаха, а представители Азербайджана вдруг принимались слезно молить о прекращении огня и именовали руководителей НКР не иначе, как господин. Обращает на себя внимание и сам текст письма. С. Абиев обещает прекратить… наступательные операции. В который раз убеждаюсь, что менталитет – консервативное явление. Азербайджан и сегодня проводит перманентные «наступательные операции». И все они заканчиваются «победой». Во всяком случае, если послушать руководство этой республики, то они готовы к новым свершениям на поле боя. И только прославившееся на весь мир человеколюбие и миролюбие толерантного азербайджанского народа удерживает их от этого шага. Письмо Абиева датировано 25 июля 1993 года, спустя сутки после разгромного поражения и позорного бегства вооруженных до зубов азербайджанских вояк из Агдама. Впрочем, вооружены они были до начала наступления подразделений АО НКР. Во время бегства они логично сочли правильным избавиться от лишнего груза. Так, говорят, легче бежать. Отмечу, кстати, что подавляющее большинство из них бежало без остановок до прилавок на российских рынках. Поэтому спесивый гонор Абиева, «обязующегося прекратить любые наступательные операции» вызвал тогда в НКР здоровый смех. Речь, однако, не об этом. Речь о той недобросовестной, мягко говоря, информации, которую сегодня время от времени выдают азербайджанские деятели, находящиеся в годы войны рядом с теми, кто действительно вел переговоры. Этим часто грешит другой «столп» азербайджанской политологической мысли – Вафа Гулузаде. Одно из двух: либо этим людям разрешалось лишь готовить чай для властных лиц Азербайджана, либо они сознательно передают недобросовестную информацию. Возможно, правда, что бывшие политические деятели, ныне заделавшиеся политологами, таким вот оригинальным способом выгораживают своих бывших и нынешних патронов. Надо сказать, что они выбрали неправильную стратегию, ибо каждая не соответствующая истине информация о Нагорно-Карабахской Республике непременно будет опровергаться с цитированием первоисточников. Тех самых первоисточников, о которых Алиевы, Гулиевы, Абиевы и иже с ними мечтают забыть. Так что, господа коллеги, если вы действительно горите желанием угодить хозяевам Азербайджана, выберите другую стезю. Политика папы с сыном Алиевых предоставляет немало возможностей для возвеличивания власть имущих в Азербайджане.
-
Практика политических консультаций между Турцией и Ираном Достаточно давно Иран и Турция проводят, в соответствии с определенными договоренностями, регулярные консультации по вопросам безопасности в разрезе различных проблем. Среди обсуждаемых в регулярном режиме проблем – отношения между Азербайджаном и Арменией, включая карабахскую проблему. Наряду с данными проблемами обсуждаются вопросы, связанные с Нахиджеваном и с внутренними политическими процессами в Азербайджане. Данная практика в отношениях между Турцией и Ираном существует давно. Но примерно с окончанием ирано-иракской войны она стала носить более обязывающий и регулярный характер. Данные консультации проводятся на различных уровнях представителей МИД, разведывательных служб, министерств обороны, министерств внутренних дел. Проблемы азербайджано-армянских отношений, карабахская и нахиджеванская и иные проблемы, касающиеся политических аспектов южно-кавказской политики, обсуждаются, как правило, на уровне советников Советов безопасности Турции и Ирана, но иногда на более высоком уровне, например заместителей глав МИД. Если карабахская проблема является предметом обсуждений достаточно давно, то нахиджеванская проблема обсуждается, примерно, с 2001 года. Это стало достаточно интересным прецедентом, когда весьма спорные проблемы третьих стран обсуждаются двумя региональными макродержавами. По имеющимся сведениям, стороны применяют в порядке консультаций такой стиль общения и аргументации, как будто бы речь идет об их внутренних проблемах. На протяжении двух – трех лет Турция пыталась заинтересовать Иран в проведении политики, которая привела бы к значительному ослаблению Армении, к принуждению ее к уступкам по карабахской проблеме. Турция приводила ряд аргументов, которые не являлись неожиданностью для Ирана. Турция пыталась представить перспективу, связанную с проблемой армяно-азербайджанских отношений, как совершенно проигрышную для государств, которые поддерживают Армению, рассматривая Армению как сторону, которая, так или иначе, уступит не только карабахскую провинцию, но и другие территории, прежде всего, Мегри. Происходили апелляции к фактору многочисленного тюрко-язычного населения в северо-западном Иране. Ирану предлагалось посредничество в отношениях с США, Израилем, Египтом и Саудовской Аравией, а также лоббирование иранских интересов в Европе. Для иранцев все эти аргументы не представлялись убедительными. В конце 2004 года, Турция предложила Ирану организовать трехстороннюю встречу Турция – Иран – Азербайджан для обсуждения целого комплекса вопросов, но в первую очередь - карабахской проблемы. Это предложение привело к некоторой паузе в данных консультациях, после чего Турция не проявляет желания вновь акцентировать внимание на карабахской теме. В Анкаре и Баку поняли, что для Ирана позиция по карабахской проблеме является частью его стратегии в отношении ближних регионов, которая связана с важнейшими вопросами его национальной безопасности. Вместе с тем, отношения между Турцией и Ираном, происходящие в формате данных консультаций, все же, принесли определенные положительные результаты для Азербайджана. Иран, все же, ограничил свои намерения в части помощи и иной деятельности в НКР. Иран, имея ранее намерения оказать помощь НКР, практически, отказался от этих задач. Таким образом, Турции все же удалось предотвратить более активное присутствие Ирана в карабахской провинции. Иран в рамках данных консультаций пытается всячески уйти от обсуждения карабахской темы, параллельно предпринимая декларативные заявления о признании территориальной целостности Азербайджана. В настоящее время Иран прилагает усилия по отслеживанию процесса и событий, связанных с урегулированием карабахской проблемы. Эта задача относится к приоритетным в деятельности определенного подразделения Высшего Совета безопасности Ирана. В 2001 году Иран, пользуясь сложившимися армяно-азербайджанскими отношениями, попытался предложить России определенное соглашение по предоставлению возможной помощи в случае возникновения турецко-армянского вооруженного конфликта, принимая во внимание существующий военно-политический Договор между Россией и Арменией. Однако, Россия дала понять, что продолжение обсуждения данного предложения не имеет смысла, так как она строит в регионе иную политику. Иран пытался, также, выяснить возможность возобновления обсуждения данного предложения с Россией посредством некоторых политических исследователей в Москве, в том числе, имеющих армянское происхождение. Несомненно, предприняв этот шаг, Иран был заинтересован в выяснении позиции и намерений России в данном регионе и вообще во внешней политике. Возможно, Иран пытался, также, добиться реального повышения уровня отношений, в том числе, в части получения вооружений и технологий. Получив отказ, Иран, возможно, предпочел организовать утечку данной информации, так как военному командованию Турции стало известно об этих инициативах, что вызвало непродолжительный кризис в турецко-иранских отношениях. Тем самым было дано понять Турции, что Иран готов на определенную реакцию, в случае возникновения кризисной ситуации в регионе. Некоторое время назад в азербайджанской политической и аналитической литературе можно было заметить намеки и реплики относительно имеющихся планов Ирана выступить на стороне Армении при возникновении военного конфликта. Однако, имеются наблюдения относительно того, что Иран не выражает стремления заключить с Арменией договор об обороне и взаимопомощи, аналогичный или сравнимый с армяно-российским Договором. Следует сделать вывод о том, что Иран ведет непубличные политические игры и интриги, вовлекая в них «армянский» и «карабахский» факторы. События в Ираке и Афганистане, в какой-то мере, отвлекли внимание Турции и Ирана от Южного Кавказа. После событий 11 сентября и, в особенности, начиная с осени 2002 года, Иран серьезно опасался прямой военной агрессии США или военного столкновения в каком-то регионе и пытался всячески обезопасить себя со стороны государств Залива, Турции, Азербайджана, а также Иракского Курдистана, что весьма ограничивало в эти годы политику Ирана. Начиная с 2007 года, Иран активизировал политику в регионах, что было вызвано уверенностью, что США не предпримут агрессии против него. С этого года и были возобновлены регулярные консультации между Ираном и Турцией по проблемам Карабаха. В целом, Иран пытается уйти от обсуждения острых вопросов, так как Турция постоянно пытается обвинить Иран в поддержке армянской агрессии и оккупации. Иран выдвигает свои аргументы, но до каких-либо острых конфронтационных дискуссий дело, видимо, не доходит, так как оба государства не заинтересованы в усилении взаимной враждебности и, тем более, по теме, которая вовсе не включается Турцией в ключевые проблемы ее внешней политики. Обе страны, до сих пор, сходились во мнении, что имеет место некий механизм ОБСЕ, призванный урегулировать проблему, и вмешательство региональных держав было бы неразумным. Целью Ирана является ограничение роли Турции в рассмотрении карабахской проблемы и, вообще, ее не вмешательство в те или иные конфликты и сложные проблемы в Южном Кавказе. 2008 год стал весьма сложным и неприятным для Ирана. Турция и Россия предприняли демонстративные шаги в целях создания некой «Кавказской платформы безопасности», которая предполагала новую, более значимую роль Турции в регионе. Иран очень хорошо понимал, что всякие намеки Турции на дистанцирование от США не имеют пока оснований, хотя и отношения ее с США принципиально изменились и ухудшились. Тегеран пытался сорвать данные планы, и сигнализировал об этом Москве. Вскоре выяснилось, что данная инициатива не обладает должным потенциалом и обречена на провал, и уже с позиций важного партнера Иран продолжил консультации с Турцией по карабахской теме, но на несколько низком уровне, нежели ранее. Вместе с тем, Иран, видимо, в очередной раз убедился в том, что Турция не намерена осуществлять давление на Армению или предпринимать угрозы, которые могли бы ухудшить ее отношения с США и Европейским Союзом. Иранцы очень хорошо понимают, что для Турции это несоизмеримые задачи. Аналогичные консультации с Россией, выявили конъюнктурные намерения и Москвы, и Анкары, и это несколько успокоило иранцев, что явилось важным фактором в реализации прежних намерений в части сооружения энергетических и транспортных коммуникаций. Без уверенности в том, что Армения не имеет шансов отстоять земли Низинного Карабаха, Иран никогда не предпринял бы данные инициативы по развитию связей с Арменией. Таким образом, эти консультации между Турцией и Ираном по карабахской теме, остающиеся вне внимания, возможно, играют более важную роль в стабилизации ситуации в регионе, чем это может представляться. Другой темой ирано-турецких консультаций является Нахиджеван. Данная тема занимает гораздо большее место и имеет большую значимость не только в рамках данных консультаций, но и в ирано-турецких отношениях в целом. Турция весьма ревностно наблюдает за высокой активностью Ирана в Нахиджеванской провинции, апеллируя к условиям Московского договора 1921 года. Иран проводит большую организационную работу в Нахиджеване, преследуя цель максимального дистанцирования провинции от Азербайджана. Осуществляется широкое развитие культурно-религиозной инфраструктуры, образовательные программы, готовятся кадры, которые должны быть привержены не только шиитским ценностям и идеологии, но и иранскому государству. Замечено, что иранцы не менее ревностно строят свою политику в отношении Нахиджевана, весьма отрицательно относясь не только к претензиям Турции и Азербайджана на Нахиджеван, но и Армении. Это достаточно интересная ситуация. Если привязать эту ситуацию к некоторым аналогичным узлам иранской политики в отношении приграничных территорий, например, в Туркменистане, в Персидском заливе, в Ираке, то можно придти к выводу о наличии у Ирана некоторых территориальных претензий, хотя Иран официально опровергает такие измышления. Если по карабахской проблеме консультации между Турцией и Ираном касаются, скорее, общих политических вопросов, то в отношении Нахиджевана диалог касается весьма мелких подробностей, особенно, в части деятельности разведывательных служб, политических диверсий, инициатив по созданию агентуры влияния. Например, характерен такой момент: Турция утверждает, что она уважает своего партнера Азербайджан и не проводит в Нахиджеване определенную деятельность, но Иран не ограничивает себя в проведении деятельности специального характера. Стороны пытались обнаружить возможность сотрудничества в Нахиджеване, но маловероятно, что Турция и Иран сумели согласовать свои усилия в сфере специальной работы. Скорее всего, стороны выясняли позиции и пытались ограничить деятельность друг друга. В 2003 году в данные консультации по Нахиджевану включились представители военных разведок Турции и Ирана. Однако, этот формат консультаций, видимо, не устроил политическое руководство Ирана. Вскоре Высшим Советом безопасности Ирана было принято важное решение – поручить проведение консультаций с Турцией представителям Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Оставшееся 85 тысячное население Нахичеванской области, утратившее возможность вести высокотоварное аграрное производство, существует во многом за счет посреднической торговли, основанной на разнице цен на иранском и турецком рынках, а также за счет внешней гуманитарной помощи. Правящий в Баку нахиджеванский клан не очень интересуется судьбой своих земляков. Турция также не проявляет намерений оказать помощь данному населению, так как ее восточные провинции находятся не в лучшем экономическом положении. Население Нахиджевана гораздо более связано с Ираном этнически, чем с населением равнинных провинций Азербайджана. Данное население рассматривает Иран как единственную страну, которая проводит в нахичеванской провинции более-менее значимую социальную политику. Сооружение газопровода, зоны свободной торговли в Джульфе, облегченный въезд нахичеванского населения в Иран, возможность тысячам людей получить образование и медицинскую помощь в Иране, приводят к интеграции области с Ираном. Турция не может спокойно наблюдать за данными тенденциями. Осенью 2005 года Турция предложила Ирану заключить закрытое соглашение по правилам работы в Нахиджеване, что было категорически отвергнуто Ираном, со ссылкой на то, что Нахиджеван - территория Азербайджана. К сожалению, Иран никак не реагирует на предложения некоторых армянских организаций принять участие в работе в нахиджеванском направлении. В целом, характер ирано-турецких консультаций часто содержит агрессивный подтекст, претензии. Таким образом, Иран и Турция рассматривают Нахиджеван фактически не как часть Азербайджана, а как некую нейтральную или плохо контролируемую зону, ставшую равноприближенной к обоим государствам. В 2007 году наметились новые намерения Ирана в отношении Нахиджевана, включающие ускорение экономической и социальной интеграции в иранское общество. Одновременно, аналогичную политику Иран пытается проводить и в отношении Талышстана, но с меньшим успехом, так как земли талышей в меньшей мере подготовлены к задачам интеграции. По отношению к Талышстану Иран занимает более радикальную позицию, откровенно сделав ставку на политические планы. Игорь Мурадян
-

Что светит экономике Азербайджана в период
Pandukht replied to Spezzatura's topic in Economy and State
Долго думал? -
100% խրված հերթական հայվան է:
-
Закавказский тюрок стал украинским историком польского происхождения 22 августа текущего года на страницах российского информагентства Регнум была опубликована заметка, в которой католический священник, духовный глава армян-католиков Польши Тадеуш Исакович-Залески выразил возмущение планами Украины объявить С. Бандеру национальным героем, а также напомнил о трагических событиях 1942-1944 годов в Волыни. Информация, как информация, ничего, казалось бы, особенного. Однако она «неожиданно» стала поводом для резкой отповеди «украинского историка польского происхождения Стефана Мадалински» (смысл кавычек станет ясен позднее), набросившегося на известного в Польше ксендза с выдуманными в азербайджанских пропагандистских центрах обвинениями в адрес… армян. Словесный поток «украинца польского происхождения» привлекал внимание штампами азербайджанского агитпропа, а его стилистика была настолько знакома, что не оставляла никакого сомнения: Стефан Мадалински – это известный патологический провокатор Вугар Сеидов, ныне окопавшийся в Берлине азербайджанский дезертир. Вугар Сеидов – многоликий как Будда, многозначный, как слово «Fuchs» на его новой родине, неисчерпаемый, как сточное озеро Беюк-Шор в Баку. Пропагандистские приемы этого человека примитивны до неприличия: найти в сети человека с армянской фамилией или, как в данном случае, имеющего армянское происхождение, и вылить на его голову помои. Каждый раз переводя выдуманные или действительные обвинения с отдельного человека на всю армянскую нацию. При этом Сеидов не брезгует ни натяжками, ни откровенными выдумками и ложью. Вот и на этот раз, узнав, что широко популярный в Польше Тадеуш Исакович-Залески является духовным главой армян этой страны, алчущий крови Мадалински-Сеидов обрушился на него с тремя коробами лжи и инсинуаций. Между тем, Исакович-Залески (или Тадевос Исаакян-Залески, если это импонирует Сеидову) является гражданином Польши, предки которого прибыли в эту страну чуть ли не в Средневековье. И известен он не своим происхождением, а непримиримой борьбой со священниками, сотрудничавшими с органами госбезопасности в Польской народной республике. Борьба эта началась после того, как духовный предводитель Польши кардинал Юзеф Глемп обвинил капеллана «Солидарности» сталелитейной промышленности государства в секретном сотрудничестве с польской госбезопасности и назвал его «суперагентом». Исакович-Залески добился того, чтобы были подняты секретные документы, и выявлены истинные сексоты. Тогда выяснилось, что сексотством занимались многие священники, однако имени Исаковича-Залески среди них не было. Более того, выяснилось, что он подвергался жестоким гонениям и даже избиениям, но так и не предал идеалов духовного пастыря. К чести кардинала Юзефа Глемпа надо сказать, что он публично извинился перед священником. «Украинский историк польского происхождения», конечно, не обязан этого знать, точно так же, как не вправе обвинять священника в выполнении чьих-то заказов. Однако данное обвинение нужно было ему лишь для затравки, ибо сразу после этого он принялся за любимое занятие: лживые обвинения и поливание грязью армянского народа. Повод у него более чем серьезный: священник имеет армянские корни. А лгать Сеидову, простите, Мадалински, не привыкать. Однако в самом начале профессиональный лжец Мадалински пытается убедить читателя, что он действительно является украинским историком. «Здесь в Украине к личности Степана Бандеры относятся неоднозначно. В конце концов, сами украинцы разберутся, герой он или предатель, - витийствует он, и добавляет, выявляя свою сущность, - имел ли место на Волыни геноцид или обычная резня (?! – Л. М.-Ш.), тоже решат украинские и польские историки». Между тем, Тадеуш Исакович-Залески, которому Сеидов-Мадалински отказывает в праве на суждение, также является польским историком. Теперь, когда мы убедились, что Мадалински является украинским историком, он переходит к своему любимому занятию. «Наверное, пан Исакович-Залески не в курсе того, как в Армении возвели в ранг национального героя… Гургена Яникяна из калифорнийской Санта-Барбары, пригласившего 27 января 1973 года на обед двух своих друзей, турецких дипломатов из консульства в Лос-Анджелесе Мехмета Байдара и Бахадира Демира и затем вероломно убившего обоих разделивших с ним хлеб и соль и ни о чем не подозревавших гостей». Ай, как эмоционально, ай, как трогательно заботится Сеидов о моральном облике армян. 78-летний историк, этнограф, писатель и режиссер Гурген Яникян, лично принимавший участие в похоронах трех тысяч сожженных турками армянских жителей Карса, всю свою жизнь ждал осуждения Геноцида со стороны мирового сообщества. И когда уже на закате жизни он понял, что мир предательски безразличен к величайшей трагедии армянского народа, он принял решение напомнить всем о Геноциде. Напомнить о том, что Турция, стремящаяся войти в ряды цивилизованных стран мира, является государством-преступником. И тогда Г. Яникян, на глазах которого турки обезглавили брата, действительно убил двух турецких дипломатов. Не друзей, а незнакомых дипломатов, алчностью которых он умело воспользовался. Народный мститель обратился в консульство Турции под именем перса Гурги-хана, который готов подарить Турции уникальную купюру с подписями знаменитых людей и некогда висевшую в спальне кровавого султана Гамида картину итальянского художника. Подарки он якобы готов был отдать в обмен на достойный турецкий орден. В консульстве на приманку «клюнули», сам главный консул, вместе с сотрудником, примчался в номер отеля «Балтимор», где их ждал престарелый мститель… Лжет Сеидов-Мадалински много и нудно: тут и погибшие у Агдама жители Ходжалу, умело преподносимые миру как «убийство мирного населения в Ходжалу», и коммунист Шаумян, и дашнак Амазасп, и народный герой Андраник, словом, всех помянул «украинский историк». Естественно, преподнося всех их как людей, фанатично убивающих азербайджанцев. На весь этот бред можно было бы не обращать внимания, себе дороже. Но вот об одной грязной инсинуации сказать особо стоит. «Украинский историк польского происхождения» пишет: «О чем говорит хотя бы тот факт, что в 2000 году власти Армении перезахоронили останки гитлеровца Дро у мемориала... воинам-героям! Большего кощунства трудно было придумать». Прежде чем перейти к генералу Драстамату Канаяну (Дро), хотелось бы напомнить читателю слова Сеидова-Мадалински, приведенные нами в начале статьи: «В конце концов, сами украинцы разберутся, герой он (Степан Бандера – Л. М.-Ш.) или предатель». Вот так. Украинцы могут «разбираться» со своими историческими личностями, а армяне нет. Это за них делает Вугар Сеидов, проживающий в Германии украинец польского происхождения с тюркской фамилией и татскими родителями. Армяне «разобрались» с генералом Дро и похоронили его там, где мечтал бы быть похороненным каждый армянский патриот: у Мемориала погибших героев Баш-Апаранского сражения. Однако более всех заслужил это право именно Дро. Украинский историк может не знать, потому и сообщу: 26-28 мая 1918 года армянский корпус наголову разгромил турецких оккупантов, рвавшихся к столице Армении – Еревану. Командовал этим корпусом генерал Драстамат Канаян, одно имя которого наводило на турок суеверный страх. Победа под Баш-Апараном и, в те же дни, Сардарапатом, спасла Восточную Армению от участи Западной Армении, от тотального Геноцида и уничтожения армянской государственности. Между тем, Сеидов-Мадалински, видимо, из патриотических чувств, предпочитает не упоминать о том, что в Бакинском высшем военно-морском училище снесены бюсты выпускников - Героев Советского Союза, а также памятник курсантам, погибшим в Великой Отечественной войне. Не пишет он и о недавно уничтоженном христианском кладбище в Баку, о разрушенных тысячах хачкарах (крест-камнях) в Нахиджеване. Или из Берлина этого не видно? Вместо этого он «тонко» пытается стравить армян с другими народами, совместно воевавшими против фашизма. О Сеидове-Мадалински можно писать много, он словно скунс, везде оставляет за собой специфичный запах, но вот что хотелось бы понять, так это позицию сотрудников Регнума. Уж эти люди, бравшие интервью у «украинского историка польского происхождения», не могли не знать, кто скрывается под этим «титулом». Фраза: «об этом ИА REGNUM Новости заявил украинский историк польского происхождения из Ровно Стефан Мадалински», неопровержимое тому подтверждение.
-
Отличная статья.
-
Военные, гуманитарные и политические аспекты До сих пор неясно, кто был заинтересован в гибели мирного населения Ходжалинские события 1992 года, ставшие объектом спекуляций, - наиболее скандальные в войне 1991-1994 годов. Для получения более полной и объективной картины эти события, а также мотивы и намерения сторон необходимо рассматривать в трех плоскостях: военной, гуманитарной и политической. Хотя эти категории и взаимосвязаны, их все же можно довольно четко разделить. Основные же спекуляции происходят именно тогда, когда имеет место непреднамеренное (ввиду незнания фактов, любительского подхода и т. д.) или же преднамеренное (что случается намного чаще) рассмотрение или анализ фактов, действий и мотиваций. В подавляющем большинстве случаев спекулятивный анализ имеет место в Азербайджане, который самым активным образом «экспортирует» его за рубеж. Итак, перейдем к рассмотрению данных событий в трех вышеуказанных плоскостях. С 1988 года, когда начался нынешний этап карабахского движения, село Ходжалы превратилось в основную базу оказания давления на Нагорный Карабах. Этот населенный пункт расположен на стратегически важном перекрестке, связывающем центральную часть Карабаха с севером, а также столицу Степанакерт с многими населенными пунктами центральной части Карабаха и северными районами. Через этот населенный пункт проходила также железнодорожная ветка до Степанакерта. У Ходжалы располагался и степанакертский аэропорт, через который в 1988-1992 годах осуществлялась связь Нагорного Карабаха с внешним миром. В этот период Нагорный Карабах практически ежедневно сталкивался с проблемой блокирования, и ключевую роль в этом играло именно село Ходжалы. Кроме того, жители села и дислоцированные там вооруженные формирования активно занимались похищением и убийством людей, угоняли скот из соседних армянских сел, поджигали поля и сельхозугодья. В 1988-1991 годах здесь были убиты и похищены более полусотни армян. Ранней осенью 1991 года связь Карабаха с внешним миром была перекрыта. Друг от друга были изолированы и ряд населенных пунктов республики. Людям приходилось пользоваться лесными тропами и находящимися в критическом состоянии проселочными дорогами, огибающими Ходжалы. При этом из Баку воздушным путем в Ходжалы ежедневно прибывали разного рода грузы, по большей части военные. Здесь были дислоцированы крупные военно-полицейские силы. С этого времени Ходжалы уже открыто стало одним из основных военных плацдармов и баз Азербайджана в развязанной им же войне с Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Из Ходжалы ежедневно подвергались массированному артобстрелу Степанакерт и десятки армянских населенных пунктов. В результате погибли сотни мирных граждан. Превращение Ходжалы в крупный военный плацдарм с военной точки зрения для Азербайджана было вполне оправданно. Ведь официальный Баку намеревался решить карабахский вопрос силой, стерев НКР с лица земли. Что же оставалось делать в данной ситуации силам самообороны НКР? Естественно, что единственно предсказуемым и совершенно оправданным с военной точки зрения действием была нейтрализация данного плацдарма. В противном случае был бы уничтожен Степанакерт и десятки армянских населенных пунктов, что в конечном счете привело бы к уничтожению самого Карабаха. Таким образом, нейтрализация ходжалинского плацдарма имела не только чисто военные, но и гуманитарные аспекты. На карту была поставлена, как уже отмечалось, судьба всего Карабаха. Конечно, при нейтрализации ходжалинского плацдарма погибло и много азербайджанцев. Среди них - дети, женщины и старики. Именно этот аспект и использует официальный Баку в своих пропагандистских целях, называя происшедшее «геноцидом». Однако гуманитарные аспекты, в том числе и наиболее трагические их проявления - человеческие жертвы, не дают возможности достоверно анализировать весь спектр происшедших событий и даже не дают ответа на вопрос: кто и почему был заинтересован в том или ином развитии сценария? Дело в том, что гуманитарные аспекты являются лишь конечным звеном и результатом более обширных и менее открытых процессов, лежащих в плоскости политики. Именно здесь и находится ключ к разгадке ходжалинских событий, только получив который возможно будет избежать аналогичных трагедий в будущем. Политические аспекты ходжалинских событий можно разделить на две группы. Первая группа - борьба за власть в самом Азербайджане, вторая - политика Азербайджана в контексте карабахского вопроса. Финальный акт ходжалинской драмы был спровоцирован именно борьбой за власть в Азербайджане. Ходжалинская военная операция началась в ночь с 25 нa 26 февраля 1992 года. Силы самообороны НКР оставили мирным жителям коридор для безопасного выхода из зоны военных действий, о чем азербайджанская сторона была заблаговременно предупреждена. Однако никаких действий для организованного вывода мирного населения не предприняла. Об этом не раз заявлял тогдашний президент Азербайджана Аяз Муталибов. По его словам, «коридор, по которому люди могли удалиться, армяне все-таки оставили», а «около Агдама в то время было достаточно сил для оказания людям помощи» (см. «НГ» от 02.04.92). Но азербайджанская сторона не только ничего не сделала для вывода мирных граждан оттуда, но и фактически организовала бойню своих соплеменников, пошедших по предоставленному коридору. Во-первых, территория, на которой впоследствии были засняты кадры со множеством тел убитых, находится в трех километрах от Агдама и в 11 километрах от Ходжалы, и вплоть до падения летом 1993 года, когда был нейтрализован и агдамский плацдарм, находилась под постоянным контролем азербайджанских формирований. Доступ туда подразделений карабахской армии был тогда невозможен. Во-вторых, по словам экспертов, проводивших экспертизу трупов, подавляющая часть этих людей была убита с агдамского направления. Часть этих людей была убита выстрелами спереди, то есть когда они увидели своих и направились к ним, их попросту расстреляли. Другие, увидев это, попытались вернуться назад и были расстреляны сзади. Кроме того, была существенная разница между съемками тел погибших. Съемки проводили ряд журналистов. Самые первые сделал личный оператор Аяза Муталибова Чингиз Мустафаев, который был допущен также к месту обмена тел погибших армян и азербайджанцев. Мустафаев производил видеосъемки дважды, с разницей в два дня. Трупы были обезображены ко времени второй съемки. При виде явной разницы в состоянии трупов и подозревая, что это дело рук определенных сил в самом Азербайджане, Мустафаев по поручению президента Муталибова начал свое собственное независимое расследование. Однако после своего сообщения в информационное агентство «ДР-Пресс» в Москве о причастности азербайджанской стороны к преступлениям против ходжалинцев журналист был убит недалеко от Агдама при невыясненных обстоятельствах. То же самое увидела и чешская журналистка Яна Мазалова. Побывав сразу после событий на месте, где находились убитые люди, Мазалова не отметила каких-либо следов изуверства на трупах. А через пару дней миру были представлены обезображенные тела. Ходжалинские события были удобным рычагом смещения Аяза Муталибова с поста президента, и этим воспользовались представители Народного фронта Азербайджана, которые в конечном счете и сумели совершить государственный переворот. Об этом прямо заявил и сам Аяз Муталибов. Понятно, что пришедший к власти в Азербайджане Народный фронт попросту не мог признать себя организатором бойни соплеменников. Силы, вытеснившие Народный фронт и взявшие власть в свои руки, также не могли сделать это. Основной императив здесь состоит в том, что признание организации этой чудовищной бойни пусть даже бывшей властью существенно подорвало бы имидж Азербайджана в мире, а в самом государстве создало бы весьма сложную ситуацию. Что касается Ходжалы в контексте карабахского вопроса, то здесь имеются два основных аспекта. На протяжении многих десятилетий азербайджанское руководство использовало этот населенный пункт в качестве рычага давления на Карабах. Учитывая важность Ходжалы, азербайджанское руководство добилось того, что это село из армянского превратилось в азербайджанское. По переписи населения 1926 года Ходжалу было армянским селом с населением в 888 человек (Список населенных мест Азербайджана по данным переписи 1926 года. А.О. Нагорного Карабаха, Азербайджанское центральное статистическое управление, Баку, 1927). Из этого села берет начало род Анастаса Микояна. В конце 50-х годов ХХ века здесь начали селиться азербайджанцы, и уже в начале 60-х годов прошлого века возле армянского появилось и азербайджанское Ходжалы. (См. Азербайджанская ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 1961 г., Баку, 1961. С. 172.) В 1977 году армянское Ходжалу уже не упоминается. (Азербайджанская ССР, Административно-территориальное деление на 1 января 1977 г., Баку, 1977. С. 116.) В 1989 году это было азербайджанским селом с населением в 1661 человек. (Всесоюзная перепись населения СССР 1989 года, Нагорно-Карабахская автономная область, Госкомстат СССР, Москва, 1990.) Кроме того, в 1988-1990 годах сюда начали заселять турков-месхетинцев из Ферганской долины Узбекистана и азербайджанцев из Армении. Поселив их здесь, Баку сделал этих людей двойными беженцами и грубо нарушил принципы гуманитарного права. Ведя такую политику, власти Азербайджана сами превратили Ходжалы в плацдарм, осуществляющий удушение Карабаха, и это в конце концов привело к тому, что этот населенный пункт стал военной базой. С другой стороны, спекулируя на теме Ходжалы, власти Азербайджана используют его в качестве консолидирующей идеи против Нагорного Карабаха. Это опасная политика, так как в среде азербайджанцев генерируют ненависть к армянам. Естественно, что подобными действиями Азербайджан не только не способствует урегулированию конфликта, но и оттягивает этот процесс. Все приведенные выше аспекты имели непосредственное воздействие на ход событий в карабахском вопросе в целом и ходжалинской трагедии в частности. Остается только сожалеть, что для достижения каких-то воображаемых целей личного и «национального» масштаба приносятся в жертву невинные люди. Давид Бабаян, политолог, кандидат исторических наук, начальник Главного информационного управления при президенте Нагорно-Карабахской республики.
-
http://video.mail.ru/bk/rabiz/114/118.html
-
Неистовый исследователь и патриот Очерк о Левоне Лисициане В предисловии к статье «Французский друг армянской культуры» приводятся слова известного русского писателя-публициста Кима Бакши: «Есть два безусловно великих вклада Армении в сокровищницу мировой культуры. Первый - это христианская архитектура - церкви, монастыри. А второй - мои любимые манускрипты, свод древней мудрости и красоты». Одним из убедительных, научно аргументированных обоснований такого вклада Армении в мировую сокровищницу архитектуры явилась объемистая двухтомная монография профессора Венского университета Иосифа Стржиговского «Архитектура Армении и Европа» («Die Baukunst der Armenier und Europa»), изданная в 1918 г. в Вене на немецком языке. Я горжусь тем, что в подготовке этой монографии активное участие приняли мой брат - Левон Степанович Лисициан, трагически погибший в 1921 г. Признание И. Стржиговским такого его участия выразилось, в частности, в том, что он поместил его имя на титульном листе своей монографии наряду с участием ассистента, доктора Генриха Глюка. Имя же Тороса Тораманяна автор выделил на этом листе особо, подчеркнув, что в данной монографии использованы его рисунки. Характеризуя эту монографию, академик архитектуры Республики Армении В. М. Арутюнян писал: «В ней автор последовательно выдвигает и обосновывает точку зрения о самобытности армянской архитектуры, которая некоторое время опровергалась со стороны некоторых европейских ученых... Указанная монография в значительной мере способствовала широкой пропаганде в ученом мире научного наследия армянской архитектуры, выявила самостоятельные пути основ и развития последней, содействовала признанию ее национальной самостоятельности. Автор одновременно смело выдвинул и на фактических данных обосновал то влияние, которое оказала армянская архитектура на определенные области европейской средневековой архитектуры, особенно римской и готической. Именно поэтому монография И. Стржиговского привлекла внимание ученых, вызвала оживленный обмен мнениями, нашла как горячих сторонников, так и противников» («Об одном научном содружестве», Историко-филологический журнал, №2, 1973). Левон Лисициан …Левон Лисициан приехал в Вену в 1911 г. после того, как был исключен из Московского государственного университета за участие в студенческих демонстрациях, вызванных похоронами Льва Толстого. В это время наш отец - Степан Данилович находился в Вене с целью ознакомления с методикой обучения различным предметам в австрийских средних школах (он знакомился с нею и в ряде других стран, что было ему необходимо, т. к. он был директором гимназии, руководимой его женой) и для изучения ряда материалов по истории Армении, имевшихся в Венской конгрегации мхитаристов. Опасаясь, что Левона могут арестовать, отец срочно вызвал его в Вену, где ему удалось сразу же поступить в университет и обратить на себя внимание преподававшего там профессора И. Стржиговского. Возникшие между ними учебные контакты вылились по существу в прочное научное сотрудничество, особо усилившееся и расширившееся после приезда Тороса Тораманяна в Вену. Титульный лист монографии И. Стржиговского Вскоре после поступления в Венский университет Левон стал, как справедливо утверждает В. М. Арутюнян, «правой рукой» И. Стржиговского и принимал деятельное участие во всем научном процессе института. Обладая пытливым умом и широкой любознательностью, владея рядом языков (кроме армянского он свободно владел русским и немецким, знал древнеармянский, французский, английский, грузинский и латинский, изучал греческий, санскрит и собирался начать изучать турецкий), исключительной трудоспособностью, хорошо знающий древние армянские рукописные источники, будучи энтузиастом пропаганды армянской культуры, Левон Лисициан оказался настоящей находкой для Стржиговского (Л. Лисициан находил время и для занятий в Венской конгрегации мхитаристов). Молодой человек становится для знаменитого австрийского ученого сведущим учеником и советником по вопросам армянской культуры. В своей книге И. Стржиговский признается, что его стремление исследовать «памятники архитектуры Армении получило твердую почву только с того момента, когда в 1911 году прибыл в Вену для завершения своего образования в области исторических наук молодой, чуткий к искусству, студент-армянин из Тифлиса. В нем автор нашел то, что искал». Л. Лисициан познакомил И. Стржиговского с некоторыми научными трудами архитектора Тороса Тораманяна. С этой целью он перевел некоторые его работы с армянского языка на немецкий. Но особенно большую роль Лева Лисициан сыграл в установлении личного знакомства своего профессора с Т. Тораманяном, в организации его приезда в Вену. Трудно переоценить роль Л. Лисициана не только в организации знакомства проф. Стржиговского с Тораманяном и приезда последнего в Вену, но и его участия в работах Венского института. Левон здесь окружил маститого армянского ученого буквально сыновней заботой и вниманием, «привел в порядок», как он писал родителям, его внешность (купил ему костюм и др.), устроил с жильем, питанием, заботился о его лечении и т. д. (в своем письме Ст. Лисициану от 11 июня 1913 г. из Вены Тораманян выражает благодарность за материальную помощь и за то, что « г. Левон безгранично думает и заботится обо мне». Знакомство проф. Стржиговского с работами Т. Тораманяна (рукописи некоторых работ Т. Тораманяна, которые Левон перевел на немецкий язык, сохранились в армянских архивах), а также в дальнейшем и их личное знакомство имело решающее значение в организации профессором научной экспедиции в Армению для изучения ее древних памятников, а затем в издании собранных материалов в упомянутой выше монографии профессора. В обобщении этих материалов немалая роль отводилась Левону. Благодаря приезду Т. Тораманяна в Вену, ускорилась подготовка в институте истории искусств организации научной экспедиции в Армению и четче выявилась роль, отводимая в ней молодому ученому со стороны его профессора. Надо думать, что не без чувства большой гордости и радости в июне 1913 года он сообщил родителям, что Стржиговский «предложил мне исследовать историю армянской архитектуры и избрать ее в качестве диссертации. Однако, сейчас, видимо, это дело должно еще более расшириться. Должна быть составлена обширная программа, в ее составлении должны участвовать Стржиговский, Тораманян и я с целью издания на немецком языке фундаментального исследования об армяно-грузинской архитектуре; каждому из нас вменяется определенная обязанность ... завершением должна стать моя работа об армянской архитектуре, которая должна быть опубликована институтом». Весьма весомая роль отводилась молодому ученому и в предпринятой научной экспедиции в Армению в сентябре 1913 года. Левон выполнял обязанности не только переводчика, но и по расшифровке надписей, сохранившихся на древних архитектурных памятниках и, конечно, в установлении контактов австрийских ученых с местным населением. Наряду с собранными материалами во время экспедиции, весьма существенным источником для подготовки монографии послужили те фактические материалы, которые Т. Тораманян привез с собой в Вену: сделанные им чертежи, зарисовки, обмеры, их объяснения, а также планы реконструкции некоторых из них. Особенно следует акцентировать внимание на плане, сделанном им по восстановлению известного храма «Звартноц». В. Арутюнян характеризует Т. Тораманяна как «основоположника профессионального богатого архитектурного наследия армянского народа, смело выдвинувшего вопрос о самостоятельном пути и внутренних закономерностях его развития, о месте и значении армянской архитектуры в сокровищнице мирового зодчества» (I, стр. 9). И. Стржиговский же к тому времени имел степень доктора философии (1885 г.), многочисленные опубликованные работы, и успел завоевать широкую признательность в научном мире. Его публикации базировались на исследованиях, осуществленных в Греции, Турции, Египте, Армении. Он работал также в Германии. «В ходе исследовательской работы на материалах Востока, - как писал В. М. Арутюнян, - у Стржиговского постепенно созревает научная концепция о вкладе Востока в общечеловеческую цивилизацию». В то же время он усматривал и различие вкладов, сделанных каждой из этих стран, в частности, Арменией. Не претендуя на полное освещение жизни и деятельности таких крупных ученых, как И. Стржиговский и Т. Тораманян, - этот вопрос требует особого рассмотрения, - я поставила перед собой лишь скромную задачу - охарактеризовать ту общую научную и «личностную» атмосферу, в которой протекала в их обществе повседневная деятельность Л. Лисициана в Вене и в экспедиции в Армению. Его постоянные контакты с ними, безусловно, обогащали, углубляли его научные познания. Следует подчеркнуть, что в этом «научном трио», в этом содружестве Левон участвовал по существу на равных началах с двумя маститыми учеными, а ведь ему было тогда всего 20 лет! При этом каждый из членов данного содружества вносил свой, присущий только ему вклад для достижения их общей цели. Хотя эта цель, казалось бы, и была достигнута изданием монографии И. Стржиговского, но, однако, не полностью: как утверждал ее автор, необходимо было продолжить начатое исследование. К сожалению, этому помешала начавшаяся война. Левону пришлось срочно выехать из Вены в Тифлис. Вскоре после возвращения в Тифлис Л. Лисициан решает вступить в ряды армянских добровольных дружин. В предисловии к статье «Об архивных документах Левона Лисициана» освещается его активное участие в этих дружинах: «Он едет на русско-турецкую границу. Бывает в Эчмиадзине, Игдыре, Диадине, Баязете, Саракамыше: сначала как боец 5-й Армянской боевой дружины, а затем как уполномоченный комитета братской помощи армянским беженцам в Баязете. В тяжелых условиях он прилагает большие усилия в оказании им посильной помощи» («Вестник архивных документов Армении», №1, 1973, стр.183-196 (на армянском языке). В своих письмах он с болью пишет о бесконечных потоках беженцев, о переживаемых ими бедствиях, о создавшихся тяжелых условиях. И, несмотря на это, инстинкт ученого продолжает в нем жить. В Баязетском районе он собирает предметы, имеющие этнографический характер, выступает в печати с полемикой по вопросам языкознания, заботится о посылке Петербургскому археологическому обществу фотокопий с предметов (камней), обнаруженных в Талише и имеющих научную ценность, делает наброски с армянских архитектурных памятников. Левон заболевает сыпным тифом. После выздоровления, вернувшись в Тифлис, он решает реализовать свою давнишнюю мечту - заниматься в Петербурге у Н. Я. Марра. Однако вскоре ему пришлось вновь вернуться в Тифлис из-за призыва на учебу в военную школу. В Петербурге он познакомился со своей будущей женой – Еленой Аветовной Назарбек, которая училась здесь в консерватории (она была дочерью известных гнчакистов Маро и Авета Назарбек, которые долгие годы жили заграницей как политэмигранты). В 1919 году они поженились в Тифлисе и в январе 1920 г. у них родился сын Норайр. К великому нашему горю, он скончался в возрасте 10 лет от инфаркта в результате частых заболеваний ангиной. Так оторвалась еще совершенно не расцветшая веточка нашего семейного древа... Нельзя обойти молчанием то обстоятельство, что Левон, будучи в Петербурге, поступил на работу и часть своего заработка посылал бедствовавшему Т. Тораманяну. Так продолжалось его бескорыстное и уважительное отношение к маститому ученому. Не случайно в своих письмах Левону Т. Тораманян обычно ласково называл его «мой благородный друг». В 1918-1920 гг. в Тифлисе Левон работал сначала у братьев Маиловых по выявлению полезных ископаемых Армении, а затем на очень важной работе - в комиссии по выявлению жертв-армян в Первой мировой воине. Видимо, именно потому, что он являлся ученым секретарем этой комиссии и обладал научным опытом, Левон был привлечен к обобщению собираемых ею документов о положении дел в войне армян на различных фронтах. Поэтому у него сосредотачивались те важные документы (в том числе и генерала Андраника), которые были мной обнаружены в Москве спустя 50 лет. Работа в этой комиссии, возглавляемой генералом Кулебякиным (надо полагать, генерал очень хорошо относился к Левону и, видимо, очень любил его, о чем свидетельствует проникновенное стихотворение, посвященное им памяти Левона, написанное к первой годовщине со дня его гибели), проводилась в тесном контакте с Ов. Туманяном. Именно эти документы, сосредоточенные у Л. Лисициана, легли в основу (наряду с моими личными воспоминаниями о нем) этой статьи. Левон работал в военно-исторической комиссии до сентября 1920 года. Крайне тяжелое положение Армении вновь побудило его оказать ей свою посильную помощь. Оставив полугодовалого Норика и красавицу-жену, в которых он не чаял души, Левон вновь уезжает в Армению. Вскоре здесь устанавливается советская власть, и именно на него возлагается благородная и ответственная миссия по национализации и возрождению культурно-просветительных учреждений гор. Эчмиадзина. Выбор Левона Лисициана для выполнения этой высокой миссии был не случайным, хотя он и не был членом коммунистической партии, но для такого выбора были все основания: несмотря на то, что Левону в ту пору не было еще и 29 лет, за его плечами был накоплен достаточно богатый научный и военный багаж. Он, как говорилось, уже имел солидную научную подготовку, особенно в области истории культуры Армении (главным образом архитектуры), а также военный опыт. Он обладал и многими важными личными качествами: высоким патриотизмом, любовью к древней культуре Армении, чувством большой ответственности за порученное дело, способностью к его организации и осуществлению, а также, что было немаловажным, чутким отношением к людям. Формированию этих и других личных качеств Л. Лисициана во многом способствовала вся атмосфера, царившая в нашей семье, жившей в то время в Тифлисе. Все мы, трое детей - Левон (1892-1921), Србуи (1893-1979), которая стала заслуженным деятелем науки Арм. ССР, и я (1906 г.) - были постоянными свидетелями неутомимой педагогической и общественной деятельности наших родителей. Отец - Степан Данилович Лисициан, наряду с почти 60-летним трудом педагога, вел большую научную и издательскую работу, в частности, по изданию учебника армянского языка «Луcaсep» (совместно с Ов. Туманяном и Л. Шантом), а также армянского детского журнала «Хаскер». В редакции этого журнала активно сотрудничала, наряду с большой педагогической работой, и наша мать. Формирование убеждений и характера Левона, заложенное в семье, получило быстрое дальнейшее развитие в годы ученичества (он окончил Тифлисскую гимназию с золотой медалью) и, особенно, студенчества, а затем в процессе всей последующей деятельности. В 1909 году он поступил в Мюнхенский университет, но т. к. занятия там его не удовлетворили, он перевелся в Московский государственный университет, а затем в Вену. Образ Левона не может быть полным, если не осветить и некоторые другие его личные качества и внешность. Он был горяч и вспыльчив, но быстро отходил. Пользовался любовью и уважением окружающих благодаря своей общительности и остроумию. Он был строен, выше среднего роста, у него были карие глаза, правильные черты лица, он очень нравился женщинам. Левон прекрасно играл на скрипке, ведь он окончил Тифлисскую консерваторию. Одно время все думали, что он станет скрипачом, и хотя в дальнейшем тяга к научным исследованиям перевесила в нем стремление к музыке, он всегда продолжал играть на скрипке. Материалы, сохранившиеся в архиве о данном, - увы, последнем периоде жизни и деятельности Левона, - ярко свидетельствуют о его напряженной работе как комиссара. У него не было, естественно, никакого секретаря, машинистки, бухгалтера. Все дошедшие до нас документы представляют собой копии его докладов, отчетов и служебных писем, написанных его рукой. Они, в частности, свидетельствуют о том, что он всемерно стремился собрать все духовные ценности, имеющие общегосударственное значение, в том числе, находящиеся на руках у отдельных лиц. По инициативе и при активном участии Левона была начата работа по созданию Эчмиадзинского культурно-исторического института (на базе бывших духовных культурно-просветительных учреждений). Но так как по распоряжению наркома просвещения Армении Ашота Иоаннисиана Л. Лисициан переводился в Ереванский университет для чтения лекций, а свои обязанности в Эчмиадзине он должен был передать Л. Саркисяну, комиссар написал коллегии института подробный доклад о своей деятельности с 20 декабря 1920 года по 1 февраля 1921 года (т. е. за 17 дней до его трагической кончины)... Именно безграничная любовь к древней культуре Армении, стремление всемерно познать и сохранить ее явились, по-моему, характерной особенностью всей его жизни. Эту свою любовь и убежденность он достойно доказал последним поступком своей жизни: защищая с ружьем в руках вход в Матенадаран, Левон был схвачен и брошен в тюрьму. На следующий день с ним жестоко расправились. Это было в февральские дни 1921 года. Рассказывая об этой жестокой расправе, Ким Бакши так озаглавил свое эссе о Левоне Лисициане, - «Его просто-напросто зарубили». Автор видит одну из важных сторон значения деятельности Левона в том, что «он был среди тех многих, кто верил, что большевики принесут новую жизнь его Родине. И не смог поступиться своими убеждениями даже под угрозой смерти. И тем вызвал приступ ненависти, жестокую смерть в то беспощадное время» (К. Бакши. Из монастыря - о любви. Ереван-Москва, стр. 137). Архивные документы, сохранившиеся в личном фонде Л. Лисициана, еще ждут дальнейших, более широких исследований с тем, чтобы полнее осветить его, хотя и короткую, но плодотворную деятельность, а также все конкретные исторические условия, в которых она протекала и была жестоко прервана. Наконец, хотелось бы сказать еще об одном. Как представляется, сегодня крайне актуальным является продолжение исследований, в которых принимал самое непосредственное участие мой брат Левон Лисициан. А в связи с этим возникает и насущная необходимость издания обоих томов книги «Архитектура Армении и Европы». Перевод с немецкого на русский этой книги, - как писал В. Арутюнян, «ставшей для отечественных ученых библиографической редкостью», - был сделан полвека тому назад; в настоящее время он находится в Ереване. «Ноев ковчег»
-

Что светит экономике Азербайджана в период
Pandukht replied to Spezzatura's topic in Economy and State
Да будет вам, ребята. Какие албанские церкви? Нет никаких албанцев и нет никаких церквей. Все давно вырезано, разобрано по камешку, уничтожено и мхом поросло. На территории современной Азербайджанской республики могут быть только остатки АРМЯНСКИХ храмов. Благо армянское население Шемахи, Шеки, Исмаиллов и др. еще в начале ХХ века было значительным. Одновременно турок и объявляет наши храмы олбано-азерскими, и гадит в них. А потом устраивает в них пляски и фотосессии. http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=840250 -
Վրաստանի իշխանությունները զավթում են հայերի հողերը Երեկ ծեծկռտուք է տեղի ունեցել Նինոծմինդայի շրջանի Փարվանա գյուղի հայերի և նրանց հողերը զավթելու նպատակով այդտեղ ժամանած վրացիների միջև: Վիճաբանության առարկան` Փարվանա գյուղի հայ բնակչությանը պատկանող հողատարածքներն են: Երեկ տեղի բնակչությունը հայտնաբերել է, որ մի խումբ վրացիներ հնձում են իրենց արտերը: Իրենց այդ հանդուգն քայլը վրացիները բացատրել են նրանով, որ ինտերնետ- աճուրդի միջոցով Վրաստանի փոխնախարարներից մեկը գնել է Փարվանա գյուղի հողատարածքներից մոտ 150 հա տարածություն: Փարվանա գյուղի բնակիչները տեղյակ չեն եղել «աճուրդի» մասին: Այն մասին, որ իրենք զրկվել են իրենց ընտանիքների եկամուտի միակ աղբյուրը հանդիսացող հողատարածքներից, գյուղացիները տեղեկացել են գյուղ ժամանած վրացիներից, որոնք եկել էին այդ տարածքները հնձելու: Հայ գյուղացիների ու վրացի հնձվորների միջև սկսվել է ծեծկռտուք, որի արդյունքում վրացիները փախել են: Ներկայումս Փարվանայում տիրում է բավականին լարված իրավիճակ: Տեղի երիտասարդները վճռական են` իրենց հողերը պաշտպանելու հարցում: Եվ ինչպես իրենք են ասում` անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նույնիսկ զենքի դիմել, բայց ոչ մի թիզ հող չեն տա վրացիներին: armar.am
-
Карабканье в пропасть Авторитетный американский журнал «Foreign Policy» опубликовал очередной рейтинг нестабильных (несостоявшихся, провальных) государств (Failed States). Проводимые в области определения дееспособности государств исследования «Foreign Policy», в котором (и на который) работают лучшие специалисты в различных областях науки, представляют несомненный интерес для специалистов, а также широкого круга читателей. Доверие к исследованиям одного из ведущих политологических институтов США, каковым давно и заслуженно является «Foreign Policy», увеличивается еще и тем, что изучение уровня дееспособности государств журнал проводит совместно с другой компетентной организацией, также являющейся в числе ведущих политологических институтов США – общественной организацией Американский Фонд Мира (The Fund for Peace). На этот раз специалисты «Foreign Policy» исследовали 177 стран мира, расположив их по степени нестабильности и опасности распада. Чем выше в списке расположено государство, тем больше у него «шансов» прекратить существование. По сути, список «Foreign Policy» является грозным предупреждением для многих государств. Отметим также, что предсказания специалистов «Foreign Policy» сбываются с пугающей неотвратимостью, что не раз становилось поводом для критиков в обвинении использования сведений из государственных источников. В свою очередь, руководство «Foreign Policy» никогда и не скрывало, что делаемые ими выводы основываются на скрупулезном анализе данных, полученных не только вследствие чисто научных исследований, но и политического и политологического анализов, в том числе и сведений, получаемых из официальных источников. Кроме того, специальное программное обеспечение в течение всего года сканирует десятки и сотни тысяч статей и материалов, размещенных в открытых источниках, и подсчитывает количество негативных и позитивных оценок по всем критериям. Как отмечают специалисты из «Foreign Policy» и The Fund for Peace, на этот раз они выставляли оценки по разным критериям более строго, глубже «рылись» в получаемой и анализируемой информации. Список провальных государств возглавили Сомали, Зимбабве и Судан, «набравшие соответственно 114.7, 114.0 и 112.4 баллов. «Последние» места занимают Швеция, Финляндия и Норвегия, 20.6, 19.2, 18.3 баллов, наиболее состоявшиеся и дееспособные государства в мире. «Список провальных государств 2009», как и предыдущие списки «Foreign Policy», составлялся на основе суммирования баллов по 12 критериям, индикаторов нежизнеспособности государства, которые объединены в три группы: социальные, экономические и военно-политические. Чем выше оценка за тот или иной критерий, тем хуже для государства. Считается, что индикаторы нежизнеспособности государства имеют равную значимость для государства, однако, как представляется, среди них есть более «равные». Существуют проблемы трудноразрешимого характера или вовсе не решаемые в течение короткого отрезка времени. Например, наличие агрессивно настроенных соседей. Решение задач подобного плана зачастую выходит за рамки возможностей государства, каким бы миролюбивым оно не являлось. Более того, агрессия соседей может возрасти прямо пропорционально миролюбию государства. Таким образом, абсолютная дееспособность государства не всегда может быть зависима от деятельности его правительства или от уровня развития той или иной общественной или социальной формации. Тем не менее, государство способно обеспечить свою дееспособность в любых, даже наиболее неблагоприятных условиях. Для этого государству необходимо «нейтрализовать» неблагоприятное влияние «внешней среды» значительным улучшением в тех сферах функционирования государства, которые наиболее зависят от деятельности самого государства. Примером сказанному является Республика Армения. Будучи в географически неблагоприятных условиях, имея «в наличии» агрессивно настроенных соседей с историческими противоречиями и находящаяся в фактической блокаде Армения признана специалистами «Foreign Policy» наиболее состоявшимся, устойчивым государством не только Южного Кавказа, но и огромного региона Большого Ближнего Востока. Армения является значительно более состоявшимся и дееспособным, а значит более «живучим» государством, чем например, Туркмения, Иран, Узбекистан или Азербайджан именно за счет зависящих от государства критериев, более рационального координирования ключевых государственных институтов. Исследования «Foreign Policy» являются еще одним подтверждением той непреложной истины, что естественные ресурсы государства, сколь бы стратегическое значение не имели их запасы, никак не должны и не могут восприниматься в качестве гаранта его дееспособности. Сами эксперты «Foreign Policy» и The Fund for Peace считают наиболее критическим для определения устойчивости государства высокие баллы по двум основным индикаторам: степень территориальной и социальной неравномерности экономического развития и уровень криминализации и делегитимизации (или изначальной нелегитимности) властных структур государства. Это означает, что увеличение общего уровня бедности, если этот процесс касается всех слоев населения, еще не является показателем роста уровня недееспособности государства. В свою очередь, серьезным показателем недееспособности государства является восприятие населением государственного аппарата в качестве коррумпированного и незаконного механизма. Отметим также, что в течение пяти лет этот список не осмелились подвергнуть сомнению ни одно государство, ни одна серьезная организация. Высочайший авторитет проводящих исследование институтов, а также чисто научная методика изучения жизнеспособности государств не оставляет места для сомнений в корректности их выводов. В связи с тем, что в Азербайджанской республике постоянно публикуются материалы, предсказывающие печальное будущее для Армении, было бы интересно сравнить уровень жизнеспособности двух соседних государств. Сразу скажем, что согласно экспертам из «Foreign Policy» и The Fund for Peace, в списке, указывающем на дееспособность государств, в 2009 году Армения заняла 101 место, а Азербайджан – 56. Напомним еще раз: чем выше в списке расположено государство, тем менее дееспособным оно является. Таким образом, согласно списку «Foreign Policy» Армения является гораздо более состоявшимся и жизнеспособным государством, чем Азербайджанская республика. Тем не менее, ограничиваться этим выводом не стоит, было бы интересно рассмотреть некоторые индикаторы нежизнеспособности государства как на современном этапе, так и в динамике. И начать, наверное, стоит как раз с тех критериев, которые экспертами «Foreign Policy» считаются наиболее важными, «критическими». По уровню криминализации и делегитимизации (или изначальной нелегитимности) властных структур Азербайджан «набрал» в 2009 году 8.2 балла, что, безусловно, является красноречивым показателем высокой криминальности руководства этой республики. Армения по этому критерию «получила» 7.1 балла, что намного лучше, чем в Азербайджане, хотя и далеко не является поводом для самоуспокоения. Рассмотрение этого критерия по Азербайджану в динамике последних трех лет указывает на стабильное ухудшение ситуации: 2007-й год – 7.8 баллов, 2008-й год – 8.1. Налицо продолжающаяся криминализация властных структур и растущее беззаконие силовых ведомств республики. Второй «критический» индикатор нежизнеспособности государства – социальная неравномерность экономического развития. Армения – 6.5 балла, Азербайджан – 7.4. Разница в пользу Армении, как видим, также большая, хотя, повторимся, у соответствующих армянских министерств еще много работы в этом направлении. Динамика этого критерия у Азербайджана также отрицательная. Так в прошлом году эксперты оценили его в 7 баллов ровно. Таким образом, по наиболее важным, критическим, индикаторам нежизнеспособности государства Азербайджан показывает устойчивую динамику в сторону ухудшения. Интересен еще один критерий оценки жизнеспособности Азербайджана – массовая миграция беженцев и/или интернированных лиц. В случае с Азербайджаном речь идет о беженцах, которым Азербайджан, судя по здравицам его правительства, оказывает всемерную помощь, и даже уже полностью решил их жилищные проблемы. Совсем иначе считают в «Foreign Policy», эксперты которого привыкли оперировать не победными реляциями, а действительными фактами. В «Foreign Policy» отмечают все более ухудшающееся положение азербайджанских вынужденных переселенцев. Так, этот критерий в 2007 году был оценен в 7.5 баллов, в 2008 году – 7.8 баллов, а в текущем, 2009 году уже в 8.2 балла. Для сравнения приведем оценки того же критерия по Армении: 2007 год – 7.6 баллов, 2008 год – 7.5 баллов, 2009 год – 7.2 балла. Как видим, в нефтеносном Азербайджане, имеющем миллиардные прибыли от экспорта нефти и газа, отношение к пострадавшим в годы войны гражданам кардинально отличается от отношения к той же категории людей в Армении. При этом следует отметить, что в процентном отношении на душу населения Армения приняла гораздо больше беженцев, чем Азербайджан вынужденных переселенцев. Сказанное, естественно, совершенно не означает, что в Армении проблемы с беженцами решены окончательно, однако наглядно демонстрирует стремление государства оказать содействие в полной адаптации беженцев к проживанию на новом месте. Наконец, поговорим еще об одном индикаторе нежизнеспособности государства: наличие недовольных и мстительно настроенных групп. Как представляется, этот критерий весьма важен для определения уровня жизнеспособности государства. Эксперты «Foreign Policy» оценили этот критерий по Азербайджану весьма высоко – 7.9 балла. Это означает, что в Азербайджане наличествуют уже не только недовольные (таковых в этой республике, особенно в среде коренных народов, всегда было много), но и по-настоящему мстительные группы вооруженных боевиков. Если же учесть, что с прошлого года оценка этого критерия серьезно выросла - в 2008 году тот же индикатор был оценен «всего» в 7.3 балла, то картина станет еще более полной. Азербайджанская республика наживает себе врагов не только за пределами республики, но и внутри самой себя. Представляется, что уже в ближайшем будущем Азербайджан столкнется с трудноразрешимыми проблемами исламского радикализма и межнациональных проблем. Строго говоря, эти проблемы до определенной степени взаимосвязаны, особенно на севере республики, где выраженная дискриминация коренных лезгин, аварцев, цахур носит не только этнический, но и религиозный характер. Священнослужители (дпиры) этих народов, исповедующих ислам суннитского толка, справляют свои обязанности под двойным контролем министерства национальной безопасности и Духовного управления мусульман Кавказа. При этом следует учесть, что последний орган только называется «Кавказа», в действительности его глава (вернее, главарь) является лишь духовным лидером мусульман-шиитов Азербайджана. Давление на живущих на юге Азербайджана коренных в республике талышей носит «лишь» этнический характер: талыши, так же, как и большинство закавказских тюрок, исповедуют ислам шиитского толка. Однако общность религии никоим образом не смягчает дискриминации на этнической почве ираноязычных талышей. Карательная машина Азербайджана жестоко расправляется с любым проявлением инакомыслия в республике, трагическим подтверждением чего является замученный до смерти 17 августа текущего года в тюремных застенках талышский ученый и патриот, профессор Новрузали Мамедов. Подобная политика Азербайджанской республики логично привела к соответствующей оценке еще одного индикатора нежизнеспособности государства – усиление групповых и/или клановых элит. «Foreign Policy» оценила этот критерий в 7.9 баллов, что является исключительно высоким показателем клановости. Думается, что если бы в уважаемом коллективе «Foreign Policy» знали о курдской национальной принадлежности практически всего руководства Азербайджана, то оценка данного критерия была бы еще выше. Тем не менее, динамика оценки данного пункта (в 2008 году Азербайджан по этому индикатору получил «всего» 7.5 баллов) указывает на продолжающееся стабильное ухудшение ситуации в этой республике. Собственно говоря, на это указывает и динамика суммарной оценки индикаторов нежизнеспособности государства. Так, в 2008 году Азербайджан набрал 81 балл ровно и находился на 64 месте. А уже в этом году количество набранных баллов увеличилось до 84.6, а сама эта республика, обосновавшись на 56 месте, приблизилась к окончательному распаду еще на восемь горизонталей.
-
Двухмесячный временной отрезок от заседания Президиума Верховного Совета СССР 18 июля до середины сентября 1988 года стал одним из самых спокойных периодов в новейшей истории национально-освободительного движения арцахских армян. Сразу после заседания Президиума ВС СССР 18 июля 1988 г. была создана Комиссия Верховного Совета СССР по Нагорному Карабаху, в состав которой вошли члены Совета национальностей Верховного Совета СССР, известные ученые и деятели культуры. Комиссия впоследствии неоднократно посещала как НКАО, так и Ереван и Баку, и должна была по результатам своей работы представить в Верховный Совет заключение для последующего обсуждения. Первый пункт постановления Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля 1988 г. об отказе передачи области из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, естественно, никак не мог удовлетворить население автономной области, более того, вызвал всеобщую забастовку в НКАО и многочисленные демонстрации протеста в Ереване и других городах Армении. В июле 1988 года комитет «Карабах» принял план по организации длительной борьбы. Комитетом также рассматривались различные варианты дальнейших действий в случае окончательного отклонения центральными властями воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией. Причем, с точки зрения сегодняшних реалий, планы эти были довольно фантастичными. Например, разрабатывался план, согласно которому карабахским армянам рекомендовалось добиться выхода из состава СССР, а затем обратиться с просьбой о вхождении обратно в Советский Союз, но уже в составе Армянской ССР. По другому плану, поскольку, согласно Конституции СССР, в отличие от Армянской ССР НКАО не обладала правом на самоопределение, то предполагалось, чтобы сама Армянская ССР заявила о своем вхождении в состав Нагорного Карабаха, образовав новую Армянскую Арцахскую республику со столицей в Степанакерте. Параллельно с этим комитет «Карабах» приступил к формированию национальной общественной организации, которая позднее получила наименование «Армянское общенациональное движение» (АОД). В программе движения не ставилось задачи по достижению Арменией независимости, но предусматривалось проведение в республике широкомасштабных реформ. Результатом этих действий стало направление из Москвы в Ереван новых подразделений МВД СССР и введение в столице республики комендантского часа. Автор этих строк вспоминает те удивительные дни национального единения, когда при неработающем транспорте частники бесплатно подвозили людей, когда дарились цветы стоящим в оцеплении солдатам, а митингующим раздавалась бесплатная пища, когда создавалось ощущение беспрецедентного единения нации, когда порой казалось, что вся нация в едином порыве стала единым живым организмом… По существу единственным реальным «проармянским» шагом генерального секретаря стало назначение в Нагорный Карабах «специального представителя» из Москвы для организации и координации выполнения принятых решений. Таким человеком 24 июля стал зав. отделом машиностроения ЦК КПСС, депутат ВС СССР, член ЦК КПСС Аркадий Иванович Вольский, уже посещавший автономную область в апреле 1988-го. «Представитель Центрального Комитета и Верховного Совета в НКАО» (а именно такое название носила новая должность Вольского), помимо всего прочего, был наделен полномочиями отменять в случае необходимости решения бакинского партийного руководства. 27 июля в союзных и республиканских органах печати было опубликовано постановление ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР «О практических мерах по реализации постановления Президиума ВС СССР по вопросу о Нагорном Карабахе». В тот же день, согласно данному постановлению, А. Вольский прибыл в Степанакерт, наделенный соответствующими полномочиями для организации и координации работы партийных, советских и хозяйственных органов Азербайджана, Армении и НКАО по выполнению решения союзных органов по Нагорному Карабаху. В НКАО он будет проводит совещания, давать инструкции, а с сентября 1988 г. станет фактическим руководителем над введенными в регион войсками. По его прибытии в области был восстановлен нормальный режим работы предприятий и организаций. 25 июля состоялся секретариат ЦК КП Азербайджана, на котором была заслушана информация А. Везирова о встрече с членами бюро Нагорно-Карабахского обкома партии. «Были рассмотрены высказанные ими просьбы и предложения, направленные на стабилизацию ситуации в НКАО, обеспечение нормального функционирования народного хозяйства автономной области». Согласно положительным тенденциям, задекларированным в решениях заседания 18 июля, появилась реальная возможность создания филиалов армянских и союзных предприятий в Арцахе, направления в область финансовых средств и специалистов, заключения договоров без согласования их с азербайджанскими республиканскими структурами. И этой возможностью не преминул воспользоваться Президиум Верховного Совета Армянской ССР, который, во исполнение «решений ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР» 26 июля дал поручение Совету Министров Армянской ССР разработать и осуществить комплекс мероприятий по действенному оказанию помощи НКАО во всех сферах социально-культурной и хозяйственной жизни области и «систематически информировать общественность о ходе выполнения этих решений». 2 августа по приглашению А. Вольского в Степанакерте состоялась встреча руководителей партийных организаций Азербайджана и Армении А. Везирова и С. Арутюняна, которые имели беседу с членами бюро обкома партии и облисполкома, рядом областных работников. «Цель их приезда - координировать усилия для выполнения постановления партии и правительства о Нагорном Карабахе». 24 августа в Степанакерте состоялась IX сессия Нагорно-Карабахского областного совета народных депутатов ХХ-го созыва, которая обсудила ход выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 марта 1988 г. «О мерах по ускорению социально-экономического развития НКАО в 1988-1995 гг. и задачах местных Советов области по его реализации». Совет народных депутатов НКАО просил комиссию Совета национальностей Верховного Совета СССР по НКАО обобщить и представить в Верховный Совет предложения по справедливому решению проблемы Нагорного Карабаха. Сессия также избрала председателем исполнительного комитета Совета народных депутатов НКАО депутата С. А. Бабаяна, ранее работавшего директором Степанакертского завода сельхозмашин. Бабаян в своем выступлении заявил: «Карабахцы на общегородском митинге пришли к выводу, что постановление Президиума Верховного Совета СССР является приемлемым выходом из создавшейся ситуации». В принятом на сессии решении также констатировалось, что работа по реализации указанного постановления «союзными и республиканскими министерствами и ведомствами и областными органами ведется неудовлетворительно». Прямо противоположное мнение по этому вопросу высказал в своем интервью газете «Правда» от 28 августа руководитель Азербайджана А. Везиров: «Ход выполнения программы находится под повседневным контролем ЦК КП Азербайджана и Совета министров республики». Летом 1988 года в руководстве Азербайджанской ССР вызрело решение избавиться от карабахской проблемы путем изгнания из области армянского населения. Азербайджанские бандиты, пользуясь полным покровительством органов власти Аз. ССР и правоохранительных органов, устраивали засады на дорогах, убивали мирных жителей, поджигали дома и сельскохозяйственные угодья, захватывали людей в заложники, угоняли скот. Летом 1988 года на дорогах, ведущих в мятежную автономию, ужесточилась блокада. Интересно, что отвечая на вопрос о блокаде в интервью газете "Аргументы и факты" (№30) тогдашний союзный министр внутренних дел А. В. Власов заявил: «Утверждения о блокаде Карабаха явно преувеличены». В это же время в обиход входит новое выражение «каменная война». Это когда автомобили, вынужденно проезжающие через азербайджанские населенные пункты (плоды систематического перекраивания азербайджанскими властями карты региона), забрасывались камнями. Нападения на автотранспорт и избиения пассажиров происходили на дорогах Карабаха и ранее, но летом 1988-го они приобрели систематический характер. В ответ во многих населенных пунктах НКАО начали создаваться отряды самообороны, карабахские армяне стали совершать ответные операции, направленные как против азербайджанских бандитов, так и против «крышующих» их азербайджанских силовых структур. Ситуация в области начала походить на партизанскую войну. В это же время (с августа 1988 года) в Степанакерте стал базироваться 366-й гвардейский мотострелковый полк 23-ей гвардейской мотострелковой Бранденбургской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В начале сентября в Степанакерте стало известно о выделении Советом министров Азербайджанской ССР ссуды в размере 3 млн. рублей на строительство домов в г. Шуши и азербайджанонаселенных селах Шушинского района для так называемых беженцев. Помимо этого прибытие в область многочисленных разнопрофильных республиканских комиссий, неприкрытое давление административных органов республики на соответствующие органы власти автономной области и другие факты вызвали новое обострение обстановки в НКАО, вылившееся в организации массовых шествий, митингов и забастовок в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане также занимались лихорадочным поиском нестандартных решений, которые могли бы показать центральным властям меру заинтересованности азербайджанского руководства в урегулировании конфликта. Так 17 сентября газета «Известия» сообщала о проекте протокола о сотрудничестве и взаимодействии, который, по инициативе Комиссии по делам межнациональных отношений и интернациональному воспитанию Верховного Совета Аз. ССР (председатель Ф. Дашдамиров) был направлен в адрес аналогичных комиссий Грузии и Армении для рассмотрения и утверждения в Верховных Советах этих республик. «Смысл этого документа в том, - говорилось в статье, - чтобы впервые со времени существования Закавказской Федерации дать правовую основу для решения экономических и культурных проблем, обеспечения политических, социальных и личных прав представителей национальных меньшинств Закавказья, в том числе азербайджанцев, грузин, армян, проживающих вне пределов своих республик». Как бы то ни было, регион словно бы замер в ожидании грозных событий, в одночасье изменивших жизни миллионов людей, событий, которые фактически станут своеобразной «точкой невозврата». Но об этом ниже.
-
Не просто плохо воспитан, а откровенное, я бы сказал, хамло, особенно в его оценках армянским историческим источникам и армянской военной составляющей описываемых исторических событий. Настоящий историк никогда не позволит себе пренебрегать историческими хрониками восточных авторов, особенно армянскими и персидскими. Да, они, в силу своей специфики, более сложны для изучения, поскольку написаны не "сухими" европейскими языками. Но это еще не повод для аксиоматического убеждения оппонентов в сверхчеловеческой удали Искандера Македонаци.
-
Арсен Яланузян ФАКТОР АРМИИ «Любите, уважайте армию. Мы живем в сложном регионе. Бог знает, что нас ждет: быть или нет большой кавказской войне, трудно сказать. Ею пахнет. Станет ли министр обороны варчапетом, станут ли министрами обороны или промышленности журналисты, все равно ось страны - это армия. Не будет у нас армии, никто не станет уважать нас. Самая серьезная вещь, созданная нами за последние десять лет, - это армия» (из последнего интервью Вазгена Саркисяна, «Айастани Анрапетутюн», 28 октября 1999 г.). Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ посол Владимир Казимиров в своем недавнем интервью Day. az в очередной раз сказал: «Серьезных переговоров не бывает без уступок. А президенты к ним и не начинали готовить общество, наоборот - много лет заверяли, что будут лишь получать, а не отдавать». Уже несколько лет вошедшая в обиход формула «президенты должны готовить общество к уступкам» основана на негласном допущении, что общественное мнение является лишь «пассивным объектом» переговоров. Однако это не совсем так. Доказательством служат слова самого В. Казимирова, последовавшие за вышеприведенными: «Азербайджану пора отказаться от воинственных терминов, а Армении от бредовых идей «освобожденных», то есть оккупированных территорий Азербайджана». Получается, что отказ от «воинственных терминов», которые являются продуктом чистой пропаганды, равносилен вполне реальному отказу от освобожденных территорий (на сей раз без кавычек). Тем самым становится очевидным, что общественное мнение является не «объектом», а фактором азербайджано-армянских переговоров, причем самым серьезным и даже решающим. По сути, решительность и неуступчивость общественного мнения в карабахском вопросе является не помехой переговорному процессу, а дополнительным козырем в нем. Во всяком случае, Азербайджан давно уже руководствуется этим принципом, а г-н Казимиров поневоле (хочется верить) поощряет его в этом, ставя знак равенства между «виртуальной» угрозой возобновления войны и вполне реальным результатом ее. Не секрет, что со стороны заинтересованных внешних сил тщательно зондируется общественное мнение в Армении и Азербайджане на предмет решительности и неуступчивости в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта с целью обнаружить «слабое звено» и оказать на него давление. В Азербайджане прекрасно понимают это и не гнушаются даже государственной пропагандой антиармянского фашизма, лишь бы доказать «немыслимость пребывания НКР вне Азербайджана». Примитивная тактика, но действует. Часто не без помощи, в том числе, и некоторых странных комментариев г-на Казимирова, которые иногда невозможно воспринимать иначе, как прямое давление на общественное мнение Армении. Например, следующее: «Победу в этой (будущей - А. Я.) войне можно одержать при наличии неоднократного превосходства одной стороны конфликта, а для этого требуется не менее 5 лет». И далее: «В ближайшие 5 лет не следует ожидать блицкрига». Контекст этих высказываний, очевидно, содержит скорее угрозу, чем простую констатацию факта, а именно: «Примерно через 5 лет Азербайджан будет неоднократно превосходить Армению и НКР и сможет победить в блицкриге. Сделайте вывод, армяне. Советую согласиться на уступки, пока не истекли эти 5 лет». Между тем, это мнение В. Казимирова заставляет усомниться в действенности будущих международных гарантий безопасности НКР вообще. Ведь если заинтересованные в стабильности региона страны-посредники не в состоянии контролировать процесс вооружения Азербайджана и помешать ему безнаказанно нарушить соглашение об ограничении обычных вооружений в Европе, то они не смогут сделать это также в том случае, если армянская сторона сейчас же и безоговорочно пойдет на всякие уступки. В таком случае не имеет никакого смысла продолжать переговоры и, тем более, что-то уступать. Не менее странно другое не столь давнее высказывание г-на Казимирова о том, что для президента Азербайджана подписать документ о независимости НКР равносильно «харакири». Смысл этого «аргумента» против признания независимости НКР сводится к следующему: «армяне, уступите, вы же сильные, а Ильхамчик слабый, он не может уступить». Ничего себе логика! При этом почему-то замалчивается вопрос: а что равносильно «харакири» для президента Армении? Этого вопроса избегает сама власть Армении, по-видимому, справедливо полагая, что для ответственной за будущее народа власти теоретическая возможность «харакири» не является оправданием малодушия в жизненно важных для страны вопросах. Между тем ни для кого не секрет, что в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта давление общественного мнения на власть именно в Армении сильнее, чем в Азербайджане, ибо побежденному легче объяснить необходимость в уступках (по сути, ему и объяснять-то нечего!), чем победителю. Это аксиома. Любой дипломат, утверждающий обратное, или говорящий о том, что в азербайджано-карабахском конфликте «нет победителей и побежденных», либо щадит чувства побежденных, либо лукавит. В карабахском вопросе внутреннее давление на президента Армении в значительной степени обусловлено фактором, о котором обычно забывают, наверное, потому, что он может проявить себя только в самый решающий момент. Это фактор армянской армии. Считают ли наши офицеры и солдаты, подобно г-ну Казимирову, «идеи освобожденных территорий» «бредовыми"» Как военный корреспондент, на протяжении последних 7 лет побывавший во многих военных частях наших ВС, множество раз вступавший в доверительные беседы со многими офицерами (как средних, так и высших руководящих звеньев) и солдатами, могу констатировать: 1. Ни разу не встречал ни одного офицера и ни одного солдата, которые даже теоретически были бы согласны на возвращение освобожденных территорий. 2. Несмотря на то, что решены далеко не все социально-бытовые проблемы офицерского состава, президент и министр обороны РА в армии имеют высокий личный авторитет и огромный ресурс доверия в карабахском вопросе, обусловленные не только и даже не столько их стилем работы с личным составом, сколько тем, что они сами являются азатамартиками и талантливыми организаторами национально-освободительной войны против азербайджанских захватчиков. 3. Любая уступка со стороны властей, противоречащая исторической справедливости и логике войны в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, многими офицерами будет восприниматься как предательство делу Спарапета и погибших боевых товарищей и нанесет серьезный урон авторитету власти. Последнее обстоятельство обусловлено следующим. Во-первых, костяком офицерского состава армянских ВС являются добровольцы-азатамартики, которые освобождали Арцах от азербайджанских захватчиков. Все они как один говорят: «Зачем же воевали, кровь проливали, товарищей теряли? Неужели для того, чтобы сейчас подарить наши исторические земли врагу?». Многие из этих офицеров молоды, до пенсии им служить еще 10-15 лет. С учетом их карьерного роста (повышения по службе) можно сказать, что влияние прошедших через горнило освободительной войны офицеров в армянской армии будет возрастать по крайней мере еще лет 10. Надо учитывать также то, что в течение двух лет службы в Национальной армии армянские юноши воспитываются на героических примерах освободительной войны в Арцахе, защищают родную землю, стоя в окопе, лицом к лицу с врагом, находящемся иногда на расстоянии меньше 100 м. Они готовы выполнить приказ, выражающий неизменную волю армянского народа: «ни шагу назад». Фактически, Национальная армия является мощной идеологической средой после перемирия, воспроизводящей от призыва к призыву идею освобождения исконно армянских земель от турецких и азербайджанских захватчиков. Такое положение дел сложилось исторически, и сегодня, при наличии по соседству вражеских государств Азербайджана и Турции, не имеет альтернативы. Во-вторых, военнослужащие Армянской Армии - это та часть нашего общества, которая не понаслышке знает о коварстве и бесчеловечности врага. Защищающие границу от врага-азербайджанца армянский солдат и офицер, наверное, лучше всех в нашем обществе понимают значение для безопасности армянского народа таких понятий, как «удобная огневая позиция», «буферная зона», «зона безопасности», «естественные (природные) границы государства». Они же являются самой «государственно мыслящей» частью армянского общества, которая ежеминутно и ежечасно защищает национальные интересы, подвергая опасности свою жизнь. Армянских офицеров угрозами войны не испугать: войну они видели и видят в условиях постоянно нарушающегося со стороны врага перемирия. Вывод однозначен: в карабахском вопросе мнением национальной армии-победителя пренебречь невозможно. «Скелет государства - это армия, а ее позвоночник - командиры. Государство стоит на них. Любите вы их или нет, оно стоит на них», - накануне своей трагической гибели сказал Спарапет, портрет или гипсовый бюст которого давно уже стали негласными атрибутами рабочих кабинетов руководящих офицеров армянской армии. Бесспорно, армия должна быть вне политики. Так оно и есть, во многом благодаря именно авторитету ее руководства. Но Национальная армия - это не янычарское войско, и принцип «армия вне политики» вовсе не означает, что военным безразличен исход решения общенациональных проблем, тем более - карабахской.