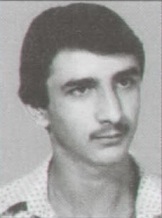-
Posts
9,105 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Events
Profiles
Forums
Gallery
Everything posted by Pandukht
-
Армен Айвазян СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН Почти век минул после Геноцида армян. Однако и сегодня последствия этого страшного удара ощущают Армения, армянский народ и каждый армянин. Реабилитация и оздоровление Армении и армянского народа потребуют еще много времени. Начертим картину потерь, жертв и последствий геноцида, воздействие которых ощущается по сегодняшний день и для армянского народа, и для всей международной политической системы. Все это необходимо оценить в аспекте стратегических критериев. 1. Потеря жизненного пространства До 1915 года территория обитания армянского этноса на протяжении тысячелетий охватывала все Армянское Нагорье, т. е. всю историческую Армению. В геостратегичес-ком аспекте эта обширная территория более чем в 350 тысяч кв. км напоминает огромную крепость с целым рядом «укрепрайонов», каждый из которых самостоятельно может обеспечить свою защиту. Захват иноземными захватчиками одного или нескольких из этих областей еще не означал захват всей Армении, поскольку сосредоточенные в других местах армянские силы имели возможность для перегруппировки, и затем, в удобный момент перейдя в контрнаступление, снова становились хозяевами захваченной территории. Именно так и было вплоть до XIII-XIV веков. Ситуация кардинально изменилась в XV-XIX веках, когда армянская государственность надолго была упразднена, а его вооруженные силы были в основном уничтожены (мелкие военные формирования сумели сохраниться лишь в некоторых горных областях). В эти тяжелые времена основным залогом существования страны Армения стал демографический фактор – сохранение армянами этнического большинства на ее территории. Когда в результате татаро-монгольских и туркменских походов или турецко-персидских войн какая-либо часть Армении разорялась, иногда становилась безлюдной, через короткое время армяне из других регионов Армении вновь заселяли и осваивали родную землю, свято веря, что отечество рано или поздно обретет свободу, независимость, экономическую и военную мощь. Области и районы Армении являлись не просто территорией, а пятитысячелетним жизненным пространством и Родиной. Наихудшим последствием геноцида является то, что армян оторвали и удалили от их жизненного пространства. В стратегическом плане потеря среды обитания лишила армян их былой возможности иметь несколько оборонительных рубежей. Осталась маленькая Армения – единственная одинокая крепость. Она более не имеет возможности для отступления или перегруппировки сил. Армения более не имеет права ни на одно поражение. В противном случае, это станет концом Армении и армянской нации. 2. Культурные потери Неисчислимы наши культурные потери. Это не только отдельные церкви, различные неповторимые архитектурные памятники и сооружения, но и созданные в Армении на протяжении тысячилетий города, деревни, крепости, десятки тысяч рукописей, в которых были обобщены гений и знания армянского народа. Приведем один только факт: сегодня во всем мире сохранилось столько армянских рукописей, сколько было уничтожено во время геноцида; были уничтожены и канули в небытие бесценные сведения и тайны, лишив нас духовного наследия предков, оторвав нас от их мысли и духа. 3. Материальные потери Конфискация и грабеж всего имущества и недвижимости западных армян, подвергшихся геноциду, поставил их в положение, при котором они, вместо созидательной работы в пользу укрепления и обогащения коллективной национальной жизни, вынуждены были на чужбине тяжелым трудом обеспечивать физическое существование своих семей. 4. Психологическая травма В психологическом плане потеря жизненного пространства лишила армян ежедневного общения с природными, а также рукотворными национальными символами, тем самым уничтожив саму возможность естественного духовного развития армянской нации. Одновременно, геноцид породил во многих армянах комплексы неполноценности – неверие в будущее нации, в некоторых случаях даже отрицание национальных интересов и ценностей, преклонение перед всем иностранным. 5. Уничтожение народа - руководства, организованных общин и национальных структур Во время Геноцида армян были уничтожены не только огромные людские массы, но и народ, который был объединен и организован вокруг своих традиционных структур. Уничтожению подверглись общины, церкви, школы, многочисленные и разнообразные армянские организации, наконец – руководство армянской нации, включая политическую, интеллектуальную и культурную элиты. После геноцида, рассыпавшись по всему миру, всего лишь малая часть армянской диаспоры сумела вновь объединиться вокруг воссозданных национальных структур. Остальная же часть армян, нашедших убежище на чужбине, была вовлечена в чужеродную среду и постепенно ассимилировалась. Уничтожение вековой организационной инфраструктуры армян явилось одним из тех важных объективных факторов, который не позволил оказавшимся на чужбине осколкам армянства создать единую, объединяющую всю диаспору организацию. 6. Людские потери (человеческие потери армян в ХХ веке) Для понимания проблем, стоящих сегодня перед армянством, необходимо ясно представлять себе ужасающие итоги не только геноцида, но и трагедий, преследующих наш народ в течении всего последнего столетия. Людские потери во время этих катастроф повлияли не только на численность нашей нации, но и на ее совокупное качество. Проведенный в четыре этапа Геноцид армян, с 1894 по 1922 гг., уничтожив армянскую цивилизацию на большей части ее автохтонной территории, отнял жизни более 2 миллионов человек (около 300 тысяч армян было уничтожено в 1894-96 гг., 1,5 миллиона в 1915-16 гг., около 300 тысяч в 1918-1922 гг.). Провозглашенная в 1920-1921 гг. в центральной части Восточной Армении маленькая Советская Армения, за семидесятилетний период относительного мира и стабильного развития, сумела обеспечить серьезный прогресс в области экономики и культуры. Но в течение этого же времени армяне понесли огромные человеческие потери. Так, в 1920-1921 гг. был репрессирован почти весь армянский офицерский корпус, закаленный в период независимости в национальном духе. В 1930-е гг. жертвой большевистких репрессий стал цвет армянской интеллигенции, наряду с тысячами рядовых граждан. В 1941-1945 гг. в Великой Отечественной войне приняли участие около 600 тысяч армян, из которых около 300 тысяч погибли. Для того, чтобы представить насколько эта цифра ужасна для малочисленного армянского народа, достаточно отметить, что во время Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки и Великобритания потеряли почти столько же, соответственно – 291.557 и 357.116 погибших. Организованная сталинским режимом в 1949 году депортация армян из Армении в Алтайский край стала причиной для тысяч новых потерь. Беспрецедентно благоприятным периодом стабильности и экономического роста был период с 1954 по 1988 годы. Однако, начиная с 1988 г., существование армянской нации на этом последнем осколке Армении вновь было поставлено под вопрос: Спитакское землетрясение унесло жизни около 30 тысяч человек и полностью разрушило почти треть страны, включая по численности второй и третий города Армении – Гюмри и Ванадзор. В последующей Карабахской войне погибло около 7 тысяч армян. Сопровождалось все это эмиграцией, не прекращающейся и по сей день. Из Армении уже выехало более миллиона человек. К сожалению, за геноцидом последовал долговременный период, в течение которого армянам просто запретили в открытую говорить о своих жертвах и потерях, думать о путях выздоровления. Следует отметить, что Советская Армения не была формой полноценной армянской государственностии и не могла (да и не предполагала) преодолеть последствия геноцида, включая самое главное – реституцию исконно армянскиx территорий или хотя бы их части (будь то в Восточной или Западной Армении), что только и могло обеспечить безопасное развитие армянской нации в случае возможного распада Советской империи. Не был, да и не мог быть решен вопрос и о другом изнуряющем последствии геноцида – постоянно проходящем в диаспоре процессе ассимиляции – «белом геноциде». Возможность прибегнуть к организованной борьбе во имя восстановления национальных прав у армян появилась довольно поздно, только начиная с 1960-х годов. Подобная потеря времени обошлась дорого - за это время сотни тысяч армян стали жертвой «белого геноцида», а враг еще более укрепился на завоеванных позициях. Понятно, что подобные территориальные, духовные, культурные, материальные и людские потери должны были повлиять и на общий потенциал нации. Однако после всего пережитого, армянский народ нашел в себе силу для победы в навязанной ему карабахской войне 1991-1994 гг. и выстоял минимально необходимую территорию, обеспечивающую безопасность своей воссозданной государственности в лице Республики Армения и Нагорно-Карабхской Республики. * * * Однако, Геноцид армян имел катастрофические последствия не только для армянского народа, но и для всей международной политической системы, в особенности в Европе и на Ближнем Востоке. Убиение целого народа и безнаказанность за содеянное воодушевили самые реакцонные силы, послужили им примером для подрaжания. Учитывая последствия Геноцида, заключенный в августе 1920 года Севрский договор предусматривал существование независимой Армении на такой территории, которая была бы способна обеспечить ее военную и экологическую безопасность. Но игнорирование Севрского договора и его замена Лозанскими соглашениями в 1923 г. прямым образом способствовали возникновению фашизма в 1920-30-х годах и уничтожению масс по этническому признаку уже в сердце самой Европы. Во-первых, безнаказанность Турции за Геноцид армян продемонстрировала, что решение политических задач путем истребления миллионов мирных людей – приемлемая практика. Забвение Армянского вопроса в Лозанне было мощной пропагандой безнравственности в международной политике, которая очень скоро отомстила ее авторам – европейским государствам и России. И преступный фюрер Третьего Рейха А. Гитлер, и великий палач народов И. Сталин были детально осведомлены о ходе, методах и результатах Геноцида армян. Они извлекли для себя соответствующие «уроки», которые впоследствии, всего через полтора-два десятилетия, применили в своих геноцидальных проектах. Об этом, в частности, наглядно свидельствует брошенный А. Гитлером в 1939 г. риторический вопрос – «в конце концов, кто сегодня помнит уничтожение армян». Во-вторых, есть все основания утверждать, что одним из последствий Геноцида армян стало создание на периферии Европы первого фашистского государства –Республики Турция, которая имела все основные признаки, присущие фашизму и нацизму возникшим позднее в Италии, Германии и некоторых других государствах Европы. Среди этих признаков отметим тоталитаризм, крайний шовинизм, массовые репрессии, вплоть до депортации и уничтожения, по отношению к национальным меньшинствам (в Турции подверглись геноциду не только армяне, но и греки, асоры, курды, все выступления которых за свои национальные права подавлялись в Турции самым жестоким образом в 1925, 1927, 1937, а в 1980-90-х гг. депортации подверглись более двух тысяч курдских деревень), установление полного контроля над политической мыслью, абсолютное подчинение личности государству, культ личности (культ Ататюрка до сих пор остается в силе), милитаризация всех областей жизнедятельности, агрессия (Турция прибегла к военной агресии против Сирии, Кипра, Ирака, формой агрессии является также политика Турции против Армении сразу же после распада Советского Союза, включающая наземную блокаду, отрицание Геноцида армян, отказ от установления дипотношений, всемирная и разносторонняя поддержка и помощь Азербайджану в подготовке к новой военной авантюре против Армении). Нас не должно вводить в заблуждение то, что возникновение фашизма в Турции не получило адекватной оценки ни в советской, ни в западной историографии. Это тоже имеет свое объяснение: в СССР было просто невозможно назвать Ататюрка фашистом, поскольку «вождь мирового пролетариата» В. Ленин заключил с ним договор о братстве. А на Западе подобная оценка не давалась, так как Турция всегда считалось барьером против России и ключевым стратегическим союзником, что в 1952 г. было оформлено ее вступлением в НАТО. Попытки забвения и отрицания Геноцида армян по сиюминутным политическим соображениям, попытки реабилитации Турции без понесения ею должной ответственности, а именно – без соответствующих территориальных и иных компенсаций и реституций в пользу Армении, все подобные попытки чреваты порождением и повторением новых геноцидов. В этом и заключается основной вывод, который мировое сообщество всё еще должно сделать. 17 декабря 2008 г.
-
В Джавахке запретили открывать памятник армянскому художнику Художественный руководитель ансамбля песни и пляски «Карин» Гагик Гиносян сегодня на встрече с журналистами сообщил, что им не удалось открыть памятник художнику Вардгесу Суренянцу в столтце Самцхе-Джавахка Ахалцхе, так как грузинская сторона воспрепятствовала этому. После долгих стараний армянской стороны, которая арендовала зал и организовала собрание до открытия памятника, по словам Гиносяна, им сказали, что нет надобности в торжественном мероприятии, достаточно просто установить мемориал. Худрук отметил, что в связи с днем рождения художника на мероприятие собрался и ансамбль «Карин», однако ему пришлось вернуться, узнав, что открытие отменяется. Гиносян обеспокоен тем фактом, что в армянонаселенном Ахалцхе, который стал родиной многих известных армян, создалась ситуация, когда открыть памятник стало проблемой.
-
Арис Казинян ГЕЙДАР АЛИЕВ: ГЕНЕРАЛ НКВД И «ОТЕЦ НАЦИИ» Сотканный из, казалось бы, несовместимых слоев исторических напластований, он воистину являлся человеком-эпохой, уникальным олицетворением всего того, что XX век успел сосредоточить в созданном им же демографическом понятии – азербайджанец. Почти вековой сфинкс, который, несмотря на все хронологические перипетии, охранял и, как ему представлялось, еще долго должен был охранять созданную им же пирамиду власти. Как и всякий памятник эпохи, он, право же, застрахован самой историей. Впрочем, профессиональный чекист Гейдар Алиев всегда отличался особым умением вовремя застраховаться, благодаря чему ему и удавалось каждый раз выходить сухим из всепоглощающего водоворота революционных перемен. Более того, именно он и стал «отцом азербайджанской нации»… Между тем, «внешняя оболочка» жизни этого деятеля весьма походит на эволюцию карьерного роста вполне заурядного, пусть даже очень удачливого советского функционера. Она действительно не выдает сколь-нибудь значительных деяний и достоинств своего героя, обрамляя их скупыми биографическими (чаще – автобиографическими) строчками... В данном материале мы постараемся рассмотреть некоторые вопросы жизни и деятельности Гейдара Алиева, которые действительно скрываются за внешней оболочкой его биографии. Практически каждая судьбоносная дата карьерного роста азербайджанского лидера базируется на особом субстрате, который преднамеренно игнорируется. Ибо в противном случае, возникнет больше вопросов, чем ответов, что совершенно недопустимо с точки зрения официальной бакинской историографии. Ведь Гейдар Алиев – не Вопрос, а именно Ответ азербайджанской истории. *** Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 г. в Нахиджеване (в советско-татарской транскрипции – Нахичевань). К этому периоду этот край исторической Армении уже второй год, как находился под юрисдикцией Советского Азербайджана, причем бакинские власти принимали весьма радикальные меры в отношении автохтонного армянского населения. В частности, в 1926 г. руководство Азербайджана, несмотря даже на факт существования ЗСФСР, отказало армянским беженцам из Нахиджевана в просьбе возвратиться в родные очаги, мотивируя отказ тем, что «Нахичеваньская АССР малоземельна». В итоге эта часть Армении был тюркизирована, и армянский этнический элемент почти перестал там существовать. Впрочем, официальная биография Алиева на сей счет передает иную информацию: «Зангезурский уезд – это особая тема и особая боль азербайджанцев. Именно в Нахичевани нашли пристанище многие азербайджанцы, бежавшие от ужасов и трагедий, постигших мирное население во время похода в Зангезур армянских банд. Однажды здесь, на берегу реки Алинджа, что у высокой горы, азербайджанцы столкнулись с особой тактикой уничтожения армянскими боевиками жителей азербайджанских сел, когда, уходя, боевики возвращались вновь. То утро в Джомардлу началось трагически. Казалось бы, ничто не может нарушить покоя в этом райском уголке природы, в этом прекрасном живописном селе, расположенном на полпути к вершине. Однако выстрелы, ранним утром гулким эхом отдающиеся в горах, внесли столько ужаса в души женщин и детей, что решение было однозначным – бежать. Именно так начался исход азербайджанцев из Зангезура в Нахичевань». Страницы официальной биографии Гейдара Алиева, которые сегодня преподносятся уже как нечто и вовсе легендарное, неразрывно связаны с «описываемыми» событиями. И далее: «Нахичевань того периода была уникальным городом. С одной стороны, Нахичевань была, безусловно, типичным азербайджанским городом, расположенным на перекрестке древних караванных дорог и имеющим древние просветительские традиции, восходящие к обычаям средневековых городов. С другой стороны, Нахичевань и ее обитатели помнили о времени, когда она была столицей государства атабеков Ильдеизидов, и гордились своим историческим прошлым, культивируя в своих детях те традиции гражданственности, без которых не может быть и государственности». Помимо официальной версии «явления Гейдара народу», существует так и не одобренная бакинскими властями «внутриполитическая гипотеза», которая в ранге вполне устоявшейся догмы тиражировалась всегда, в том числе и со стороны самих татар: будущий «отец народа» родился не в Нахиджеване в 1923 г., а в 1919 г. в упомянутой выше деревушке Джомардлу, что в Сисианском районе Армении. Справедливости ради следует заметить, что еще лет 20 назад в окрестных сисианских селениях Ашотаван, Ацаван и Тасик жили люди, утверждавшие, что были лично знакомы с маленьким Гейдаром, который покинул Джомардлу с единственной целью – получить образование в Нахиджеване, где он жил в доме своего родственника Наджафали. Так оно или нет – судить не нам, однако достоин внимания следующий факт: Джомардлу, являясь, мягко говоря, отнюдь не самым крупным населенным пунктом Советской Армении, был вместе с тем единственным азербайджанонаселенным селом, откуда уже в зрелые советские годы еженедельно выезжал комфортабельный автобус, связывающий эту деревушку с Баку. Вернемся, однако, к официальной версии биографии Гейдара: «Долгий, мучительный, страшный путь через бездорожье, дорога, выбираемая по наитию, руководствуясь лишь инстинктом выживания. Старшие братья Алиева на всю жизнь запомнят эти горные тропы и ранящие ноги мелкие и крупные камни на этих горных зангезурских тропинках, эти травы, деревья и кустарники, утолявшие их голод, дававшие им тень и приют. Нахичевань была воспринята ими как земля обетованная. Именно здесь, в Нахичевани, Алирза из селения Джомардлу и Иззет-ханум из селения Сисиан обрели надежду на лучшую жизнь. Жилье удалось снять. И здесь в доме Наджафали 10 мая 1923 г. появился на свет Гейдар Алиев. Позже удалось купить домик с небольшим двориком. Жаль, что история не донесла до нас этого дома. Во время массового строительства он был снесен, и на его месте возведено типовое здание. Отец Алирза работал на железной дороге, мать – Иззет-ханум, занималась воспитанием детей, которых в семье было восемь: пять мальчиков и три девочки. Дети сполна смогли реализовать свой внутренний потенциал в различных областях, и каждый человек, обращающийся к истории этой семьи, желает постичь корни этого «феномена Алиевых»: каким образом в глухой провинции, на самой окраине бывшей империи могла появиться семья, члены которой представляли огромную страну на научных конференциях и политических форумах». *** Гейдар Алиев был четвертым ребенком в семье. Старший брат Гасан, который в 50-е годы в качестве секретаря ЦК руководил развитием сельского хозяйства АзССР, а с конца 80-х стал основателем экологического движения в Азербайджане, довольно часто рассказывал о высокогорном Сисианском перевале, который он и его семья «вынуждены были преодолевать, чтобы, минуя Бичалах и Шахбуз, вдоль русла Восточного Арпачая наконец-таки добраться до Нахичевани». Второй брат Гусейн неоднократно признавался, что с раннего детства мечтал запечатлеть на холсте «чарующие пейзажи Родины – Зангезура». Впрочем, любил рисовать и сам Гейдар: «Я действительно с юношеских лет любил рисовать, – признавался он в 2001 г. – Поскольку художественного института в Баку не было, я после школы выбрал родственную специальность – поступил на архитектурный факультет. В Нахичевани, где я родился, много древних памятников X-XII веков. Я рисовал их и так приобщился к архитектуре. Думаю, если бы закончил учебу, стал бы неплохим архитектором. Однако судьба распорядилась по-другому, и я стал, надеюсь, неплохим политиком». По окончании в 1939 г. Нахичеванского педагогического техникума Гейдар учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия). Начавшаяся война не позволила 18-летнему студенту завершить образование, однако создала предпосылки для его становления именно как будущего архитектора азербайджанской политики. По крайней мере, с 1941 г. он работал заведующим отделом в НКВД Нахичеванской АССР и Совете народных комиссаров Нахичеванской АССР, а в 1944 г. был направлен на работу в органы государственной безопасности. Впрочем, следует отметить, что, когда началась война, студент Алиев, как и все, кто родился в 1923-м, должен был отправиться на фронт. Но Гейдар – очевидно, не без рекомендации своего всесильного дяди Гасана – остался в родном городке и при должности заведующего отделом сельского хозяйства Совнаркома Нахичеванской АССР (родной брат его отца в 1930-40 гг. был секретарем компартии Азербайджана, и о нем тогда говорили, что «он первый среди курдов защитил кандидатскую диссертацию»). Много лет спустя, когда Алиев уже работал в Москве, в ЦК КПСС поступило письмо, в котором сообщалось, что Алиев в 1941 г. представил в военкомат «липовую» справку о туберкулезе. Тогдашний председатель Комитета партийного контроля Борис Пуго отправил в Азербайджан комиссию для проверки вопиющего факта биографии члена Политбюро. Никаких справок, конечно, комиссия не обнаружила. Но странно, что не обнаружились и другие документы. Например, в метрической книге нахичеванской мечети не оказалось записи о рождении младенца Гейдара! И свидетельства о рождении тоже не нашлось. Зато в педтехникуме сохранилось вступительное заявление, в котором Гейдар собственноручно написал, что родился в 1922г. Что же касается автора, подписавшего письмо в ЦК, ему пришлось покинуть Азербайджан и скрываться в Ленинграде у тогдашнего первого секретаря обкома Романова. История с уклонением Алиева от службы в армии всплыла в 1991 г. и была опубликована в азербайджанской «Сельской газете». Так или иначе, но в 1944 г. молодого Гейдара взяли на работу в органы госбезопасности. Разумеется, не без рекомендации все того же дяди Гасана. *** Следует отметить, что среда, в которой протекало становление будущего генерала КГБ, обусловила особый вектор его деятельности, базирующийся, в том числе, на традиции урезывания армянских земель. На этой теме стоит остановиться подробнее. В частности, в 1923 г. от Карабаха, каким он понимался даже при принятии известного постановления Кавбюро от 5 июля 1921 г., были отчуждены и административно самоопределены Лачинский, Кельбаджарский, Кубатлинский, Джебраильский, Шаумянский, Ханларский, Гетабекский районы и другие территории, и лишь на основе оставшейся площади была создана Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). Часть отчужденных территорий была принесена в жертву виртуального образования «Красный Курдистан». Осуществленные в 1921-1923 гг. махинации по передаче «откровенно социалистическому Азербайджану» неоднозначно «советизированных» армянских земель нашли свое продолжение и в последующем. В 1927 г. десять армянских населенных пунктов Гетабекского района были переданы Шамхорскому району. Примечательно, что все это имело место в период существования ЗСФСР, когда казалось, что для подобных переделов не должно быть особого повода. Однако как раз по постановлению Президиума ЗСФСР от 18 февраля 1929 г. Азербайджану была передана территория площадью 4739 кв. км, до этого принадлежавшая АрмССР (площадь которой составляла 34539 кв. км) . Мы обращаем внимание на эти «детали», так как именно в такой среде и протекало становление будущего «отца азербайджанской нации». Очевидно, ему было известно содержание письма лидера армянских коммунистов Григория Арутюнова, адресованное в 1945 г. Иосифу Сталину: «ЦК и Совнарком Армении вносит на рассмотрение ЦК ВКП(б) и Советского правительства вопрос о включении в состав Армянской ССР Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР в качестве Карабахской области». К началу 60-х Гейдар Алиев уже считался специалистом по этой теме и прекрасно разбирался в сути вопроса. Его карьерный рост в системе НКВД-КГБ эволюционировал в течение 20 лет; в 1964 г. он был назначен на пост заместителя председателя, а уже в 1967 г. – председателя КГБ при Совмине Азербайджанской ССР. Но какие именно события предвосхитили столь резкий скачок в карьере чекиста- Об этом также стоит поговорить поподробнее... В 1966 г. на столе заместителя главного азербайджанского гэбэшника лежала копия письма в ЦК КПСС и Совет Министров СССР от первого секретаря ЦК Компартии Армении А. Кочиняна. Оно было написано 30 сентября того же года и имело следующее содержание: «Передача Нагорного Карабаха Армении покончит с тем неестественным положением, когда малочисленный армянский народ в условиях Советского Союза имеет две государственности – одна союзная республика и рядом – автономная национальная область, но уже в составе другой союзной республики. На основе вышеизложенного... считаем крайне необходимым обсуждение вопросов возвращения Армении Нахиджевана и Нагорного Карабаха». Далее события развивались в ускоренном режиме. В 1967 г. лидер армянских коммунистов Антон Кочинян обратился к первому секретарю Азербайджанской ССР Ахундову с просьбой провести встречу по Карабахскому вопросу. Данное обращение вытекало из специального постановления секретариата ЦК КПСС о создании армянской и азербайджанской республиканских комиссий для совместной подготовки проекта решения проблемы НКАО. Само постановление, в свою очередь, стало своеобразным ответом на процитированное выше известное обращение Кочиняна от 30 сентября 1966 г. в адрес ЦК КПСС, Совета министров СССР и лично Леонида Брежнева. Для руководителя советского Азербайджана подобная просьба не стала неожиданностью. Ахундов принял предложение Кочиняна, однако продлил сроки предполагаемой встречи, ссылаясь на отпуск, который намеревался провести в Румынии. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что такой ответ был специальной разработкой и являлся частью заранее продуманного плана: именно в Румынии (Констанце) он провел встречу с послом Турции в этой стране и проинформировал о последних событиях. Что произошло дальше, можем догадываться исходя из фактов: именно в период пребывания Ахундова в Румынии первый секретарь партийного обкома Татарской АССР вдруг обратился в Москву с предложением объединить Татарию и Башкирию и создать Татаро-Башкирскую советскую республику в составе СССР. На вопрос председателя КГБ СССР Ю. Андропова о причинах подобного предложения руководитель Татарии ответил, что «тюркские народы желают объединиться так же, как армяне Нагорного Карабаха с Арменией». Наличие непосредственной связи между всеми этими событиями не подлежит сомнению. Очевидно, что Кремль не мог позволить себе очередной перекройки административных границ, ибо такой сценарий спровоцировал бы масштабную цепную реакцию и всплеск сепаратистских настроений. Собственно, на подобную реакцию Москвы и был рассчитан весь план. Обращение Антона Кочиняна в некоторой степени следует рассматривать в качестве предтечи событий 1988 г.: подобно тому, как известное решение внеочередной сессии Совета народных депутатов НКАО от 20 февраля имело своим следствием резню в Сумгаите, так и постановка того же вопроса в 1967 г. послужила поводом для убийства восьмилетнего Нельсона Мовсесяна. Директор сельской школы села Куропаткино Мартунинского района Аршад Мамедов и его родственники, А. Х. Мамедов и З. С. Мамедов, организовали убийство армянского школьника с особой жестокостью – выкололи глаза и вбили гвозди в голову; позже Аршад Мамедов с почестями был похоронен в Баку, на аллее славы азербайджанского народа. На его похоронах присутствовал лично председатель Совета министров Азербайджана Э. Н. Алиханов, а на надгробном памятнике Мамедова была изображена книга – как символ просвещения азербайджанского учителя. Эти события долгое время держали в напряжении центральное руководство страны. Именно в 1967 г. в Нагорный Карабах и был командирован ответственный работник КГБ Э. Норманн, который, ознакомившись с обстановкой на месте, доложил Ю. Андропову о необходимости назначения нового руководителя органов безопасности Азербайджанской ССР, причем непременно из центра (некое подобие Особого комитета А. Вольского). Однако против этого решительно выступили первый секретарь Ахундов, а также первый заместитель Андропова С. Цвигун (бывший глава КГБ Азербайджана); именно в 1967 г. на эту должность и был выдвинут любимчик Ахундова Гейдар Алиев. Проблему решили замять и даже более того: «за выдающиеся успехи в социалистическом строительстве» Нахичеванская АССР и НКАО были награждены орденами Ленина. *** Именно в 1967 г. на проходившей в Баку IV конференции народов Азии и Африки, Гейдар Алиев впервые публично признался в своей любви к руководителю советского государства: «Доклад Леонида Ильича Брежнева – выдающийся вклад в теорию марксизма-ленинизма, в практику Коммунистической партии, он являет собой истинно ленинский образец творческого подхода к основным задачам. Выдающаяся роль в борьбе за мир и безопасность народов принадлежит лидеру нашей партии и Советского государства Леониду Ильичу Брежневу. Сын рабочего и сам рабочий, он всю свою кипучую жизнь посвятил трудовому человеку. Верный продолжатель дела великого Ленина, человек, обладающий огромным талантом и душой, Леонид Ильич Брежнев достоин безграничной любви. Советский народ, все наши друзья за пределами нашей страны c огромным удовлетворением восприняли присвоение Леониду Ильичу Брежневу звания маршала Советского Союза. Позвольте от имени конференции поздравить Леонида Ильича c присвоением ему высшего воинского звания страны и пожелать ему огромных успехов». Уже через два года Алиев был назначен первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР. «1969 г. был для меня знаменательным. Я занимал пост председателя Комитета госбезопасности Азербайджана, получил звание генерала и был вполне доволен. Вместе с тем, в Азербайджане тогда сложилось очень сложное экономическое положение, республику в Москве все время приводили в качестве отрицательного примера. Чувствовалось, что дело идет к смене руководства. Учитывая специфику моей работы, я, конечно, знал, какие кандидатуры рассматривались и отклонялись. Но и мысли не допускал, что моя тоже может оказаться в их числе. И тут вдруг мне позвонил Андропов. Позвонил и сказал, чтоб я приехал, надо обсудить некоторые вопросы, которые я же и поднимал. Утром на следующий день я уже был в его кабинете. Раскрыл папку, стал докладывать. А Юрий Владимирович говорит: «Давай это в сторону, потом обсудим. Мы здесь обменялись мнениями и решили, что твоя кандидатура более всего подходит на должность первого секретаря». Я удивился, стал отказываться – не готов, не справлюсь. И эти же доводы повторил, когда со мной поочередно беседовали секретари ЦК, один, второй, третий. В конце концов Андропов сказал: «Езжай в Баку, думай, мы тебя еще раз вызовем». И сделал это уже через несколько дней. «Знаю твое настроение, – говорит, – но мы в политбюро еще раз подумали и другой кандидатуры не видим. Завтра тебя примет генеральный секретарь Брежнев. Он сделает тебе предложение, и ты должен дать согласие». Вот так я и стал первым секретарем». *** Став первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, Гейдар поначалу проявил необыкновенное рвение. В ту пору в республике обсуждали «хлопковый вопрос»: не сократить ли посевные площади очень трудоемкой, но малопродуктивной в этих краях культуры? В Москве такие разговоры вызывали неудовольствие: стране нужно было все больше и больше «белого золота». Алиев знал, чего от него ждут. Уже на первом своем пленуме в августе он заявил: «С антихлопковыми настроениями в республике покончено». Алиевский хлопок повторял историю хрущевской кукурузы – его насаждали всюду, сокращая посевы других культур и уничтожая пастбища. В первый же год резко сократилось поголовье скота. Азербайджанские крестьяне, оставшиеся без земли и работы, подались на промысел в города. Но Алиев умел чувствовать настроения и обладал даром говорить с людьми. Он проехал по пострадавшим от его «волюнтаризма» районам. И те, кто недавно ругал его в чайханах, принялись восхвалять. В результате незамысловатых арифметических упражнений Алиев доложил в Москву, что республика собрала два миллиона тонн хлопка, хотя на самом деле более миллиона ну никак не могла даже в лучший урожайный год. Алиеву мягко указали на неправдоподобную цифру. Он отреагировал немедленно – шесть секретарей хлопкосеющих районов отправились в тюрьму. За приписки. Со временем Гейдар научился управляться и с московской бюрократией. Вторыми секретарями у него были русские. Они часто менялись: получить эту должность в Баку для партийного чиновника в ту пору было равнозначно ссылке. Один из них, например, страдал заболеванием сердца, ему кто-то сказал, что при его болезни полезен инжир. Собственно, из-за этого фрукта он и согласился поехать в Баку. Алиев обеспечивал ему инжир в неограниченном количестве. Другой собирал старинные монеты – и этому Алиев постоянно помогал пополнять коллекцию. Ни один руководитель не ездил из Баку в Москву без подарков. Когда, например, президент Азербайджанской академии наук Ахундов ехал в столицу, к поезду прицепляли вагон, набитый рыбой и икрой. В Баку каждого высокого гостя тоже одаривали весьма щедро. Брежнев, конечно же, был осведомлен o фальсификациях Алиева в Азербайджане, но для него это были второстепенные задачи, a главным была «любовь» к алиевским дарам. Апофеозом алиевского подхалимства стала его речь на республиканском собрании партактива в Баку, посвященном выходу в свет книги Брежнева «Целина». Алиев начал цитатой из книги: «Будет хлеб – будут и песни», – и добавил: «В нашей стране, как и на всех меридианах и широтах планеты, люди c восхищением произносят эти слова, в которых заключено глубокое уважение к человеку труда. Книга «Целина» является событием, значительно превосходящим общее политическое значение в нашей партии, стране, советском народе, в жизни всего мира». *** Следует полагать, что инициированная азербайджанскими властями форма нивелирования имеющихся противоречий оказалась вполне эффективной. Во всяком случае, по мере дальнейшего возрастания армяно-азербайджанской напряженности соответствующие поощрения лились как из рога изобилия: в 1972 г. орденом Дружбы народов была награждена Нахичеванская АССР, а несколько позже той же «чести» удостоилась и НКАО. В 1974 г. Нахичеванская АССР стала двойным орденоносцем – получила еще и орден Октябрьской революции. Примечательная деталь: ни в одном из регионов СССР ни одна автономия не удостаивалась подобных регалий за столь короткий промежуток времени. Надо ли напоминать, что в этот период Гейдар Алиев уже был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Самое время поговорить о советских автономиях. Национальная политика, проводимая советским руководством по отношению к населяющим империю народам и малым этническим образованиям, помимо всего прочего, была юридически воплощена в сложившийся со временем принцип политико-административного деления Союза. Официальное наименование каждой из составляющих СССР автономий, причем вне зависимости от занимаемой иерархической ступени (автономный округ, автономная область, автономная республика, союзная республика), включало в себя и этноним. Это называлось «железным правилом национальной демократии», которое имело обязательное хождение по всей территории страны. Исключение составляли лишь два района с крайне пестрым этническим составом, где практически нельзя было выделить одну, отдельно взятую паспортную национальность, – Дагестанская АССР в составе РСФСР (аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины, табасараны, рутульцы, кумыки, кубачинцы и др.) и Горно-Бадахшанская автономная область в Таджикистане (шугнанцы, рушанцы, бартангцы, ваханцы, шикашимцы, язгулемцы, ягнобцы и др.). Во всех остальных случаях (СССР насчитывал 40 различных автономий) «железное правило» действовало беспрекословно. Азербайджанская ССР была единственной из 15 союзных республик, логика становления которой не предусматривала применения «железного правила народной демократии». В частности, наименования переданных ей автономий – «Нахичеванская АССР» и «Нагорно-Карабахская АО» – не несли в себе этнонима: антропология и демография не знают лиц нахиджеванской и карабахской национальностей (примечательно, что к моменту карабахского конфликта некоторые представители кремлевской верхушки, прекрасно осведомленные относительно принципов политико-административного деления национальных автономий СССР, но не имевшие ни малейшего представления о специфике Азербайджана, на полном серьезе полагали обратное, не упуская случая заклеймить «этих карабахцев»). В этом аспекте вновь следует отметить и исключительную роль Гейдара Алиева. *** В сентябре 1978 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посетил Баку. Это было его уже вторым (после 1970 г.) посещением Апшеронской бухты (за два месяца до своей кончины, в ноябре 1982 г., генсек успел-таки в последний раз погостить в столице социалистического Азербайджана). Особое внимание советская пресса уделила трогательной встрече, долгим проводам и, в некоторых случаях, тостам: проводы Брежнева, по сути, являли собой настоящие «лукулловы празднества» в постановке лидера азербайджанских коммунистов Гейдара Алиева. Некоторые лаконизмы из сумбура застольных речей (типа «широко шагает Азербайджан») впоследствии обрели «дедаловы крылья» и стали вполне законченными афоризмами. Но был среди тостов один – явно выпадающий из общего контекста взаимных хвалебных од и реляций, – про который потом уже никто и никогда не вспоминал. Или, быть может, не хотел вспоминать. Генсек начал свою речь со слова «но...». А дальше уже и вовсе по легенде: «Но наряду с неоспоримыми достижениями вы должны помнить, что являетесь преемниками традиций интернационального Баку и делать все необходимое в деле дальнейшего упрочения братства народов». Продекламированный в сентябре 1978 г., этот тост Леонида Ильича заслуживает особого внимания. Тост этот имеет следующую «историческую подоплеку». 23 ноября 1977 г. в протоколе заседания президиума Совета министров СССР читаем: «Вследствие ряда исторических обстоятельств несколько десятилетий назад Нагорный Карабах искусственно был присоединен к Азербайджану. При этом не были учтены историческое прошлое области, ее национальный состав, желание народа и экономические интересы. Прошли десятилетия, и вопрос о Карабахе продолжает склоняться, вызывать беспокойство и моменты недоброжелательности между двумя соседними народами, связанными вековой дружбой. Надо присоединить Нагорный Карабах («Арцах» – по-армянски) к Армянской ССР. Тогда все станет на свои законные места» (Письма из АрмССР, Груз ССР, НахАССР, НКАО. Предложения и замечания трудящихся). Очевидно, что письмо подобного содержания, причем отправленное в столь высокую по значению инстанцию, не могло родиться без ведома и одобрения армянских властей. На то были свои основания: через год – в 1978 г. – Советская Армения должна была отмечать 150-летие вхождения части восточного сектора исторической Родины в состав России и питала определенные надежды в связи с юбилейной датой и приездом руководителя советского государства. Однако на октябрьские торжества Леонид Брежнев так и не приехал. Месяцем раньше – в сентябре 1978 г. – генсека к себе заманил (другого слова не подберешь) все тот же Гейдар. Злые языки шептали, что первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана щедро одаривает своего шефа золотом и бриллиантами. Долгие проводы, «лукулловы празднества», застольные речи – все это сентябрь 1978 г. Видимо, именно тогда опьяненный сказочным приемом и находящийся уже в первой стадии болезни Леонид Брежнев дал слово никогда больше не думать о Нагорном Карабахе. В Ереван же на участие в юбилейных праздниках он послал министра обороны (!) СССР К. Устинова. Гейдар Алиев тоже участвовал в октябрьских торжествах в Ереване. Он не скрывал своего удовлетворения проведенной неделями раньше встречей с генсеком и на радостях даже произносил тосты на чистейшем армянском. Наверное, никто тогда не мог предполагать, что ровно через десять лет заложенная в недрах советской национальной политики мина замедленного действия под названием «Нагорный Карабах» взорвется с небывалой доселе силой. Впрочем, это произойдет позже... *** Советский Союз видел много льстецов, но Гейдар Алиев среди них самый непревзойденный. Когда в сентябре 1982 г. Брежнев в последний раз посетил Баку, чтобы закрепить на знамени Азербайджанской ССР очередной орден Ленина, он уже был серьезно болен. В соответствии с тяжелым физическим состоянием вождя был разработан и протокол торжественного заседания. Так вот, Гейдар Алиев в своем коротком 10-минутном выступлении умудрился 31 раз повторить имя дорогого Леонида Ильича, приправляя речь самыми льстивыми эпитетами. В середине же выступления он оставил трибуну, подошел к президиуму, расцеловал брежневские губы, которые были его слабостью... прослезился и продолжил выступление. В этот последний приезд Брежнева на бакинском ювелирном предприятии изготовили золотой кулон с драгоценными камнями, который позже, вместе с другими ценными подарками членам Политбюро, был по распоряжению Горбачева сдан в Госхран. В период Перестройки Комитет партконтроля пытался выяснить происхождение этого кулона. Директор ювелирного предприятия в Баку вспомнил, что был высочайший заказ. Но никаких документов не сохранилось, и истинная стоимость вещицы осталась тайной. Четырнадцать лет Алиев занимал должность первого секретаря. Многие в Азербайджане и сейчас вспоминают его достижения. Ему удалось «пробить» в Москве строительство новых крупных заводов – нефтяного машиностроения, платформ глубоководного бурения, электронно-вычислительных машин. В середине 70-х годов упала добыча нефти на Каспии, что поставило под угрозу закрытия бакинские нефтеперегонные заводы. Алиев тогда добился строительства нефтепровода Грозный–Баку – по нему пошла в Азербайджан нефть из Татарии и Тюмени. Все эти успехи были возможны только благодаря покровительству Брежнева. Завод кондиционеров Алиев увел буквально из-под носа у своего украинского коллеги Щербицкого. В Ташкенте проходило совещание первых секретарей компартий союзных республик. Престарелый Брежнев тяжело переносил жару, а кондиционер в его гостиничном номере оказался никуда не годным. Утром не выспавшийся Леонид Ильич пожаловался: «Мне казалось, что в соседней комнате всю ночь работал трактор». Стоявший рядом Алиев посочувствовал генсеку, сказав, что у них в Баку есть специалисты по борьбе с жарой, но надо бы построить мощное предприятие по выпуску кондиционеров. Брежнев тут же одобрил предложение Алиева. Завод, который планировали строить в Запорожье, перекочевал в Баку. Сам уклонившийся от военной службы, Алиев вдруг увидел ущемление национального достоинства в том, что азербайджанских юношей берут исключительно в стройбат. Открыл «военную школу имени комдива Нахичеванского». Постепенно Гейдар входил в роль заботливого «отца нации». По его инициативе практически во все крупные вузы страны поехали учиться молодые азербайджанцы. Места для «нацкадров» выделялись целевым назначением. Именно эти специалисты сейчас занимают ключевые посты в республиканской промышленности (особенно нефтяной). Они тоже поддержали своего патрона в дни его второго пришествия в Баку. Надо ли говорить, что те студенты и курсанты в большинстве принадлежали к нахичеванскому клану. Их старшие родственники в первом правлении Алиева составляли третью часть секретарей райкомов, председателей райисполкомов и две трети академиков. В 1982 г., через двадцать дней после смерти Брежнева, новый генсек Андропов перевел Алиева в Москву на должность кандидата в члены Политбюро. В Москве он вел себя безупречно. Люди из обслуживающего персонала рассказывали, что никогда не видели его пьяным. Он не курил, не ругался матом, не искал развлечений, не ездил даже на охоту в Завидово. Ездил на брежневском «ЗИЛе» с ярко-красной обивкой салона – машиной этой он очень гордился. Лишь изредка по настоянию жены и детей он выезжал на какой-нибудь праздничный концерт в Кремлевский Дворец съездов. Жили Алиевы больше на даче в Горках-10. Была и в Москве пятикомнатная квартира на улице Алексея Толстого. Квартира раньше принадлежала секретарю ЦК Борису Пономареву. Алиев перед заселением лично руководил ремонтом (архитектор все же) и отделал жилище в восточном стиле. Сын Ильхам, будущий президент Азербайджана, преподавал в МГИМО. Его уволили буквально через неделю после того, как отца в 1987 г. сняли с работы. *** Впрочем, московская карьера Алиева поначалу складывалась удачно. Андропов сделал его кандидатом в члены Политбюро, потом – первым заместителем председателя союзного Совмина и членом Политбюро. Алиев курировал четырнадцать министерств – весь транспорт и социальную сферу. Смерть Андропова и назначение генсеком Черненко не внесли изменений в жизнь Алиева. Но с приходом Горбачева потянуло прохладным ветром перемен, а потом обрушился шквал неприятностей. Алиев пытался своими испытанными способами установить дружбу с новой командой. Даже в официальных документах, нарушая субординацию, ставил впереди подписи сотрудников аппарата ЦК, а затем уже подчиненных министров. Ничего не помогало. Горбачев при виде Гейдара с трудом сдерживал раздражение. Он, как нарочно, неуклюже произносил название республики – у него получалось что-то вроде «Азебаржан». И смерть жены Алиева не вызвала у генсека ни малейшего сочувствия. Однажды Михаил Сергеевич просто сорвался. Рассказывают, что дело было так. Алиев возглавлял комиссию по строительству БАМа. Стройка затягивалась, требовала все больше финансовых вливаний, отдача была минимальная. Алиев съездил в Сибирь, добросовестно разобрался, подготовил доклад на Политбюро. Во время выступления Горбачев прерывал его ехидными репликами, пытался сбить с мысли, потом орал, обвиняя Алиева в неудаче «стройки века» – через два дня Гейдар оказался на больничной койке с обширным инфарктом. Там же, в больнице, пришлось написать заявление об отставке. Еще три года Гейдар прожил в одиночестве в московской квартире. Фактически это был домашний арест. Дачу, машину, прислугу отобрали. Однажды Михаил Горбачев собрался в Баку, причем через своих помощников передал Алиеву строгое предупреждение оставаться на месте. Там, в Азербайджане, сменяя друг друга, правили ставленники Горбачева и ненавистные враги Алиева – Везиров и Муталибов. Алиев внял предупреждению. Но власть Горбачева уже теряла силу. И Гейдар сумел уловить нужный момент, чтобы вырваться на свободу. В январе 1990 г. разразились кровавые события в Баку, связанные с армянскими погромами и последующим вводом в город подразделений советской армии. Эти события до сих пор трактуются в Азербайджане в качестве «геноцида азербайджанского народа». Уже 11 января Алиев приехал в представительство Азербайджанской ССР в Москве и выступил с резкой антигорбачевской речью. Ее передали в Баку, где она вызвала восторг. Гейдар сделал крутой поворот и объявил себя сторонником независимости Азербайджана. В июле 1991 г., за месяц до путча в Москве, вышел из рядов КПСС. Обрушился с критикой на горбачевский проект союзного договора. Алиев тогда заявил: «Не могут быть все республики суверенными в составе одного суверенного государства». При первой же возможности он улетел в Нахичевань, где его немедленно избрали председателем Верховного меджлиса. По закону Азербайджана он одновременно был заместителем председателя парламента Азербайджана. Но в Баку Гейдар пока не появлялся – там правил другой его соперник, тоже нахичеванец – президент Эльчибей, лидер Народного фронта. Начинались новые времена... *** Болезненные процессы протекали в начале 1990 гг. в Азербайджане. 14 мая 1992 г. Милли меджлис Азербайджана вынужден был восстановить в должности президента страны Аяза Муталибова, подавшего в отставку еще 6 марта, с тем чтобы уже на следующий день опять лишить его властных полномочий. То, что 16 лет назад происходило в Баку, в большей степени напоминало общенациональную панику: 9 мая силами самообороны НКР был освобожден Шуши, 14 мая – подавлены азербайджанские огневые рубежи в Агдамском районе – Агдала и Гюлаблу. Официальный Баку более двух месяцев не имел своего главы. Исполняющий обязанности азербайджанского президента Якуб Мамедов призвал «туранскую нацию к единению во имя возвращения Шуши». Во второй половине мая в Баку прибудет специальная делегация во главе с премьер-министром Турции Сулейманом Демирелем. В состав высокопоставленных визитеров был зачислен и руководитель радикальной организации «Боз Гурт» («Серые волки») Алпарслан Тюркеш. В Баку он стал призывать население страны к поддержке Народного фронта и его лидера Абульфаза Эльчибея. «Турция помогает и будет помогать Азербайджану в этом конфликте», – подчеркнул Тюркеш. Впрочем, это произойдет несколько позже. А пока, как уже отмечалось, 14 мая парламент АР вынужден был восстановить в должности президента страны Муталибова, чтобы уже на следующий день вновь лишить его властных полномочий. Вторая отставка Муталибова явилась следствием не только турецкого вмешательства: к процессу внутриазербайджанских кадровых преобразований были подключены и другие силы, представляющие интересы международного терроризма. Не последнюю роль в смутных событиях 15 мая сыграли афганские моджахеды и чеченцы. Катализатором активного вовлечения моджахедов и чеченцев в кадровую политику АР послужил, конечно, Шуши. Сразу после сдачи этой важнейшей стратегической высоты бежавший оттуда Хаттаб встретился с Эльчибеем и обсудил с ним разработанный «серыми волкам» план прихода лидера НФ к власти. Второе назначение Аяза Муталибова – «ставленника Москвы» в должности президента Азербайджана – не входило в планы террористов. 15 мая при самом активном участии моджахедов и чеченского легиона он был отстранен от власти. Впрочем, и это не помогло Азербайджану: 18 мая части Армии обороны НКР вошли в Лачин, чем разрешили важнейшую стратегическую задачу: обеспечение непосредственного сухопутного сообщения между РА и НКР. Но как показал дальнейший ход событий, турецкий ставленник Абульфаз Элчьибей, в свою очередь, оказался, несостоятельным руководителем государства. В частности, его политика по определению формулы «национальной идентичности» стала реальной угрозой территориальной целостности Азербайджана в рамках бывшей советской республики. Невзирая на конфессиональные (в частности) различия между турками и азербайджанцами, он проводил государственную политику по их полной идентификации. В 1992 г. Милли меджлис Азербайджана принял «Закон о языке», в котором азербайджанский язык официально был переименован в турецкий. Реформа Эльчибея, ориентированная на курс превращения тюркизма в государственную идеологию, не встретила в среде азербайджанского общества должного понимания: рядовой «советский азербайджанец» психологически не был готов к столь скорому и одностороннему своему перевоплощению. Политика националистически настроенного президента вызвала недовольство и населяющих республику национальных меньшинств: талышей, лезгин, цахуров, рутульцев, татов, грузин-ингилойцев, удин… На фоне начавшейся Карабахской войны это могло иметь и вовсе роковые для Баку последствия – провозглашение Али-Акрамом Гумбатовым Талыш-Муганской Республики произошло именно летом 1993 г. Радикализм Абульфаза Эльчибея явственно высветил хрупкость руководимого им общества и подчеркнул реальную опасность проведения решительных шагов на предмет укоренения в массовом сознании собственно турецкого самосознания. Впрочем, и Турция настороженно отнеслась к политике своего ставленника. Глава официальной Анкары Тургут Озал, ратующий, как известно, за применение против Армении турецкой военной силы, тем не менее, в апреле 1993 г. выступая в Баку, заявил: «Азербайджанцы – наши друзья, я бы сказал родственники. На международной арене мы всегда защищаем наших азербайджанских братьев, но никто не должен рассчитывать на большее». Ввергший страну в очередной внутриполитический кризис Эльчибей вскоре вынужден был покинуть Баку. В этот судьбоносный период лоскутная империя – Азербайджан – действительно нуждалась в общенациональном лидере. И такой Лидер появился: именно тогда генерал КГБ Гейдар Алиев и решил вновь поменять свою масть. Позже он даже совершит хадж, чем обескуражит самых непревзойденных льстецов. «Религия играет важную роль в жизни каждого народа. Но в советское время мы были от нее отлучены. Когда же коммунистическая идеология сошла со сцены, народ в массовом порядке вернулся к религии. В Азербайджане ислам приняли еще в VII веке. Религия многие столетия была основным духовным началом в жизни нашего народа. Мать моя посещала мечеть, соблюдала обряды. Я сам, конечно, интересовался религией. Читал на русском языке Коран, историю ислама, его святынь. По своим корням я принадлежу к мусульманской вере, по национальности я азербайджанец, и никогда, ни за что от этого не откажусь. И поэтому, когда установилась свобода, я стал посещать мечеть, чтобы верующие имели возможность общаться со мной, а я – с ними. И совершил хадж – поездку в Мекку и Медину. Ведь это святыни нашей религии». *** 10 октября 1993 г. вернувшийся во власть новый президент АР Гейдар Алиев во дворце «Республика» произнес инаугурационную речь. После – грандиозный концерт. Особую эмоциональную окраску мероприятию придали песни Муслима Магомаева. Прозвучала на концерте и песня, написанная Севиль Алиевой в память матери своей, Зарифы-ханум. В память прошлого, откуда и начиналась эпоха Гейдара Алиева. Процесс поиска национальной идентичности имел свое продолжение и при Гейдаре Алиеве. В Конституции 1995 г. государственным языком в Азербайджане вновь был провозглашен азербайджанский. Неудачная попытка внедрения в азербайджанском обществе соответствующего идеологического вектора предопределила при Алиеве становление совершенно новой идеологии – «азербайджанлылыг» (азербайджанизм), по которой азербайджанцы и турки, при всей своей близости, являются разными народами. В данной связи базовой следует считать речь Г. Алиева «Азербайджан – родина всех азербайджанцев» (2000 г.), где он призывает народ брать пример с армян: «Как и армяне, все азербайджанцы, живущие за пределами Родины, также должны объединяться. Во имя чего - во имя независимого Азербайджана!» Именно после этого исторического выступления президент страны и был удостоен на манер Ататюрка титула «Гейдар-баба». В июле 1993 г. (непосредственно перед очередным восшествием Гейдара Алиева на престол) Афганистан посетил замминистра внутренних дел Азербайджана Ровшан Джавадов, который имел встречи с премьер-министром страны, лидером партии «Хезб-и-Ислам» Хекматиаром (контролирующем афганский наркобизнес) и генералом Рашидом Дустумом. В результате между Кабулом и Баку стала функционировать прямая воздушная связь, которая обеспечивала азербайджанскую армию военным пополнением. После прихода к власти в 1993 г. Гейдар Алиев начал уже сам привлекать афганских моджахедов и чеченских боевиков к войне против Нагорного Карабаха, что нашло отражение в документе Исследовательской службы Конгресса США о деятельности террориста «номер один» Усамы бин Ладена и его организации «Аль-Каида» на территории Азербайджана. Это признавалось и Москвой. Представитель МИД РФ в ноябре 1993 г. называл цифру 1500 афганских моджахедов, воюющих на стороне Баку. Директор службы внешней разведки РФ Евгений Примаков тогда также упомянул об активизации афганских моджахедов в карабахской войне. Еще в ноябре 1993 г. Управление национальной безопасности НКР продемонстрировало многочисленные подтверждения участия афганских наемников в боевых действиях. Это были списки отдельных подразделений по 100 человек каждое, фото афганских боевиков, сделанные в учебном центре бывшей 104-й российской дивизии ВДВ в Гяндже (Кировабад), словари: азербайджанский-пушту и азербайджанский-дари, религиозная мусульманская литература и газеты из Пешавара и Карачи (Пакистан), посылки, оружие и т. п. Все это было захвачено армянскими силами в ходе боев на южном участке карабахского фронта в Джебраильском и Физулинском районах . Практически сразу после взрывов 11 сентября в Нью-Йорке «Ассошиэйтед Пресс» сообщила о том, что Исследовательская служба Конгресса (Congressing Research Service) еще 10 сентября 2001 г. опубликовала отчет, в котором указывалось, что отдельные личности и группы, связанные с международным террористом Усамой бин Ладеном и его организацией «Аль-Каида», использовали Азербайджан в качестве одной из баз своей террористической сети. В этой связи необходимо напомнить, что еще в 1998 г., после террористических атак на американские посольства в Танзании и Кении, ФБР было зафиксировало более 60 звонков бин Ладена в Баку в азербайджанское отделение «Исламского джихада». Не удивительно, что уже 12 сентября 2001 г. многие в США заговорили и об «азербайджанском следе» в кровавых событиях. И наконец, именно по этой причине в октябре того же года власти Баку начали облаву против данной организации и, помимо своих граждан, арестовали также и «миссионеров» из Катара, Иордании и Саудовской Аравии. Показательно, что некоторые из сообщений, включенных в отчет Исследовательской службы Конгресса, свидетельствовали о функционировании различных радикальных исламистских группировок в Азербайджане еще до обретения им независимости в 1991 г. «Однако их присутствие в Азербайджане стало особенно заметным в ходе военных действий 1993 г., когда правительство Гейдара Алиева прибегло в широком масштабе к услугам боевиков-моджахедов из Афганистана и других стран в войне против армян Нагорного Карабаха, – отмечалось в отчете. – Азербайджан, характеризуя Карабахский конфликт как религиозную войну, использовал это для установления связей в исламском мире. Эти связи, включая заигрывания с радикальными организациями, проповедующими джихад, имели целью дипломатическую изоляцию Армении и поиск военной и финансовой помощи для развязывания новой военной кампании против Карабаха». Летом 1993 г. Гейдар Алиев использовал более 1000 исламских наемников в карабахской войне против армян . Тогда же один из сообщников бин Ладена сообщил, что «бин Ладен лично руководил моджахедами по меньшей мере в двух сражениях в Карабахе». В период установления перемирия в Карабахе в мае 1994 г. большинство моджахедов покинуло Азербайджан, чтобы воевать в других горячих точках, таких как Северный Кавказ и Балканы. Однако некоторые остались, чтобы возродить интерес к исламистским радикалам посредством создания сети из тренировочных лагерей, мечетей, благотворительных организаций и подпольных ячеек. Ибраим Эйдарус, недавно арестованный в Европе ФБР за участие в бомбежках посольств в 1998 г., возглавлял азербайджанское отделение «Аль-Каиды» между 1995 и 1997 гг. В ходе расследования было выяснено, что даже в 1997 г. исламские радикальные организации с филиалами в Азербайджане периодически предлагали свои услуги президенту Гейдару Алиеву в борьбе против армян . Начиная с 1998 г., после бомбежек посольств США в Кении и Танзании, администрация Алиева попала под давление Вашингтона, требующего прекратить деятельность радикальных исламистских группировок на его территории. В августе 1998 г. азербайджанское отделение организации «Исламский джихад», которое впоследствии слилось с «Аль-Каидой» бин Ладена, как сообщается, координировало бомбардировки посольств США в Кении и Танзании, в которых были убиты 224 и ранены около 4600 человек. ФБР удалось перехватить почти 60 звонков, сделанных посредством спутникового телефона бин Ладена из Баку в Восточную Африку и обратно. Посольство США в Азербайджане также опасалось нападения, однако, как заявил один из местных радикалов, они решили не подвергать атаке посольство США в Баку, «чтобы не портить хороших отношений с Азербайджаном». Показательно, что после бомбардировки американских посольств Вашингтон потребовал от Баку выдать разыскиваемых террористов, однако Алиев отказал США, чтобы «не вызвать гнева исламских фундаменталистов», и вместо этого переправил их в родные страны. Один из таких террористов – Ахмад Салам Мабрук, который в то время возглавлял местное отделение «Аль-Каида», был задержан при попытке приобрести в Азербайджане химическое и биологическое оружие. При Гейдаре Алиеве Азербайджан являлся привлекательным прибежищем для международных террористических сетей, в особенности тех, которые базировались в Афганистане. В конце 2000 г. глава миссии UNHCR (Верховного комиссара по делам беженцев) в Азербайджане Дидье Лей отметил, что большинство ищущих в этой стране политического убежища лиц прибывают сюда из Афганистана. «В столице Азербайджана мечети, построенные исламскими радикалами, привлекают широкий круг посетителей. Как сообщается, в этот круг входят и высокопоставленные чиновники администрации президента Гейдара Алиева. Совсем недавно в прессе муссировалось то обстоятельство, что, будь бин Ладен вынужден покинуть Афганистан, он оказался бы в Азербайджане. В течение лет сторонники бин Ладена покидали Баку с тем, чтобы создавать лагеря в сельских районах, в особенности в отдаленных горных местностях на севере страны». *** Скончался Гейдар Алиев 12 декабря 2003 г. в Квинленде (США). Ему так и не удалось покончить с Карабахским вопросом. Преследующая его с самого рождения проблема стала по сути «самым незавершенным делом его жизни»: именно Карабахский вопрос сотворил из него президента и на закате его политической карьеры вернулся к нему со «свежестью» 1923 г. Эту головоломку он и завещал сыну…
-
Он-лайн выставка на сайте Музея Геноцида: http://genocide-museum.am/eng/online_exhibition_5.php
-
Айрапетян Камо Грантович (1966-1993) Родился 23 июня 1966 года в городе Баку. Получил среднее образование, отслужил в рядах Советской армии. С началом Арцахского движения с семьей перебрался в Степанакерт, где работал на обувной фабрике. Отправился в Ереван для продолжения учебы, получив высшее образование работал инспектором в министерстве финансов. Был зачислен оператором-наводчиком боевой машины пехоты в подразделение, защищавшее родину его предков - арцахское село Сгнах. Участвовал в боях в Карин таке, а также в ликвидации огневых точек противника в Шуши, Лачине (Бердзор), Физули, Кубатлы. Погиб 23 августа 1993 года в боях за Санасар (Кубатлы). Посмертно награжден медалью РА «За отвагу». Женат не был. Покоится на кладбище села Сгнах Аскеранского района.
-
Заявление Как известно, 19 июня грузинские пограничники запретили въезд на территорию Грузии председателю национального благотворительного объединения «Джавахк», депутату Национального Собрания от Республиканской Партии Армении Шираку Торосяну. Это событие не имеет аналогов в истории взаимоотношений между двумя странами. Высокопоставленному должностному лицу из Армении без объяснений запрещают въезд на территорию, находящуюся под контролем Грузии. Сам факт указывает на: · паническое поведение грузииского государства, когда борцов за справедливое решение Джавахского вопроса, держат по возможности далеко от региона, являющегося предметом споров, · наглое поведение грузинского государства по отношению к Армении. Это отмечаем особо, так как Ширак Торосян является не просто гражданином или должностным лицом, но и депутатом НС от правящей партии РПА, членом фракции, · очередное доказательство постоянных недружелюбных проявлений со стороны Грузии, когда грузины в своих действиях даже не принимают в расчет намеченный на ближайшее время визит президента Грузии в Армению, когда, как известно, поднимаются традиционные тосты о «добрососедстве», · исходя из того, что Ширак Торосян родом из села Гандза Джавахкского региона, связан со своей родной землей, имеет там много родных и при этом его не пускают на территорию Грузии, то это обстоятельство считаем шагом нанесения грузинской стороной личности Ширака Торосяна нравственного оскорбления, попрания чести личности. Исходя из данных обстоятельств, требуем, чтобы президент Грузии М. Саакашвили во время своего ближайшего визита в Армению публично извинился как перед Ш. Торосяном, так и перед многими тысячами джавахкских армян, которые каждый день подвергаются унижениям на всех пропускных пунктах на границе Армения-Грузия. Напомним, что депутат вместе с председателем партии «Могучая Родина» Варданом Вардапетяном, с бывшим советником премьер-министра Армении по вопросам СНГ Степаном Маргаряном и бывшим депутатом НС Ваге Ованесяном по предложению немецкого фонда «Фридриха Наумана» и по договоренности с ним, должны были провести в Грузии встречи с должностными лицами, общественными деятелями, журналистами для обсуждения проблем Джавахка и армяно-грузинских отношений. Аналитический Центр «Митк» 22 июня 2009 г., г. Ереван ----------------------------------------------------------------- А еще бы аналогично поступить с самим Саакашвили при пересечении армянской границы.
-
Сергей Минасян ГЕРОЙ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ: ГЕНЕРАЛ-АДЪЮТАНТ КНЯЗЬ М. З. АРГУТИНСКИЙ-ДОЛГОРУКИЙ ВВЕДЕНИЕ Кавказская война XIX в. стала причиной масштабных социально-политических катаклизмов, повлекших за собой значительные изменения в судьбах многих народов Кавказа, в том числе и армян. Исторически с Северным Кавказом Армению связывало не только географическое положение, но и вековые культурные, экономические и социально-политические отношения, усилившиеся с XVIII в., когда проживавшие на Северном Кавказе еще с древнейших времен армяне основали первые крупные поселения и колонии. Вместе с этим вплоть до конца XVIII – начала XIX вв. не прекращались постоянные набеги горских племен на территорию как самой исторической Армении, так и других армянонаселенных районов Кавказа: угонялись в плен тысячи людей, наносился серьезный ущерб экономике. Ситуация изменилась с началом окончательного покорения региона Российской империей: армяне по обе стороны Кавказского хребта оказались втянуты в длительную и кровопролитную Кавказскую войну. Еще со второй четверти XVIII в. в составе русской армии, ведшей бои против горцев, отличились многие армяне, а позже, уже в период Кавказской войны XIX в., в ходе боевых действий проявилось военное дарование десятков армянских полководцев, в числе которых генералы М. Т. Лорис-Меликов, В. О. Бебутов, И. Д. Лазарев, адмирал Л. М. Серебряков и др. Бои с горцами эти офицеры рассматривали зачастую как естественное продолжение борьбы, которую они вели в составе русской армии на территории исторической Армении во имя ее освобождения от турецкого и персидского владычества. Однако даже на фоне этой блестящей плеяды талантливых армянских генералов русской Кавказской армии выделяется князь М. З. Аргутинский-Долгорукий. ОФИЦЕР ГВАРДИИ Генерал-адъютант Моисей Захарович (Мовсес Закари) Аргутинский-Долгорукий (1797-1855 гг.) происходил из знаменитой армянской княжеской династии Аргутинских-Долгоруких. Династия Аргутинских-Долгоруких брала начало из рода князей Закарянов, которые еще с XII в. возглавляли ряд армянских княжеств на северо-востоке Армении, а впоследствии заняли прочную позицию в руководстве Грузинского царства, достигнув значительных успехов на государственных и военных должностях. Вплоть до падения Восточно-грузинского (Картли-Кахетинского) царства, многие князья Аргутинские занимали весомое положение в военно-политической иерархии этого государства. Двоюродный дед Моисея Захаровича, архиепископ Иосиф Аргутинский-Долгорукий, еще во второй половине XVIII в., будучи духовным предводителем армян России, участвовал в переселении армян из Крымского ханства в пределы Российской империи, где ими был основан город Нор-Нахиджеван. Иосиф Аргутинский принял активное участие и в Персидском походе русских войск в 1796 г., а позже был избран армянским католикосом. За заслуги, оказанные архиепископом Российской империи, Аргутинским, согласно указу императора Павла I-го, был дарован титул российских князей1. Уже после присоединения Грузии к Российской империи, многие из Аргутинских продолжили свою службу на важных военных и государственных постах, принимали участие практически во всех войнах, которые вела Россия на Кавказе в течение XIX в. Не был исключением и отец будущего полководца российской армии – князь Захарий Иосифович. В июле 1802 г. кн. З. Аргутинский добыл в Ереванской крепости важные разведывательные сведения о взаимоотношениях ереванского и нахиджеванского ханов, что имело большое значение для русского военного командования, готовящегося к проведению похода на Ереван2. Позже он участвовал в боях против персидских войск, в том числе в первом Ереванском походе русской армии в 1804 г. Во время Ереванского похода, впрочем, как и в ходе других боевых действий, отличился и дядя М. З. Аргутинского – полковник русской армии кн. Соломон Аргутинский, который неоднократно удостаивался наград российского правительства3. Князь Моисей Захарович получил первоначальное образование в Тифлисском благородном училище и готовился к гражданской службе. Однако приезд на Кавказ в 1817 г. нового русского главнокомандующего, известного героя наполеоновских войн генерала А. П. Ермолова, по-иному решил его судьбу. Ермолов, заметив в молодом Аргутинском большие способности, уговорил его отца дать возможность сыну сделать карьеру на военной службе и отправить его в Петербург. Так 19-летний молодой князь с далекого Кавказа оказался в столице Российской империи. 17 апреля 1817 г. М. З. Аргутинский был зачислен юнкером в Лейб-гвардии Конный полк - одну из наиболее элитных частей русской армии. Способности Аргутинского в службе и учебе, в первую очередь, в военных науках проявились с самого начала, так что уже спустя два месяца князь был произведен в штандарт-юнкера, а через год, когда ему было всего 20 лет - в корнеты. В 1824 г. М. З. Аргутинский был уже штабс-ротмистром Лейб-гвардии Конного полка4. Естественно, годы службы в знаменитом полку императорской гвардии не прошли для будущего полководца бесследно, но Аргутинский стремился к боевой службе, благодаря которой молодой офицер сумел бы практически использовать полученные теоретические знания и практические навыки. Вскоре такой случай представился: вспыхнула русско-персидская война 1826-1828 гг. ПЕРЕВОД НА КАВКАЗ И УЧАСТИЕ В ВОЙНАХ С ПЕРСИЕЙ И ТУРЦИЕЙ С началом войны с Персией многие армянские офицеры русской армии, служившие вдали от Родины, стремясь принять участие в боях за освобождение Армении, пожелали перевестись в ряды Кавказского корпуса. Ротмистр М. З. Аргутинский-Долгорукий был одним их них. Оставив службу в престижном гвардейском полку столичного Петербурга, он, приказом от 23 марта 1827 г., добился перевода на Кавказ, со званием майора5. Прибытие в Тифлис молодого петербуржского офицера не прошло незамеченным. В архиве Матенадарана хранится датированное 7 мая 1827 г. письмо княгини Марии Бектабековой6 духовному предводителю армян Грузии архиепископу Нерсесу Аштаракеци. Княгиня М. Бектабекова просит архиепископа содействовать женитьбе Аргутинского на ее старшей дочери7. Кстати, в боевых действиях против персидской армии в 1826 г. вместе с другими армянскими князями Тифлиса участвовал и отец Моисея Захаровича. Князь Закаре состоял в отряде под командованием героя войн с Наполеоном Дениса Давыдова, а с весны 1827 г. служил в тифлисском армянского дворянском ополчении, которое сопровождало нового главнокомандующего русскими войсками на Кавказе генерал-адъютанта И. Ф. Паскевича в ереванском походе8. В конце апреля 1827 г. передовые части русских войск, во главе с генерал-адъютантом К. Х. Бенкендорфом, осадили Ереванскую крепость, по пути освободив Эчмиадзинский монастырь. Армянский кавалерийский отряд, командование которого было поручено майору М. З. Аргутинскому-Долгорукому, был в авангарде этих войск. В боях против курдов, которые составляли основную часть кавалерии ереванского Гуссейн-хана, отряд Аргутинского сыграл не последнюю роль. Так, 25 мая 1827 г. К. Х. Бенкендорф получил известие от архиепископа Нерсеса Аштаракеци, сопровождавшего русские войска в походе на Ереван, о том, что Гуссейн-хан, стоя на правом берегу Аракса, препятствует возвращению домой армян, угнанных персами при вступлении русских войск на территорию Восточной Армении. Для нанесения удара по персидским войскам К. Х. Бенкендорф направил на противоположный берег Аракса передовой отряд в составе 3 казачьих сотен под командованием войскового старшины майора Вербицкого9. 50 армянских кавалеристов во главе с Аргутинским сопровождали передовой отряд. При преследовании неприятельской кавалерии отряд Вербицкого был окружен многочисленной персидской конницей, вынужденно приняв неравный бой. В бою погибли 103 казака и сам Вербицкий, остальные, по прибытии подкрепления, смогли спастись. Из 50 армянских бойцов семеро погибли, еще двое попали в плен. Однако, несмотря на значительные потери, передовые части русской армии достигли своей цели: большая часть армянских семей вернулась в свои дома10. Позже М. З. Аргутинский принял участие в осаде и взятии Абасс-Абатской крепости, а затем, 5 июля 1827 г., в бою с персидскими войсками, возглавляемыми наследником шахского престола Абасс-Мирзой. В результате русским войскам удалось нанести тяжелое поражение персидской армии. Далее Аргутинский участвовал в штурме крепости Сардарапат, в освобождении русскими войсками 1 октября 1827 г. Ереванской крепости и во взятии Тавриза. За проявленную храбрость при занятии Еревана кн. М. З. Аргутинскому было присвоено звание подполковника. Он также был удостоен благодарности императора и награжден серебряной медалью11. Война между Россией и Персией завершилась подписанием Туркменчайского мирного договора в феврале 1828 г. Одним из условий договора было переселение персидских армян в Восточную Армению. Общее руководство по организации переселения было поручено полковнику Е. Лазареву12. М. З. Аргутинского-Долгорукого, «по известному усердию его и знанию армянского языка», назначили помощником полковника Е. Лазарева13. Им содействовали бывший командир 2-й армянской дружины поручик Акимов, прапорщик Шахназаров, майор С. Меликов, титулярный советник М. Ениколопов и другие армянские офицеры14. Следует признать, что главная заслуга в организации успешного переселения армян принадлежала не столько Е. Лазареву, сколько подполковнику М. З. Аргутинскому. Об этом прямо указывали в своих докладах генерал-майоры Панкратьев и Чавчавадзе и руководитель русской дипломатической миссии А. С. Грибоедов15. Переселение встречало противодействие со стороны персидских властей, караваны переселенцев подвергались разбойничьим набегам курдов. Поэтому для обороны караванов русское командование сформировало вооруженные отряды из числа самих переселенцев. Один из них, состоявший примерно из 100 человек, был организован в районе Салмаста и поручен командованию М. З. Аргутинского-Долгорукого16. Вскоре после этого, в условиях уже начавшейся русско-турецкой войны 1828-1829 гг., князя назначили комендантом Еревана, поручив организацию мер по укреплению крепости17. Одновременно, вплоть до 1829 г. подполковник М. З. Аргутинский выполнял также обязанности начальника Армянской области, созданной по указу Николая I-го из земель Восточной Армении, вошедших согласно Туркменчайскому миру в состав Российской империи. Но уже в начала кампании 1829 г. Аргутинский был переведен в действующий корпус. С 21 июля по 20 августа 1829 г. он принял участие в походе и взятии крепости Байбурт, участвовал в бою против отрядов лазов и черкесов у селения Харт, во взятии города Гюмушхана. В сентябре 1829 г. приказом главнокомандующего графа И. Ф. Паскевича-Эриванского подполковник Аргутинским был назначен командиром отряда, направленного для усмирения шаек турок, курдов и черкесов в Нариманском и Олтинском санджаках, совершавших набеги на коммуникации и тылы русских войск. Разбив у селения Сурб-Саркис отряд турок и курдов под командованием Аслан-бека, а у крепости Олты - Гуссейн-бека, 18 сентября Аргутинский занял Олты18. За отличие при взятии Олты князь Моисей Захарович, единственный из всех армянских офицеров Кавказского отдельного корпуса в период русско-турецкой войны 1828-1829 гг., был удостоен одной из наиболее почетных военных наград Российской империи – ордена Св. Георгия 4-й степени19. НАЧАЛО АДМИНИСТРАТИВНО-ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В конце 1830 г., будучи уже батальонным командиром, Аргутинский впервые встречается в бою с горцами - противником, с которым ему предстояло сражаться впоследствии вплоть до конца своей военной карьеры. 5 ноября 1830 г. близ крепости Новые Закаталы он разбивает крупный отряд лезгин, напавший на русские войска, а 14 ноября войска Аргутинского занимают укрепленное селение Закаталы. 22-23 декабря 1830 г. последовал разгром отрядов глуходарских лезгин, намеревавшихся напасть на русское укрепление Белоканы. В 1831 г. Аргутинский принимает участие в трудной экспедиции русских войск под командованием полковника Эспехо20 в район ущелья Капис-дар, для усмирения тамошних лезгин21. В середине марта 1832 г. небольшая группа джарских лезгин прорвалась через русские кордоны на границе с Кахетией. Аргутинским были предприняты оперативные меры и вскоре отряды местной милиции, под командованием армянина прапорщика Нацвалова, настигнув горцев в лесах района Белокан, внезапно атаковали и рассеяли их. За проявленное отличие, приказом по Кавказскому корпусу главнокомандующего барона Розена прапорщику Нацвалову была объявлена благодарность22. В том же 1832 г. князь Аргутинский был назначен командиром Тифлисского пехотного полка, расквартированного в то время в Ереванской крепости. В 1833 г. его отряд участвовал в усмирении курдских племен в Армянской области. В 1837 г. войска Кавказского корпуса, под командованием главнокомандующего барона Розена, совершили экспедицию для покорения Цебельды (Северная Абхазия). В их составе был и Тифлисский пехотный полк М. З. Аргутинского. Русские войска, выйдя из Сухума 30 апреля, после тяжелого перехода через леса и болота черноморского побережья, 24 мая заняли мыс Адлер и начали строить там укрепление. Во время этого перехода и последующих боев с горцами вновь отличился Аргутинский, который вскоре был произведен в полковники и назначен командиром Тифлисского егерского полка23. В 1838 г. вспыхнули волнения среди горцев и мусульман Шекинской провинции. Восставшие заняли Нуху. Комендант города Шеки подполковник Минченков, имея в своем распоряжении только две роты неполного состава, вместе с частью армянского населения был вынужден укрыться в полуразрушенной крепости и ждать прибытия подкреплений. Вооружив местных армян, комендант обратился за помощью и к армянскому населению окрестных районов. Через 6 часов отряд из 100 армянских всадников, проскакав 70 верст, прибыл на подмогу шекинскому гарнизону. Когда лезгинам удалось ворваться в город и занять здание караван-сарая, находившееся невдалеке от стен крепости и представлявшее удобную позицию для действий против русского гарнизона, тифлисский армянин Исаак Кузинов, спустившись по веревке из крепости, несмотря на огонь неприятеля, поджег здание24. Для помощи гарнизону Шеки из селения Царские Колодцы был направлен батальон Тифлисского егерского полка во главе с Аргутинским, который, в результате форсированного марша уже ночью 31 августа подошел к Нухе. В результате боев с 1-го по 3-е сентября в районе Нухи русские войска под командованием полковников Аргутинского и Безобразова нанесли тяжелое поражение горцам и заняли город. Спокойствие в провинции в целом было восстановлено. Аргутинский, вскоре же, был назначен командиром отряда, собранного в районе Нухи, для предупреждения набегов лезгин на Закаталы25. В середине октября 1838 г. Аргутинский предпринял новый поход. С отрядом, в состав которого входили батальон тифлисских егерей, дивизион Нижегородского драгунского полка, 13 сотен шекинской и ширванской милиции, с 2 орудиями, Аргутинский выступил их окрестностей Нухи вдоль по Хачмазскому ущелью. Пройдя примерно 15 верст и не встречая сопротивления, отряд был встречен огнем лезгин у высоты Кондала-Марш. Чтобы выбить лезгин из леса, Аргутинский выдвинул на позиции артиллерию под прикрытием 2 егерских рот и, приказав ей открыть огонь по лезгинам, послал 3 сотни конной милиции в обход. Эти меры заставили лезгин оставить позиции и отступить к завалам на вершине Кондала-Марша. Понеся крупные потери, горцы, преследуемые милицией и егерями, вынуждены были отступить и с этих позиций. Вскоре Аргутинский со своим отрядом возвратился в Нуху, завершив боевые действия в Шекинской провинции и прилегающих районах26. За отличия, проявленные в ходе этих боевых действий, князь Аргутинский был награжден орденом Св. Анны 2-й степени. Через некоторое время Аргутинского назначили военно-окружным начальником Ахалцихской провинции, где он принял активное участие в мерах по борьбе со вспыхнувшей там эпидемией чумы. В 1841 г. в Гурии (Западная Грузия) началось восстание, для подавления которого был послан ахалцихский окружной начальник полковник М. З. Аргутинский, назначенный также командиром 1-й бригады Грузинских линейных батальонов. Как указывалось в рапорте главнокомандующему на Кавказе генералу Е. А. Головину, эта миссия была поручена Аргутинскому, как «штаб-офицеру, опытному в здешнем крае, знающему местные языки и известному своим благорозумием, вменив ему, вместе с тем, в обязанность взять из Ахалцихского уезда милицию»27. Для помощи русским войскам армяне Джавахка выставили 2 сотни Ахалцихской конной милиции, вместе с полковником Аргутинским выступившей в направлении Гурии28. В письме М. З. Аргутинскому от 14 августа 1841 г. начальник штаба Кавказского корпуса генерал-майор Коцебу объяснял, почему выбор командования пал на него, следующим образом: «Никто не исполнит с таким благоразумием и успехом восстановление порядка в Гурии, как Ваше сиятельство, пользующийся полным доверием начальства и влиянием в народе. Я посчитал долгом своим покорнейше просить Вас отправиться немедленно в Гурию и всеми мерами стараться вразумить народ»29. В ходе этой операции, когда Аргутинский был назначен командиром отдельного отряда и мог действовать уже по своему усмотрению, в первый раз проявилось во всем объеме воинское дарование кн. Моисея Захаровича. Его экспедиция в Гурию продолжалась с 10 августа по 15 декабря 1841 г. Собрав необходимое количество регулярных войск и милиции, кн. Аргутинский 30 августа уже выступил в направлении Озургети, который был окружен восставшими гурийцами. Так как на пути к Озургети русские войска встретили сильно укрепленную позицию противника, взятие которой могло бы привести к значительным потерям, полковник Аргутинский решил ночью обойти позиции восставших и напасть на них с той стороны, откуда его меньше всего ожидали. Оставив часть своего отряда для демонстративных действий против фронта и правого фланга противника, с остальными войсками он двинулся назад. Пройдя 7 верст, он направил свои войска по проселочной дороге вправо, в обход левого фланга гурийцев. В 9 часов утра 3 сентября Аргутинский появился перед Озургети и неожиданно напал на отряды восставших. Застигнутый врасплох неприятель не смог долго сопротивляться и вскоре отступил. Через два часа все окрестности Озургети были освобождены от отрядов восставших30. В рапорте военному министру кн. А. Чернышеву генерал Е. А. Головин указывал: «Озургеты освобождены от тесной блокады мятежников, которые, вследствии благоразумных распоряжений кн. Аргутинского и хорошо обдуманного движения его, с большей частью отряда, в обход укрепленной их позиции, рассеяны со значительным для них уроном и почти без всякой потери с нашей стороны... В заключении обязываюсь сказать, что настоящие действия полковника кн. Аргутинского показывают в нем человека с хорошими военными способностями и заслуживающего особенного внимания»31. После поражения под Озургетами большая часть гурийцев вскоре рассеялась и кн. Аргутинский начал приводить к присяге население Гурии, одновременно разыскивая виновников восстания, чтобы не дать им сбежать в Турцию или скрыться в лесах. В результате, командующий турецкими войсками в районе Кобулети вскоре поймал и передал русским властям укрывавшихся в турецких владениях зачинщиков беспорядков, а большую часть главарей выдали сами жители Гурии, стремившиеся загладить вину за участие в восстании. Вскоре, военный министр в письме генералу Е. А. Головину сообщил о желании императора представить к наградам полковника Аргутинского за быстрое и успешное подавление восстания в Гурии. Уже 8 декабря 1841 г. кн. Аргутинский, завершив миссию в Гурии, выехал из Озургети в Ахалцих. За отличия в ходе подавления Гурийского восстания кн. Аргутинский-Долгорукий был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени32. ДАГЕСТАН И ПЕРВЫЕ БОИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 1842 г. Аргутинский встретил на новой должности. Ему предстояло принять под свое командование Самурский отряд и направиться в Дагестан для усмирения перешедшего на сторону Шамиля Казикумыхского ханства в Самурском округе. С начала года русские войска в Дагестане находились в весьма тяжелом состоянии, несли потери, всюду вспыхивали мятежи, сопровождавшиеся дерзкими набегами горцев на русские укрепления. Требовался новый решительный командир, который смог бы спасти ситуацию. И таким человеком оказался полковник М. З. Аргутинский-Долгорукий. С этого периода начинается самый блестящий этап военной карьеры князя, неразрывно связанный с Северным Кавказом. Именно ему была обязана русская Кавказская армия многочисленными победами, ставшими классическими примерами в истории боевых действий в сложных горных условиях Северного Кавказа. Сразу же после своего назначения командиром Самурского отряда Аргутинский перешел к активным действиям. Очень скоро он нанес тяжелое поражение крупным отрядам горцев в сражении у селения Кюлюли, а затем русские войска заняли и центр ханства – селение Кумух. Наградой Аргутинскому за успешную операцию стало присвоение звания генерал-майора33. Кроме этого, «за отличные действия и распоряжения во время вторжения Шамиля в июне 1842 г. в Кумух, и в особенности при разбитии скопищ Шамиля, 2 июня, при селении Кюлюли» генерал-майор кн. М. З. Аргутинский был удостоен ордена Св. Георгия 3-й степени34. Известно, что в своей борьбе против Шамиля русские власти неоднократно стремились сочетать военные действия с политическими средствами, с целью привлечь на свою сторону местное население, владетелей уделов и командиров горских отрядов в Дагестане. При этом особая роль отводилась военным начальникам русской армии на местах, которые должны были координировать работу с горским населением и склонять его к совместной борьбе против имама Шамиля. По характеристике главнокомандующего Е. А. Головина, важную роль в этих мероприятиях должен был сыграть начальник Самурского отряда генерал-майор Аргутинский, «как человек умный, знающий здешние языки и обычаи и показавший на опыте уже большую осторожность в действиях»35. Через некоторое время, согласно рапорту нового главнокомандующего Кавказским корпусом генерал-адътанта А. И. Нейдгарта военному министру А. И. Чернышеву от 10 февраля 1844 г., М. З. Аргутинский был назначен командующим русским войсками в Дербентском военном округе, а также в Среднем и Южном Дагестане36. В этот год Шамиль достиг крупных успехов в боях против русских войск: были взяты Авария, готовилось вторжение в Мехтулинское и Казикумыхское ханства. Но планы имама были сорваны в результате блистательных побед отряда Аргутинского в апреле 1844 г. у селения Марги и позднее, в июне месяце, на высотах Доккул-бяр37. Полководческий кругозор и знание Аргутинским специфики ведения боевых действий в горных условиях Северного Кавказа ярко проявился в ходе подготовки и проведения знаменитой Даргинской экспедиции 1845 г. и последующих событий. Как известно, эта экспедиция, несмотря на участие в ней самого новоназначенного главнокомандующего на Кавказе графа (впоследствии князя) М. С. Воронцова, закончилась тяжелой неудачей русских войск. Экспедиция явилась, вероятно, последней попыткой русского командования, при прямой указке из Санкт-Петербурга, решить проблему горцев одним ударом, который, по их мнению, мог бы способствовать окончательному поражению Шамиля и возглавляемого им имамата. К чему привел этот поход, известно: во весь период и без того кровопролитной Кавказской войны Даргинская экспедиция 1845 г. явилась, пожалуй, одной из наиболее неудачных и тяжелых кампаний русской армии. Участвовал в походе и Аргутинский, командовавший Самурским отрядом. Он был из немногих опытных кавказских генералов, которые полностью осознавали все трудности и последствия данной экспедиции. В письме А. И. Нейдгарту от 1 августа 1844 г., Аргутинский выразил свое отношение к готовящемуся походу и возможным его итогам, следующим образом: «Ваше превосходительство, намереваясь сделать движение в горы, конечно, изволите предполагать не больше, как поиск, с целью уничтожить средства Шамиля к ведению войны, а главное иметь случай уничтожить скопища его, если бы он, встретясь с войсками нашими, решился дать бой. После этого, войска должны будут возвратиться, очистив совершенно страну, в которую предполагается сделать вторжение»38. При этом Аргутинский указывал, что продвижение русских войск вглубь территории горцев, сопряженное с трудностями по доставке продовольствия наступающим войскам, будет также затруднено пересеченной местностью и враждебным отношением к русским местного населения. По возвращении же русские понесут еще большие потери со стороны горцев, которые не упустят возможности атаковать небольшие разрозненные отряды отступающих русских войск: «Неприятель, по мере движения нашего вперед, будет отступать вглубь страны, хотя, конечно, терпя урон от бою, но не расстраиваясь совершенно... Движение наше в глубь страны будет зависеть от запасов продовольствия, которые будем иметь с собою, но во всяком случае должно будет прекращено, так сказать, в виду более или менее сильного неприятеля, который по возвращению нашем не упустить случая преследовать войска наши, к чему также будет много способствовать большая его подвижность»39. Не правда ли, прогноз Аргутинского как бы предугадывает исход и Даргинского похода, и знаменитой «сухарной экспедиции», и трагическую судьбу русских солдат и офицеров, павших в этих боях, к примеру, известного генерала Пассека и многих других? Впрочем, на этом доклад генерала не заканчивался. В продолжении Аргутинский давал картину того, какое стратегическое значение могли бы иметь последствия готовящейся Даргинской экспедиции для дальнейшей ситуации на Северном Кавказе и планов русского командования: «Таким образом, край, в который мы сделаем вторжение, будет опять оставлен нами. Кроме некоторого разорения, которому подвергнутся жители, средства неприятеля, заключающиеся в его вооруженных силах, останутся без большого изменения... Наступательное движение наше в Аварию, Гумбет и Андию и возвращение оттуда без всяких по вероятности решительных результатов не может произвести выгодного для нас впечатления, как в жителях, занятого ныне неприятелем края, так и во всех жителях Дагестана, ныне нам покорных»40. Вместе с тем командир Самурского отряда в своем письме подчеркивал, что, несмотря на эти трудности, «уверенный в войсках вверенного мне отряда, смело могу сказать, что войска сделают все, что от них будет требоваться. Более сильное сопротивление неприятеля увеличит только потери храбрых... Остается только решить, будут ли потери эти соответствовать последствиям этой экспедиции»41. На самом деле, итоги Даргинского похода, как известно, оказались намного более тяжелыми для русских войск, чем даже предполагалось. Около 4 тысяч человек было убито и ранено, среди них известные генералы, потеряно большое количество снаряжения, а престижу и авторитету России среди горцев был нанесен серьезный урон. Однако результаты похода заставили русские военные власти и самого гр. Воронцова, малознакомого со спецификой ведения боевых действий на Северном Кавказе, изменить общую стратегию войны в незнакомых и труднодоступных кавказских горах и вернуться к длительной, но верной, «ермоловской42» тактике осады «крепости Кавказ», которая предусматривала постепенное строительство укреплений, дорог, рубку леса и медленное продвижение в глубь Дагестана и Чечни43. Замечания Аргутинского в конце его доклада по поводу последующих действий демонстрируют глубокое понимание генералом сложившейся военной ситуации: «Для совершенного упрочнения завоеванного уже края, если вы не имеете намерения продолжать военные действия далее в горы, чтобы там утвердиться, то, по моему мнению, необходимо устроить Гергебильское укрепление, как пункт, соединяющий Кумух и Темир-Хан-Шуру, могущий служить пунктом опоры войскам, имеющим действовать для прикрытия Шамхальской плоскости, Мехтулинских владений, Цудахары и Акуши.. Разработка дорог от Гергебиля к Темир-Шан-Шуре, Кумуху и на прямое сообщение с Дербентом, также по-моему мнению, есть предмет первостепенной важности»44. Недооценка значения Гергебиля со стороны русского командования в период после Даргинской экспедиции привела к тому, что войска Шамиля сами заняли и укрепили имеющий важное значение для организации и обеспечения боевых действий пункт, так что следующие 2-3 года одной из основных задач русских в Дагестане стала нейтрализация этого укрепления. ОСНОВНОЙ ПРОТИВНИК ШАМИЛЯ В ходе Даргинской экспедиции Самурский отряд, несмотря на общую неудачу русских войск, смог в целом решить поставленные командованием задачи. Удачные бои отряда против горцев на фоне тяжелых потерь, понесенных русской армией в других районах, повысили авторитет кн. Аргутинского, одного из немногих командиров того периода, кто практически не потерпел поражений в боях против горцев. За успешное проведение кампании 1845 г. М. З. Аргутинский получил звание генерал-лейтенанта русской армии. С 1 января 1847 г. он был назначен Дербентским военным губернатором, а в ноябре того же года – командующим русскими войсками и управляющим гражданской частью в Прикаспийском крае45. Примечательна оценка деятельности Аргутинского в этот период со стороны его непосредственного командира - наместника Кавказского и главнокомандующего Кавказским отдельным корпусом генерал-фельдмаршала князя М. С. Воронцова, героя Отечественной войны 1812 г., человека, имя которого вошло как в военную историю России, так и в летопись покорения и освоения Российской империей Кавказа в первой половине XIX века46. В письмах к бывшему «проконсулу Кавказа» А. П. Ермолову (давнишнему другу наместника еще со времен наполеоновских войн) М. С. Воронцов так характеризовал М. З. Аргутинского: «Аргутинский настоящий генерал, имеет большие способности, большой навык, обыкновенно счастлив на войне и знанием края, языков, и общею доверенностью и наших войск и туземной милиции, он незаменим в том важном месте, где теперь начальствует»47. Что касается отношения самого «проконсула» к Аргутинскому, в судьбе которого он сыграл в свое время важную роль, то можно заметить весьма любопытную эволюцию взглядов Ермолова относительно военной и административной деятельности князя Моисея Захаровича на Северном Кавказе. Как известно, Ермолов, после своего отъезда с Кавказа не переставал интересоваться страной, обязанной ему своим развитием, и регулярно получал оттуда известия, благодаря которым он, правда, с характерной для него скептичностью, давал весьма точные оценки происходящим событиям, относящиеся, в первую очередь, к ходу войны с горцами и характеристике русских военачальников. В феврале 1846 г. в письме Воронцову А. П. Ермолов пишет: «Аргутинскому ты приписываешь достоинства и способности, каковые редко находились в самых отличнейших полководцах. Говоришь, что он никем не заменим в краю, где он начальствует, что к нему общая доверенность и наших войск, и туземцев. Как сметь что-либо сказать вопреки убеждению начальника известного проницательностью, и особливо мне ли позволительно иметь мнение, когда я совсем не знаю князя Аргутинского, а дела его знаю из отзывов других? Но многие согласиться с простым рассуждением моим, что небесполезен иногда взгляд старшего за действиями частных начальников, распоряжающих произвольно и с тою же непринужденностью описывающих свои изумительные подвиги. Право, не приметишь, как они пролезут в герои, а там, что менее Грузии дать в команду прославленному?»48. Такое впечатление, будто в словах А. П. Ермолова проскальзывает намек на широко известный «опыт» его взаимоотношений с И. Ф. Паскевичем после побед последнего в начале русско-персидской войны 1826-1828 гг. Однако постепенно А. П. Ермолов убеждается, что его первоначальное мнение о способностях М. З. Аргутинского было чересчур предвзятым. 31 августа 1846 г. он уже пишет М. С. Воронцову: «Не знаю, почему вздумал ты, что я не люблю Аргутинского. Я вижу в нем человека полезного, сторону в которой он употреблен лучше знающего, нежели все другие начальники, также как и народы, против которых он действует. Ни у кого нет людей, доставляющих вернейшие сведения. Знаю и многие другие свойства похвальные, которые ты в нем заметил... Также не могу и до того быть безрассудным, чтобы не почитать его весьма полезным для службы в краю, где перед многими имеет он чрезвычайно большие преимущества; но в то же время не боюсь впасть в большую погрешность, не находя в нем тех свойств, которые могли бы Тюрену и Вилларду служить украшением»49. Многолетняя успешная боевая служба Аргутинского в Дагестане окончательно изменила мнение о нем бывшего «проконсула Кавказа». В своем очередном письме наместнику, датированном 14 февраля 1849 г., когда после ряда блистательных побед армянского генерала его военный авторитет уже никем не ставился под сомнение, Ермолов отмечал: «За князя Аргутинского ручаются и прежние его дела и совершенное знания края; против военных его способностей никто не говорить ни слова, и за эту страну ты можешь быть покоен»50. В многолетней боевой службе Аргутинского на Северном Кавказе выделяется кампания 1847 г., ознаменованная штурмом и взятием важного горского укрепления Салты, являвшегося ключевым пунктом в системе горских укреплений Дагестана. В ходе штурма этого аула 14 сентября генерал-лейтенант Аргутинский получил ранение в голову, когда лично вел солдат в атаку. И даже несмотря на это, он остался в строю вплоть до окончательного занятия Салты русскими войсками. Согласно воспоминаниям очевидцев, «князь Аргутинский, находясь в сфере сильного неприятельского огня, восторженно взирал на героические подвиги солдат и милиционеров51 и спокойно направлял то туда, то сюда своих адъютантов и ординарцев, с короткими и всегда решающими приказаниями. Но вдруг, он запнулся на слове, пошатнулся, и слабая струя крови пошатнулась на грудь с его лица. Первым побуждением героя было – отереть лицо ладонью и не показать вида, что и он также уязвим; но затем, убедившись, что его щека прострелена и требует перевязки, наконец, уступил требованиям окружавших его лиц... и на время уступил начальствование войсками начальнику главного штаба генерал-лейтенанту Коцебу»52. В своем приказе по Кавказскому отдельному корпусу от 12 сентября 1847 г., по случаю взятия войсками Дагестанского отряда укрепления Салты, главнокомандующий князь М. С. Воронцов указывал: «В этом приказе никого называть не могу, ибо имен было бы слишком много, - я назову их в последующих приказах; одно только имя нераздельно с составом отряда и не может быть здесь умолчено: генерал-лейтенант Аргутинский-Долгорукий был во все время подо мною общим начальником отряда; шестую кампанию в Южном Дагестане он постоянно ознаменовывает себя блистательными и полезными действиями; его благоразумным распоряжениям, его знанию края и полной доверенности к нему от всех жителей оного... наконец, во всех делах против неприятеля, во всех наших экспедициях он показывал постоянно примеры благоразумной распорядительности и совершенного самоотвержения... не могу довольно изъяснить всего и сколько я чувствую к нему признательности и душевного уважения»53. По представлению наместника, за взятие Салты М. З. Аргутинский был награжден орденом «Белого орла». В одном из писем М. С. Воронцову А. П. Ермолов также по достоинству оценивал действия Аргутинского по взятию Салты: «Я уверен, что из князя Аргутинского ты извлек большую пользу, ибо лучше его никто не знает этой местности и относящихся до края обстоятельств, чему кроме способностей его, способствовал долговременный опыт. Ты видишь, что я отдаю не только должную справедливость, но даже знаю сколько трудно заменить его»54. Однако кампания 1847 г. не ограничилась только занятием укрепления Салты и осадой Гергебиля. Не успели войска основного отряда разойтись в места постоянной дислокации для отдыха, как новые отряды горцев вновь вторглись в контролируемые русскими территории со стороны Унжугатльского и Вицхинского магалов. Главный действующий корпус русских войск - Дагестанский отряд, теперь уже под непосредственным командованием Аргутинского, 10 ноября выступил из Темир-Шан-Шуры и направился к Акуше для оказания помощи осажденному войсками Шамиля Цудахару. После его деблокады войска Дагестанского отряда направились далее в Вицхинский магал, где после ряда успешных стычек с горцами заняли несколько аулов55. Следующий, 1848 г. был ознаменован новыми победами Аргутинского. Так, он командовал русскими войсками при взятии Гергебиля, затем отряд генерала деблокировал русское укрепление Ахты, одержав победу над отрядами Шамиля в сражении у аула Мискинджи. Итоги первой, неудачной для русских войск, осады сильно укрепленного Гергебиля в 1847 г. вынудили командование Кавказского корпуса более тщательно подготовиться к его новому штурму. На сей раз Аргутинский и не намеревался быстрым натиском выбивать мюридов из аула. Он, в течение пяти дней, с 9 по 13 июня 1848 г., производил только рекогносцировку аула. Окончательно укрепление было окружено только после занятия селения Аймяки 5 июля. Началась массированная бомбардировка Гергебиля: 18 часов подряд по укреплению стреляли 8 мортир, 11 батарейных и 6 легких орудий. Гарнизон не выдержал и очистил укрепления, но большая часть мюридов была перебита при попытке прорваться через линии осаждающих. 7 июля 1848 г., через месяц после подхода русских войск к Гергебилю, аул был занят и разрушен56. Уничтожение Гергебильского укрепления имело важные последствия для дальнейшего хода войны с Шамилем. Лишившись пункта, из которого постоянно совершались набеги на Даргинский округ и Мехтулинское ханство, имам был вынужден теперь собирать свои силы или по левую сторону р. Кара-Койсу, или у селений Араканы и Кодух, что удаляло их от тогдашней границы контролируемых русскими районов. Поэтому горцы, в случае преследования войсками Кавказского корпуса, ставились в затруднительное положение, так как уже были лишены опорного пункта при переправе через р. Кара-Койсу. Одновременно с занятием Гергебиля, русские войска получили возможность постройки в этом районе собственного укрепления, местом которого, по настоянию Аргутинского, было выбрано селение Аймяки57. Падение Гергебильского укрепления не сломило упорство мюридов Шамиля. В конце августа 1848 г. появились сведения, что войска горцев во главе с Даниэль-беком, к которому несколько позднее присоединился и сам Шамиль, вошли в район Самурского ущелья, где к ним примкнула часть местного населения. Вскоре большинство селений, расположенных вдоль реки Самур, было занято мюридами. Однако дальнейший путь из ущелья горцам преграждало русское укрепление Ахты, которое 14 сентября было осаждено войсками Шамиля. Князь Аргутинский, узнав об осаде укрепления, с небольшим отрядом войск, бывших в его распоряжении, поспешил на помощь гарнизону Ахты. Тем временем Шамиль предпринял ряд неудачных штурмов, однако силы гарнизона были уже на исходе, и он не мог более держаться. Внезапно 23 сентября, к удивлению защитников укрепления, Шамиль неожиданно снял осаду и спешно отступил в горы. Объяснялось это тем, что 22 сентября, в день последнего штурма, Аргутинский разбил при Мискинджи войска Шамиля, и имам, опасаясь удара в тыл, был вынужден прекратить осаду и отступить. Вскоре гарнизон Ахты встречал уже отряд войск под командованием Аргутинского58. За взятие Гергебиля Аргутинский первым среди армян был удостоен звания генерал-адъютанта русской армии (кстати, к началу XX в. всего лишь около 60 военачальников русской императорской армии удостаивались этого почетного звания). А за победу при Мискинджи князь получил орден Св. Александра Невского59. В своем рапорте императору Николаю I-му от 6 октября 1848 г. М. С. Воронцов писал: «Решительное движение генерал-адъютанта кн. Аргутинского и смелая атака неприятельской позиции близ селения Мискинджи представляют новый пример военных способностей и достоинств этого генерала»60. Более лаконична, но не менее точна характеристика, данная Ермоловым в письме М. С. Воронцову от 1 ноября 1848 г. «Князь Аргутинский и войска под его начальством действуют славно!»61. За успехи в период долгой службы на Северном Кавказе Моисей Захарович получил в Дагестане прозвище «Самурский лев». Аргутинскому была присуща особая изобретательность в методах и способах ведения горной войны. Например, в 1849 г. при подготовке осады русскими войсками укрепленного селения Чох в горном Дагестане, он приказал доставить из арсенала Ереванской крепости 2 тяжелых 24-фунтовых осадных орудия для разрушения стен укрепления – довольно редкий, если не единичный случай применения тяжелых осадных орудий такого калибра в горных условиях при боевых действиях того времени. Несмотря на то, что было чрезвычайно сложно доставить эти орудия из Ереванской крепости в Дагестан, князь особо настаивал на этом, убедив наместника Кавказа М. С. Воронцова, что «в войне с горцами каждый год надобно что-нибудь новенькое»62. Сама осада аула Чох войсками под командованием Аргутинского началась 5 июля 1849 г. Вскоре войска начали усиленную бомбардировку Чоха, с применением тяжелых осадных орудий. К 22 августа аул был почти полностью разрушен, однако на этот раз Аргутинский не пошел на штурм Чоха, посчитав, что не стоит терять людей из-за захвата «груды камней», в которое было превращено горское селение63. В последующие годы русские войска в Дагестане под командованием генерал-адъютанта Аргутинского продолжали вести успешные бои против горцев Шамиля, медленно, но планомерно сжимая кольцо вокруг противника и продвигаясь вглубь его территории. Наградой за эти бои стал орден Св. Владимира 1-й степени, присвоенный Аргутинскому в 1851 г. Каждый год Аргутинский собирал войска в районе Турчидага (Гамашинские высоты), своей любимой стоянки, с вершин которой открывался восхитительный вид на окрестные горы. Находясь почти на высоте 8 тыс. футов над уровнем моря и будучи с двух сторон окружен реками (Кара-Койсу и казикумыхский Койсу), Турчидаг выделялся здоровым климатом, а в стратегическом отношении был важен тем, что лежал почти посередине между Северным и Южным Дагестаном и на своем широком плато площадью около 15 кв. км, мог вместить почти 25 тыс. войско. Этих факторов было вполне достаточно, чтобы Турчидаг стал главным местом сбора Дагестанского отряда накануне каждой кампании Аргутинского. Оттуда русские войска начинали свои боевые экспедиции, работы по строительству укреплений и дорог, рубили просеки в лесах, все глубже продвигаясь в горы Северного Кавказа. Одновременно началось все больше и больше проявляться внутреннее ослабление самого имамата Шамиля, что сказывалось на результатах его боев с русскими войсками. К примеру, в июне 1851 г. Шамиль, пользуясь тем, что главные силы Кавказского корпуса были сосредоточены в Чечне, в последний раз сделал попытку овладеть Казикумухом. Имам с главными силами выдвинулся к аулам Чох и Сугратль, а салтинского наиба Омара направил в Табасарань и Кайтаг. Затем он поднялся в район Турчидага, но 19 июня был разбит там войсками М. З. Аргутинского. До середины июля Шамиль продолжал занимать Турчидаг, пока 12 июля не был повторно разгромлен. Еще раньше, 22 июня, был разгромлен его наиб Омар, и Шамилю стало ясно, что необходимо окончательно отказаться от попыток занятия Казикумуха. Имам все же предпринял попытку поднять восстание против русских в Кайтаге и Табасарани, для чего направил туда самого решительного и известного из своих наибов – Хаджи-Мурата. Однако надежда на восстание в Табасарани провалилась: местное население, на фоне побед русских войск и увеличивающегося разложения внутри самого имамата, перестало поддерживать Шамиля, и к Хаджи-Мурату присоединилась лишь небольшая часть жителей этой области. Вскоре подошел отряд Аргутинского, и в боях 21-24 июля 1851 г. Хаджи-Мурат был разбит, с трудом прорвавшись обратно в горы64. Победы М. З. Аргутинского способствовали не только заметному усилению позиций русских войск к началу 50-х гг. XIX в. в Дагестане, но и в целом в восточной части Северного Кавказа. Они непрерывно подтачивали военную мощь шамилевского имамата, став причиной углубления и без того серьезных разногласий среди военно-политической верхушки горцев, особенно между Шамилем и его ведущими наибами. После разгрома М. З. Аргутинским Хаджи-Мурата в июле 1851 г. в Кайтаге, имам обвинил своего наиболее удачливого и способного наиба в трусости и отстранил его от должности. Это привело к расколу среди горцев, т. к. в противостоянии Шамиля и Хаджи-Мурата большинство аварцев поддерживали последнего. Все это, в конце концов, привело к переходу Хаджи-Мурата на сторону русских и его гибели65. ПОСЛЕДНИЕ БОИ «САМУРСКОГО ЛЬВА» С началом Крымской войны 1853-1856 гг. положение русских на Северном Кавказе вновь осложнилось. Многие части были переброшены в Крым для боев с союзниками или на границу с Турцией, а горцы, воодушевленные войной европейских держав против России, активизировали свои набеги на русские укрепления и владения на Кавказе. В конце лета 1853 г. крупные силы Шамиля вторглись в Джаро-Белоканскую область, намереваясь далее продвигаться в направлении Кахетии. Малочисленные отряды Лезгинского отряда с трудом сдерживали атаки горцев. Требовалось подкрепление, однако практически все войска Кавказского отдельного корпуса были посланы на турецкую границу. Казалось, остановить атаки многочисленных отрядов Шамиля не удастся, но внезапно с тыла появился «бич Дагестана, знаменитый герой Кавказа, генерал-адъютант Аргутинский-Долгорукий. Совершив неимоверно быстрое движение или, так сказать, суворовский поход через хребет исполинских гор, князь Аргутинский, как грозный признак, готовился предстать перед Шамилем»66. Узнав о неожиданном появлении Дагестанского отряда под командованием знаменитого «Аргута», Шамиль, поначалу не поверивший в возможность такого перехода русских войск (имам заявил своим наибам, что «даже Аргутинский не мог пройти там, где никто и никогда не ходил»), был вынужден вскоре отступить обратно в горы. Серьезная опасность, угрожавшая русским войскам Кавказского корпуса, ожидавшим в то время с фронта наступления многочисленной турецкой армии, была ликвидирована. Переход Аргутинского через Главный Кавказский хребет в тяжелых зимних условиях имел большой резонанс по всей России, особенно на фоне неудач, которые терпели русские войска в Крымской войне, и достойно завершил военную карьеру прославленного армянского генерала. Как отмечал его современник граф В. А. Соллогуб: «Генерал Аргутинский-Долгорукий, недавно, к сожалению, утраченный Кавказом, нигде и никогда не был разбиваем и никто не может доказать мне противного. Он был человек испытанной храбрости, соединенной с редким благоразумием; он глубоко постигал горскую войну и никогда не вдавался в обман. Этот генерал заключил свое продолжительное поприще дивным переходом чрез вечные снега Кавказского хребта, и этот переход вполне может быть поставлен наряду с походами Суворова и Наполеона I-го»67. Под началом М. З. Аргутинского выросла целая плеяда выдающихся русских полководцев. По большому счету почти все крупные полководцы русской армии, с начала 40-х гг. XIX в. воевавшие против горцев в восточной части Северного Кавказа (особенно в Чечне и в Дагестане), в разное время служили вместе с ним или под его командованием. Среди них князь А. И. Барятинский (впоследствии наместник Кавказа), который занятием аула Гуниб в 1856 г. закончил покорение Северо-Восточного Кавказа и взял в плен Шамиля; генерал от инфантерии граф Н. И. Евдокимов, который взятием укрепления Ведено завершил покорение горной Чечни; генерал-майор Э. И. Тотлебен, известный как один из организаторов обороны Севастополя в годы Крымской войны, и многие другие. Особо подчеркнем, что такие знаменитые армянские полководцы русской армии, как генерал-адъютант И. Д. Лазарев, генерал-адъютант, генерал от кавалерии граф М. Т. Лорис-Меликов, генерал-майор И. И. Корганов и другие, тоже начинали свою военную карьеру под началом князя Аргутинского. Сыновья А. П. Ермолова также служили под командованием армянского генерала, и бывший главнокомандующий Кавказа не раз отмечал, что под его началом они смогут по достоинству проявить себя68. Один из видных армянских офицеров Кавказского корпуса князь А. Бектабеков, многие годы служивший вместе с М. З. Аргутинским-Долгоруким на Северном Кавказе, писал: «Князь Аргутинский, соединяя в себе прекрасные качества души, ума и сердца, был одним из справедливейших, проницательнейших и бескорыстнейших людей, он презирал лихоимство, взяточничество и незаслуженную протекцию. Князь умел выбирать и ценить способных и дельных людей. Свои планы и намерения в военных действиях он скрывал весьма тщательно. Отсюда-то явилась поговорка: «куда пойдет Аргутинский – знает только он сам и его коротенькая трубочка». Моисей Захарович был молчалив, задумчив и изредка подшучивал... Он был очень справедлив и строг в отношении к себе и другим; жители, нижние чины и вообще все его подчиненные, от генерала до солдата, и даже сами неприятели, хотя и боялись его, но вместе с тем уважали и любили... Князь Моисей Захарович, имея отличный природный ум, в продолжении службы сам усовершенствовал свое образование: он много читал, знал почти наизусть историю знаменитых полководцев, говорил свободно на пяти языках: русском, французском, грузинском, армянском и татарском. Князь отличался твердым характером, непреклонною волею, прямодушием и беспристрастием, подчас был и упрям; при этом владел особенною способностью узнавать людей – все окружавшие его были лица, проложившие сами себе дорогу своими дарованиями»69. Высокую оценку деятельности Аргутинского на Кавказе дает и дореволюционнная военная историография. По словам известного русского военного историка, начальника Военно-исторического отдела Кавказского военного округа, генерал-майора В. Потто: «Аргутинский представляется бесспорным авторитетом в военном деле»70. Многолетние трудные походы, особенно его знаменитый переход через Кавказский хребет, серьезно подорвали здоровье князя Моисея Захаровича. Свои последние дни он провел в родном Тифлисе, где врачи безуспешно боролись за его жизнь. Весть о смерти Аргутинского глубоко потрясла общественность Тифлиса. В день его похорон 22 февраля 1855 г., при многотысячном стечении народа, в Тифлисском Ванкском кафедральном соборе состоялось отпевание, которое совершил сам глава Армянской Апостольской церкви католикос Нерсес Аштаракеци. Согласно завещанию князя, он был похоронен в фамильной усыпальнице Аргутинских-Долгоруких в Санаинском монастыре. ЗАКЛЮЧЕНИЕ М. З. Аргутинский сочетал в себе подлинного «коренного» кавказского офицера русской императорской армии, как военного профессионала и заботливого командира, внимательного к своим солдатам и подчиненным, так и талантливого администратора, понимавшего и уважавшего национальные особенности и характер горцев, что и было залогом успехов ведомых им войск. Как точно подмечает один из современных российских историков: «Именно органическое сочетание в Кавказском корпусе психологического типа офицера – романтика, рыцаря долга и имперской идеи, с преобладающим типом служилого стоицизма, и делало кавказские полки в конечном счете непобедимыми»71. Усилиями правительства и общественности Тифлиса в Дагестане был поставлен памятник армянскому полководцу. Вот как описывает этот памятник русский путешественник конца XIX века: «Перед домом губернатора, на невысоком пьедестале стоит в непринужденной позе фигура кн. Аргутинского-Долгорукого. Доблестный генерал много потрудился при завоевании Кавказа и в самый расцвет могущества Шамиля всегда являлся грозой имама. Он никогда не рисковал ни своими отрядами, ни своею репутациею спокойнейшего человека. Многим он казался медлительным, но зато в дело шел наверняка и почти не знал неудачи... В своих записках шамилевский секретарь именует князя «хитрым, настоящей лисицей». Видимо, сильно насолил горцам талантливый армянский князь»72. Памятник генералу был сооружен в городе Темир-Хан-Шура (ныне г. Буйнакск), откуда Аргутинский в течение многих лет начинал свои вошедшие в историю Кавказской войны походы в неприступные горы Дагестана. Биография князя М. З. Аргутинского выявляет одну из основных закономерностей политики русского правительства на Кавказе. Путем целенаправленного вовлечения представителей коренных народов Кавказа (в основном, армян и грузин, более близких русским по вероисповеданию и культуре) в военно-бюрократическую систему края, Российская империя облегчала себе путь к окончательному покорению Кавказа, одновременно обеспечивая эффективное управление завоеванным краем. Это, в конечном итоге, привело к более глубоким последствиям – к появлению среди кавказцев осознания имперской идентичности: местная правящая элита начала причислять себя к более широкой военно-политической, социально-экономической, а впоследствии и культурно-просветительской общности, способной эффективно претворять в жизнь интересы кавказских народов. Уже к середине XIX века, во многом благодаря усилиям наместника М. С. Воронцова и его предшественников, роль и значение «местных» кадров различного этнического происхождения и вероисповедования в «колониальном» административно-управленческом аппарате Кавказского края была весьма значительна. В некоторых сферах, например, в высшем командном составе Кавказской армии, они даже превалировали. Более того: «Российское имперское государство в собственных интересах стремилось не просто механически инкорпорировать местные социальные элиты, а органично срастить их с центральной властью и русским обществом»73. В итоге, выходцев с Кавказа стали назначать даже на высшие государственные посты Российской империи (в этом плане иллюстративна немыслимая карьера армянина М. Т. Лорис-Меликова, вошедшего в историю России под именем «бархатного диктатора»). А генерал-адъютант М. З. Аргутинский был одним из первых, кто осознавал и претворял в жизнь эту имперскую идею, являясь одновременно и ее орудием, и ее творцом. ------------------------------------------------------- 1 Подробнее об Иосифе Аргутинском-Долгоруком смотри: Лео. Овсеп католикос Аргутян (на арм. языке). Тифлис, 1902. 2 Акты Кавказской Археографической Комиссии (АКАК), т. II, с. 380-381. 3 Центральный Государственный Исторический Архив Грузии (ЦГИАГ), ф. 2, оп. 1 (1804), д. 72, лл. 85-85 об.; АКАК, т. I, с. 123-124. 4 Берзин Н. Краткий очерк служебной деятельности генерал-адъютанта, генерал-лейтенанта князя Моисея Захариевича Аргутинского-Долгорукого // Кавказский календарь, Тифлис, 1855, с. 566. 5 Сборник материалов о Персидской войне 1826-1828 гг. // Вестник Архивов Армении, 1978, №2, д. 87. 6 Бектабековы были одной из наиболее знатных и богатых армянских княжеских династий Грузии, ее представители были главными казначеями при последних грузинских царях. 7 Институт древних рукописей при Правительстве Республики Армении (Матенадаран), фонд Католикоса, папка 55, д. 56. 8 ЦГИАГ, ф. 16, оп. 1, д. 3332, лл. 33-34; д. 3536, лл. 34-35. 9 Материалы к истории Персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский сборник, т. XXVIII, д. 86. 10 Матенадаран, фонд Католикоса, 55, д. 244; Материалы... // Кавказский сборник, т. XXVIII, д. 84. 11 Берзин Н. Указ. соч., стр. 566-567. 12 Матенадаран, Фонд Католикоса, папка 55, д. 244. 13 Лазарев Е. - представитель известной армянской династии Лазаревых – основателей знаменитого московского Лазаревского института восточных языков. 14 АКАК, т. VII, сс. 608, 609, 642-644, 650-652; Центральный Государственный Исторический Архив Республики Армения (ЦГИАРА), ф. 90, оп. 1, д. 10, лл. 206 об.-207. 15 АКАК, т. VII, сс. 642-644, 650-652. 16 Российский Государственный Военно-исторический Архив (РГВИА), ф. ВУА, д. 4649, л. 106. 17 ЦГИАРА, ф. 90, оп. 1, д. 10, лл. 486-487; Матенадаран, Фонд Католикоса, папка 58, д. 292. 18 Российский Государственный Исторический Архив (РГИА), ф. 1018, оп. 3, д. 192, ч. 2, лл. 121 об.-122. 19 Гизетти А. Л. Сборник сведений о Георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий Кавказских войск. Тифлис, 1901, стр. 46. 20 Полковник Эспехо был офицером испанской армии, перешедшим впоследствии на русскую военную службу, при главнокомандующем И. Ф. Паскевиче занимался квартирмейстерской службой, участвовал в войнах в Персией, Турцией и боях против кавказских горцев. 21 Берзин Н. Указ. соч., с. 568. 22 Фон-Климан Ф. Война на Восточном Кавказе в связи с мюридизмом // Кавказский сборник, т. XVII, сс. 346-347. 23 Берзин Н. Указ. соч., сс. 568-569. 24 АКАК, т. IX, сс. 319-321. 25 Юров А. Три года на Кавказе (1837-1839) // Кавказский сборник, т. VIII, сс. 222-228. 26 АКАК, т. IX, сс. 220-221; Юров А. Указ. соч., сс. 229-231. 27 АКАК, т. IX, сс. 165-166. 28 См. подробнее: Минасян С. Участие армян Джавахка в Крымской войне 1853-1856 гг. // Вопросы истории Армении, т. 3. Ереван, 2002, сс. 49-50. 29 Чудинов В. Восстание гурийцев в 1841 году // Кавказский сборник, т. XIV, с. 247. 30 Там же, сс. 281-295. 31 АКАК, т. IX, сс. 173-174. 32 Чудинов В. Указ. соч., сс. 300-302; АКАК, т. IX, с. 175. 33 Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 до конца 1842 гг. // Кавказский сборник, т. XXXII, с. 61. 34 Гизетти А. Л. Указ.соч., с. 67. 35 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX века. Сборник документов. Редактор Даниялов Г.-А. Д., составители: Гаджиев В. Г., Рамданов Х. Х. Махачкала, 1959, с. 355. 36 РГВИА, ф. ВУА, д. 6535, лл. 47-47 об. 37 Юров А. 1844-й год на Кавказе // Кавказский сборник, т. VII, стр. 170-171. 38 А.-Д. Г. (Д. Г. Анучин). Поход 1845 г. в Дарго // Военный сборник, №5, май 1859, с. 5. 39 Там же. 40 Там же. 41 Там же, с. 6. 42 Авторство данной тактики, предусматривающей медленное и постепенное завоевание Северного Кавказа путем строительства укреплений и дорог и методичное продвижение в глубь гор, приписывается также генерал-квартирмейстеру Кавказского отдельного корпуса Вельяминову. 43 Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказская война. М., 1994, с. 482. 44 А.-Д. Г. Указ. соч., с. 6-7. 45 Берзин Н. Указ. соч., с. 573-574. 46 М. С. Воронцов еще в самом начале XIX в. служил на Кавказе под началом главнокомандующего П. Цицианова и особо отличился во взятии крепости Гянджа 3 января 1804 г. В этом бою поручик Преображенского полка граф М. С. Воронцов на своих руках вынес раненного штабс-капитана Котляревского (будущего героя Асландузского сражения), за что был награжден именной боевой шашкой. См. Указатель по Кавказскому военно-историческому музею. Тифлис, 1907, с. 113. 47 Князь М. С.Воронцов и А. П. Ермолов. Их переписка о Кавказе (1845-1847) // Русский Архив, №2, 1890, с. 178. 48 Архив князя Воронцова. Бумаги фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова, кн. 36. М., 1890, с. 282. 49 Там же, с. 316. 50 Там же, с. 391. 51 В осаде Салты кроме регулярных войск и дагестанской милиции принимали участие и ополчения, сформированные из числа других кавказских народов, в том числе армян. Из милиционеров был составлен особый отряд добровольцев («охотников»), которому предстояло первым идти на штурм укрепления. Командовал отрядом ротмистр кавалерии Мартирос Векилов, геройски погибший в ходе штурма. Он отличился еще в годы русско-персидской войны 1826-1828 гг., а в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. в звании прапорщика русской армии руководил Карсским армянским ополчением. Позднее поручик Мартирос Векилов был командиром почетного конвоя, который составлял эскорт императора Николая I-го в период его поездки в Армянскую область в 1837 г. См. подробнее: РГВИА, ф. ВУА, д. 6218, л. 21; ЦГИАРА, ф. 342, оп. 1, д. 5, л. 85; О путешествии императора Николая I-го на Кавказ в 1837 году. Сборник материалов // Кавказский сборник, т. XXXII, с. 329; Волконский Н. А. Трехлетие в Дагестане. 1847-й год. Осада Гергебиля и взятие Салты // Кавказский сборник, т. VI, с. 644-649. 52 Волконский Н. А. Трехлетие в Дагестане, 1847-й год. Осада Гергебиля и взятие Салты // Кавказский сборник, т. VI, с. 649. 53 Выдающиеся приказы Главнокомандующего Кавказским отдельным корпусом и Наместника Кавказского генерал-адъютанта князя М. С. Воронцова // Кавказский сборник, т. XXXI, сс. 19-20. 54 Архив..., с. 353-354. 55 Берзин Н. Указ. соч., сс. 576-577. 56 Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000, с. 422. 57 Волконский Н. А. Трехлетие в Дагестане. Взятие Гергебиля и геройская защита укрепления Ахты // Кавказский сборник, т. VII, сс. 536-538. 58 Граф Добровольско-Евдокимов. 1848-й год в Дагестане // Кавказский сборник, т. VI, сс. 693-721. 59 Берзин Н. Указ. соч., с. 578. 60 АКАК, т. X. сс. 491-492. 61 Архив..., с. 383. 62 Бриммер Э. В. Служба артиллерийского офицера, воспитывавшегося в 1-м кадетском корпусе и выпущенного в 1815 г. // Кавказский сборник, т. XVII, сс. 94-96. 63 АКАК, т. X. с. 495. 64 Покровский Н. И. Указ. соч., сс. 438-440. 65 Дегоев В. В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. М., 2001, с. 147. 66 Щербинин М. П. Биография генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова. СПб, 1858, с. 284. 67 Соллогуб В. А. Кавказ в Восточном вопросе. Тифлис, 1856, с. 24. 68 АКАК, т. X. сс. 317-318. 69 Бектабеков А. Воспоминания о боевой службе сапер на Кавказе и в Азиатской Азии. Тифлис, 1874, сс. 20-24. 70 Потто В. Памяти старых кавказцев. Тифлис, 1897, с. 83. 71 Гордин Я. Кавказ: земля и кровь. СПб, 2000, с. 142. 72 Кривенко В. С. По Дагестану. СПб, 1896, с. 65. 73 Дегоев В. В. Большая игра на Кавказе: история и современность. М., 2001, с. 329.
-
КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ Кто и как должен противостоять наглой тенденции глобального ограбления имиджа и славы нации? Авигдор Либерман, вице-премьер и министр иностранных дел Израиля, в канун 210-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина заявил о «еврейских корнях» его африканских предков и даже похвастался, что эту дату в Израиле празднуют более широко, нежели в России. Насколько эта раздобытая спустя многие века в эфиопских «архивах» информация соответствует действительности не так уж и важно, так как можно не сомневаться, что отныне процесс насильственной ассимиляции «солнца русской поэзии» и российского «начала всех начал» необратим. Конечно, на фоне этих притязаний на российское «наше все» заявление писателя Дмитрия Быкова, телевизионного любимца господ Швыдкого и Гордона, о «еврейских корнях» Булата Шалвовича Окуджавы, причем и с отцовской, и с материнской стороны, выглядит невинной шуткой, не достойной внимания. Однако мы убеждены, что это далеко не так. Во-первых, «открытие» сделано не в какой-то газетной статейке или в частном интервью, а в солидном исследовании, претендующем на роль «окончательной истины» в окуджавоведении, и сделано нахрапистым молодым человеком, который наверняка будет его тиражировать при каждом удобном случае. И, во-вторых, «открытие» это слишком уж соответствует модной тенденции, о которой будет сказано ниже. Корни Ашхен Налбандян Оставим вопрос о еврейских корнях Шалвы Окуджавы на усмотрение грузин, мы же попытаемся разобраться с «еврейскими корнями» Ашхен Налбандян. Причем сразу же отметим, что в случае с отцом «основанием» для заявления Д. Быкова, скорее всего, является туманное, возможно, шуточное замечание самого Булата Окуджавы в одном из поздних автобиографических произведений о том, что основатель отцовского рода в середине XIX века Павел Перемушкин был «то ли истинный русак, то ли мордвин, то ли еврей из кантонистов». Кстати, в книге Д. Быкова первые два варианта из цитаты просто выброшены, сохранен только мифический «еврей из кантонистов». В отношении же матери опровергать какие-то основания утверждения Дмитрия Быкова вообще нет никакой необходимости, поскольку у него их просто нет. Как он сам пишет: «Нет ни одного документа, прямо или косвенно указывающего на ее (матери поэта) иудейское происхождение», просто ему приходилось слышать от разных знакомых Окуджавы, что сестры Налбандян (в том числе мать поэта) были на самом деле из еврейских армян (в данном случае мы пользуемся сообщением Вигена Оганяна в газете «Ноев Ковчег» (2009, май), так как книгу Д. Быкова «Булат Окуджава» обнаружить в интернете или ереванских книжных магазинах пока не удалось). Естественно, было бы глупостью отыскивать «разных знакомых Окуджавы» или даже пытаться понять, кто такие эти никому неведомые «еврейские армяне», хотя и в этом неологизме, безусловно, заложена очередная антиармянская мина замедленного действия. Так что нам остается только, воспользовавшись поводом, вынужденно кратко изложить действительную семейную хронику армянских предков поэта. Она, несомненно, стоит того. Но прежде всего несколько предварительных слов об отношении поэта к матери, без которых в этой статье не обойтись. Ашхен Степановна Налбандян занимала огромное место в жизни сына, который, помимо сотен по случаю признаний в любви, посвятил ей как отдельные произведения (к примеру, пронзительный рассказ "Девушка моей мечты" о встрече с матерью по возвращении ее из первой ссылки в 1947 году), так и широко известные стихотворные строки: Настоящих людей очень мало, На планету совсем ерунда. На Россию - одна моя мама, Только что она может одна? Или: Но вам сквозь ту бумагу белую Не разглядеть, что слезы лью, Что я люблю Отчизну бедную, Как маму бедную мою. Жилой и доходный дом Манташева в Тбилиси по ул. Ганская, 3 (ныне Галактиона, 3/5), в котором проживала семья Налбандян В отличие от мифических «различных знакомых Окуджавы» г-на Быкова, наши источники - вполне реальные люди с конкретными именами и их домашние архивы. Это проживающие в Ереване троюродные братья Булата Окуджавы (их дед - родной брат бабушки Булата Окуджавы) - академик НАН РА Арам Паруйрович Григорян и член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук и ученый секретарь этой же академии Рубен Вазгенович Тащян. Вот что они мне поведали со ссылкой на хранящееся у них «семейное древо» и собственную память. Итак, основателем рода, о котором сохранились достоверные данные, был Вардан, проживавший в начале XIX века в Эрзруме. Сыном его был Микаэл, эмигрировавший в 1830 году в Джавахк. Сын Микаэла Казарос, проживавший в деревне Токат, женился на Вардуи, предки которой также были родом из Эрзрума. От этого брака родились Петрос, Григор и Сегбос. Для нас особый интерес представляет Григор, который был священником в Гандзе и от которого пошла фамилия Тер-Григорян. У Григора было семеро детей, из которых мы назовем только сына Сукиаса и дочь Егисапет. Сукиас замечателен тем, что, женившись на Югабер, родил в 1885 году сына Ваана - выдающегося армянского поэта Ваана Тер-Григоряна, известного под псевдонимом Терьян. У Ваана были братья и сестра, из которых упоминаем лишь Арама, у которого в свою очередь родились сын Паруйр (отец моего собеседника Арама Григоряна), и дочерей - Эмму (мать другого моего собеседника - Рубена Тащяна) и Седу (мать талантливого армянского композитора Эдгара Оганесяна). К сведению не сведущих, сообщим также, что дочь Ваана Терьяна Нвард - жена известного поэта Геворка Эмина. Переведем дыхание и вернемся к Егисапет - родной сестре Сукиаса. Эта Егисапет также вышла замуж за джавахкца Мкртича Налбандяна. От этого брака родилось четверо детей - две дочери и два сына - Степан и Аршак. У Степана в 1903 году родилась дочь Ашхен - мать Булата Окуджавы, а у Аршака в 1906 году сын - один из самых титулованных советских художников Дмитрий Налбандян. И хотя в многочисленных энциклопедических статьях и посвященных ему книгах (кроме выходивших на армянском языке) Дмитрий Аршакович неизменно назывался Дмитрием Аркадьевичем, тем не менее «еврейских корней», насколько известно, ему никто не приписывал. Тесен армянский мир. Во время нашей беседы я задал моим собеседникам вопрос: слышали ли они когда-либо о еврейских корнях их рода? В ответ братья-академики только улыбнулись. Попросил я также рассказать о своих встречах с представителями «булатовской» ветви рода. В ответ Арам Григорян рассказал следующее: «Из трех сестер Налбандян я был близко знаком с двумя - Гоар, жившей в Ереване, и Сирануш, проживавшей в Москве, ведь они были двоюродными сестрами моего отца. С Ашхен - матерью Булата Окуджавы - я знаком не был, но она меня всегда интересовала, так как я знал о его нежной любви к матери, он дольше жил с ней, нежели с отцом. С самим Булатом я познакомился так. Я сидел в ресторане Центрального дома литераторов в компании ведущих русских литературоведов, совершивших в 60-е годы переворот в мировом литературоведении - Сергеем Бочаровым и Вадимом Кожиновым. За соседним столиком я увидел Окуджаву, встал, подошел к нему и похлопал по плечу: «Делайте все, что угодно, только не делайте вид, что мы не братья». Он был взволнован. Говорит: «Простите, вы можете кого-нибудь назвать, чтобы я опознал вас?» Я назвал Лялю Мелик-Оганджанян, дочь Гоар, родной сестры Ашхен. «Это моя любимейшая сестра», - сказал он. Я пригласил Булата за наш стол. Мы прекрасно провели время. За столом я вспомнил «Грузинскую песню» Окуджавы («Виноградную косточку в теплую землю зарою...») и не без некоторой нагловатости спросил, почему она называется «Грузинская...»? Булат ответил, что эта песня могла бы называться и «Армянская...» Обо всем не расскажешь, но так произошло наше знакомство». (Здесь уместно заметить, что, вероятно, все, кому удалось познакомиться с прекрасными переводами Рафаэла Папаяна стихов Окуджавы на армянский язык, особенно в исполнении их певицей Лилит Саркисян, не могут не согласиться, что, читая или слушая песни Окуджавы на армянском, тебя не оставляет впечатление, будто имеешь дело с оригиналом, а не переводом, так «по-армянски» они звучат.) Свидетельства «Семейной хроники» Теперь предоставим слово самому Булату Окуджаве. И здесь нам нет необходимости проводить какие-то разыскания, искать документы или копаться в многочисленных интервью. На все интересующие нас и г-на Быкова вопросы Булат Шалвович ответил в созданном им в 1989-1993 гг. автобиографическом повествовании «Упраздненный театр. Семейная хроника», удостоившемся в 1994 году почетнейшей Букеровской премии. У нас, к сожалению, об этой замечательной книге мало кто знает, и это понятно - в те годы нам было не до литературных новинок. Но сейчас ее можно прочитать хотя бы в интернете, и сделать это надо обязательно, и не только потому, что в ней подробнейшим образом изложена хроника жизни детских и юношеских лет Булата Окуджавы, протекавшей преимущественно в кругу его армянской родни. В книге отсутствуют уже известные нам предки Степана Налбандяна, о которых, возможно, Булату Шалвовичу мало что было известно. Зато огромное место в хронике принадлежит деду Степану (армянскому Степану, как его называл Булат, ибо и его другого деда, грузинского, тоже звали Степан), в дом которого, по признанию самого Булата, забрасывали его, привозя в Тбилиси, безостаточно посвятившие себя строительству социализма родители-большевики, и особенно бабушке Марии (Мариам Вартановне). Процитируем один абзац из книги и не только ради содержащейся в ней информации, но и для того, чтобы напомнить читателю вкус великолепной прозы Окуджавы. «...У бабуси было пять дочерей: Сильвия, Гоар, Ашхен, Анаид, Сирануш и сын Рафик. Она вышла замуж шестнадцати лет за отменного столяра Степана. Фамилия его была Налбандян, от слова «налбанд», то есть кузнец. По-русски он звался бы Кузнецовым. Марию выдали за него с трудом, ибо она была дочерью купчишки, хоть и не слишком богатого, но все же. А жених, хоть и красивый, но столяр. Отец гневался. Бабуся ходила заплаканная. Степан (армянский Степан), сжав кулаки и губы, простаивал под ее окнами до рассвета. И дверь их судьбы все-таки раскрылась. (В другом месте книги Булат так пишет об этом судьбоносном для его семьи моменте: «Слились две реки - грузинская и армянская - перемешались их древние густые воды, не замутив течения жизни, не нарушив привычных представлений о ней»). И они вошли в нее, не оглядываясь по сторонам, не замечая чужих порядков, никому не завидуя, думая лишь о своем и ощущая себя высшими существами. Музыка их жизни не таила в себе внезапных откровений - она была традиционна и уже обжита, как древнее жилище: Мария была молчалива и покорна, Степан - грозен, величествен и вспыльчив, но вдруг мягок, и вкрадчив и отходчив. Он нависал над юной женой в минуты гнева, и его красивое и жесткое лицо становилось багровым: «Как ты могла, Маруся?! Все кончено! Все растоптано! Ничего исправить нельзя!..» Она покачивалась перед ним, закусив губы, стройная, беспомощная, едва сохраняя присутствие духа; уставившись на свою домашнюю туфельку, высунувшуюся из-под длинной юбки, считала про себя: «Мек, ерку, ерек, черс...» и так до десяти, и когда произносила «ТАСС», он начинал затухать, сникал, смотрел в окно. Тогда она как бы между прочим тихо спрашивала: «Степан, не пора ли корову кормить?» - «Конечно пора, Маруся», - говорил он мирно и буднично и отправлялся в хлев». В таком же духе развертывается повествование и далее, а упомянутые выше имена членов армянской семьи Налбандян (за исключением рано умершей Анаид) становятся главными персонажами книги, как и жизни маленького Булата, или, как он называет себя в этой книге, Ванванча. Рамки газетной статьи, к сожалению, не позволяют бесконечно цитировать книгу «Упраздненный театр. Семейная хроника». Скажем только, что она закрывает все вопросы, касающиеся армянских корней Булата Окуджавы, и дает полную возможность оценить влияние армянской родни на судьбу и творчество Булата Окуджавы. Гены, сотворяющие гениев, - национальная собственность Мы уже говорили о том, что к заявлению Д. Быкова следует отнестись серьезно и по возможности не допустить дальнейшего распространения его бездоказательных вымыслов. Ибо мы не раз были свидетелями того, как армянские корни того или иного известного деятеля, особенно смешанного происхождения, поначалу являвшиеся вроде бы общеизвестным фактом, постепенно отодвигались на задний план, а затем и вовсе переставали упоминаться. Это тема отдельного разговора. Но поскольку в нашей статье речь идет о приписывании Булату Окуджаве «еврейских корней», то приведем соответствующий пример. В авторитетной книге Александра Каца «Евреи. Христианство. Россия: от пророков до генсеков», являющейся не только изложением еврейской версии мировой истории, но и своеобразным энциклопедическим словарем-справочником о советских и российских деятелях еврейского происхождения, можно встретить и таких, чье армянское происхождение (хотя бы наполовину) несомненно. В книге, в частности, упоминаются Абрам Алиханов, Артем Алиханьян, Гарри Каспаров, Сергей Довлатов... Однако искать какого-либо упоминания об этом важнейшем факте (поскольку основным критерием отбора является национальный) в книге не найти. Примеры можно умножить, ибо тенденция здесь очевидна. Стоит ли обращать внимание? Мы часто посмеиваемся над нашей привычкой искать повсюду армянские корни, хотя сама эта привычка, если, конечно, она не переходит в болезненную манию, - вещь абсолютно нормальная и объяснимая, и не только, как утверждают, для малочисленных народов. Но ведь и противоположная крайность недопустима. Совсем недавно московское телевидение и пресса, захлебываясь от восторга, рассказывали о «русском» происхождении Анри Труайя-Тарасова, на самом деле сына армавирских армян Аслана Торосяна и Лидии Абесоломовой. Нет никаких сомнений, что со временем (уже) знаменитого писателя поделят между собой французы и русские. А армянские корни? Неужели каждый раз утешаться тем, что талантливых армян - избыток и нас не убудет. Уже убывает. Тем более что по настоящему талантливых, тем более гениальных людей много не бывает. И не следует оставлять их армянские корни на усмотрение вдов или потомков, не говоря уже об «исследователях» их жизни и творчества. Вспоминается трансляция из Москвы юбилейного вечера Микаэла Таривердиева, организованного вдовой композитора. В зале присутствовал кто угодно, но не было ни одного армянина, не было даже нашего посла-композитора. И если бы не реплика Э. Рязанова о прекрасной русской речи армянина Таривердиева, то никто за 2 часа так и не вспомнил бы ген, сделавший мальчика из армянской семьи Микаэлом Таривердиевым. Эти гены, сотворяющие гениев, - наша национальная собственность, и мы обязаны хранить память о нем. Кто и как должен противостоять становящейся все более модной и наглой тенденции глобального ограбления имиджа и славы нации? Может, предложить подумать об этом аспекте национальной безопасности новосозданной Общественной палате? А для начала вполне конкретная скромная задачка: сделать так, чтобы в музее Окуджавы в Переделкино было упомянуто армянское происхождение его матери - Ашхен Степановны Налбандян. P. S. 13 июня по телеканалу «Культура» был показан спектакль театра Елены Камбуровой «Капли датского короля». Исполнение песен Б. Окуджавы сопровождалось чтением актером Юрием Соколовым отрывков из его автобиографической прозы. Претензий к Ю. Соколову у нас быть не может, но вот что любопытно. Первая же его фраза была о грузинском происхождении Окуджавы, однако все названные и неназванные (надеемся не умышленно) герои и персонажи автобиографического текста, за исключением Л. Берия, были армяне. Но об этом никто, кроме армян, не догадался. Левон Микаелян
-
Наконец-то! Армянский МИД заявил об армянских беженцах Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с весьма важным заявлением, которого, признаться, ждали от него давно. На совместной с коллегой из ОАЭ пресс-конференции Налбандян заявил: «Вопрос о возвращении азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах не обсуждается в ходе переговоров по карабахскому урегулированию». Более того, по словам министра ИД, «подобный вопрос может быть обсужден только после полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, необходимо учесть вопрос более 400 тысяч армянских беженцев». Пожалуй, впервые за последние годы глава армянского внешнеполитического ведомства четко и недвусмысленно озвучивает позицию официального Еревана в отношении беженцев. Напомним, что все это время азербайджанская сторона усиленно муссирует вопрос возвращения своих беженцев в Нагорный Карабах, создавая при этом впечатление, будто это едва ли не главный вопрос переговорного процесса. В последние месяцы эти процессы явно форсируются со стороны не только Баку, но и самих посредников, усердно намекающих, что вопрос возвращения азербайджанцев в Арцах является одним из пунктов пресловутых Мадридских принципов. МИД Армении до сих пор практически молчал, даже несмотря на то очевидное обстоятельство, что об армянских беженцах из Азербайджана при этом не упоминалось вообще. В этом контексте, думается, заявление армянского министра ИД крайне важно, поскольку официально фиксирует позицию Еревана сразу по трем важнейшим пунктам: во-первых, в настоящее время в повестке переговоров вопрос возвращения беженцев не стоит, во-вторых, этот вопрос может быть обсужден только после полного урегулирования конфликта, наконец, в-третьих, проблема беженцев не может затрагивать только одну сторону конфликта, не учитывая интересов другой, в данном случае - армянской стороны. Достаточно существенно также, что названо число армян-беженцев из Азербайджана. Интересно, что пока, по состоянию на вторую половину дня 22 июня, в Баку заявление армянского министра никак не комментировали. М. Г., «ГА»
-
Нужно в эту тему включить дискуссию отсюда: http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=882014
-
Подчеркнутая фраза об отрезанной голове естественным образом не могла не вдохновить представителя азеротюркского меньшинства на форуме. http://www.panorama.am/am/law/2009/06/22/police/ Кстати, автор "оригинала" новости ни кто иной как Лютик Мамедов, бывший азер, а по совместительству "курдский историк" http://www.ezdixane.ru/content/view/1771/2/#jc_allComments
-
«Белый патруль» и «Русский порядок» В стране, победившей фашизм, процветает нацизм Несмотря на заверения российских властей о необходимости борьбы с ксенофобией и агрессивным национализмом, организации нацистского толка в России не только не сдают своих позиций, но и активно стремятся в российскую власть. Ультраправые радикалы России Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) ДПНИ возникло в 2002 г. после армянского погрома в подмосковном Красноармейске. Оно объединило несколько групп расистов, выступающих с жесткими ксенофобскими лозунгами. Основные требования: выселение из России мигрантов с конфискацией приобретенной ими собственности и запретом торговать на рынках; создание в регионах «добровольных отрядов из коренных жителей и сотрудников МВД по борьбе с нелегальной иммиграцией». Народная национальная партия (ННП) Идеология ННП основана на расизме, именуемом «национал-экологизм», и проповеди необходимости сохранения чистоты крови. ННП, в частности, выступает за лишение «лиц нерусской национальности или неправославного вероисповедания» российского гражданства («они могут жить как гости … или в качестве подданных»), высылку всех иностранцев, «проникших в Россию после 8 декабря 1991 года». Программа ННП почти дословно повторяет программу гитлеровской Национал-социалистической партии. Осенью 2003 г. представители ННП пытались баллотироваться в Госдуму по списку блока «Родина», однако после разгоревшегося по этому поводу скандала лидер блока Д. Рогозин вычеркнул партию из списка. Национально-державная партия России (НДПР) Изначально создавалась как широкое объединение националистических сил всех направлений. В 2002 году НДПР на сравнительно короткий срок получила всероссийскую регистрацию, которая позже была отменена Минюстом. В октябре 2005 г. НДПР вновь зарегистрировалась как межрегиональное движение «Национально-Державный путь Руси». Идеология НДПР - смесь антисемитизма, воинствующего язычества и жесткой ксенофобии. Партия Свободы (ПС) Партия активно использует идеологическое наследие нацизма. В материалах ПС Гитлер называется одним из величайших политических деятелей ХХ века, «Майн Кампф» - бессмертной книгой, все люди, не относящиеся к европеидной расе, называются «цветными подонками», «унтерменшами», «чернокожим хамлом», «цветным мусором». ПС выступает за создание жесткого унитарного государства, построенного на принципе национально-пропорционального представительства и предоставлении гражданства только представителям коренных народов России. ПС делает основной упор на борьбе с «кавказской мафией». Осенью 2005 г. ПС объявила о создании «Белого патруля» с целью очищения российских городов от «инородцев», фактически взяв на себя ответственность за несколько убийств и нападений на почве национальной ненависти. Расологи Расологами именуется группа поклонников Адольфа Гитлера - последователей Ганса Гюнтера, Людвига Вольтмана, Людвига Вильзера, Отто Амона, Жоржа де Лапужа и других «ученых», пытавшихся доказать, что в ходе развития общества более «благородные», светлые элементы занимают доминирующее положение, а «темнопигментированные» опускаются вниз, и что «белого» человека необходимо оградить от «вредоносного» смешения с «югом». Русское национальное единство (РНЕ) Лидер А. Баркашов. Печатный орган - газета «Русский порядок» и целый ряд газет в регионах. В 1999 г. по решению мэра Москвы Ю. Лужкова была аннулирована регистрация РНЕ в Москве. В декабре 2004 г. баркашовцами была учреждена «коричневая» организация «Пора!» (по образцу одноименной украинской организации). Идеология РНЕ предполагает построение корпоративного националистического государства с обязательным «национально-пропорциональным представительством». При этом сторонники РНЕ проводят прямые параллели между современной Россией и Германией 1930-х, именуя приход Гитлера к власти реакцией … на национальные унижения. Скинхеды Это не столько организация, сколько неонацистское уличное движение. По оценкам независимых экспертов, к настоящему моменту в России около 50 тыс. скинхедов (для сравнения: по всему миру, исключая Россию, их число составляет не более 70 тыс. человек). Основная масса бритоголовых - подростки 13-20 лет, объединенные в группировки по 3-10 человек. Скинхеды, по их собственному определению,- «солдаты Третьей мировой войны - войны, в которой белая раса победит или погибнет». Практически все нападения и убийства на почве национальной ненависти - дело рук скинхедов. Со скинхедами, в частности, сотрудничают ДПНИ, НДПР, ННП, Партия Свободы, Славянский союз. Славянский союз (СС) Организация бывших баркашовцев, в 2001-м вышедших из РНЕ. Название организации лидер Славянского союза Д. Демушкин сокращает до аббревиатуры СС, явно отождествляя ее с эсэсовцами Гитлера. Отделения СС действуют в Москве, Калуге, Костроме, Мурманске, Твери, Тюмени. Беляев Юрий В 1982-93 гг. работал в Управлении уголовного розыска ГУВД Ленинграда. В 2005 г. выступил с инициативой организации т. н. «Белого патруля», занимающегося чисткой российских городов от «наглых пришельцев с Кавказа». Лично признавался в организации «волны антикавказских настроений», неоднократно направлял властям обращения с призывом к депортации «преступных кавказских элементов». Иванов-Сухаревский Александр В националистическом движении участвует с начала 1990-х. В 1995 г. основал и возглавил Народную национальную партию. Созданная им идеология, получившая название «русизм», проповедует категорическое неприятие людей нерусской национальности. На ряде митингов в начале 2000-х выступал с лозунгом «Смерть кавказцам и жидам!». Корчагин Виктор В конце 1990-х стал издавать газету «Русские ведомости» (закрыта в 2002 г.), вокруг которой сложился оргкомитет Русской национально-демократической партии (РНДП). Разжигает кавказофобию, требует депортации уроженцев Кавказа и евреев из России. Проханов Александр Писатель, публицист. Проповедует идею превращения России в «евразийскую империю». Характерная цитата из статей Проханова: «Кавказцы покорили Москву. Они сложились в закрытые непрозрачные мафии, феодальные, жестко управляемые сообщества, куда не проникнет ни единый русский...» «Собеседник Армении»
-
Геополитическая ловушка для Азербайджана С начала весны текущего года мы имеем возможность наблюдать за пикированием заведующего отделом внешних связей аппарата президента Азербайджана Новруза Мамедова против Америки вообще и отдельных представителей США в частности. В том числе и против Мэтью Брайза, возможного будущего посла США в Азербайджане, ныне довольствующегося ролью директора Грузии, главного трубопроводчика в регионе Ближнего Востока, и, по совместительству, сопредседателя Минской группы ОБСЕ со стороны США. В отдельные периоды противостояние Мамедов vz Вашингтон достигало такого накала, что возникало ощущение наличия в кармане у Мамедова членского билета Аль Кайеды. В действительности, конечно, все объяснялось просто: Азербайджан был обижен на Вашингтон за предпринимаемые им усилия по налаживанию добрососедских отношений между Турцией и Арменией. Этим же объяснялся отказ И. Алиева вылететь на Саммит цивилизаций в Турцию. Несмотря на то, что, согласно сообщениям турецкой прессы, его по очереди приглашали Н. Эрдоган, А. Гюль и даже Х. Клинтон. Нервы у Алиева оказались крепкими, и, отказав всем им, он вместо Турции полетел в Москву. Демонстративно вызывающее поведение Алиева было настолько же понятно, насколько и забавно: у серьезных аналитиков, в том числе и в Москве и в Вашингтоне, прозападная внешнеполитическая ориентация Азербайджана никогда не вызывала сомнений. Более того, Вашингтон именно Баку, а не Тбилиси, воспринимает в качестве распахнутых ворот для входа в закавказский регион. По этой причине вся эта «строптивая» история вызывала интерес лишь с одной точки зрения: каким образом Алиев сгладит создавшееся положение? В самом деле, это надо суметь умудриться: вначале отвергнуть притязания Вашингтона и Анкары, а затем помириться с ними без больших потерь. И, судя по всему, Баку с этой задачей не справился. Несмотря на приезд в Азербайджан Эрдогана и его пламенные речи и клятвенные заверения в приверженности Турции общетюркским интересам, воспринимаемые в Баку исключительно как сохранение территориальной целостности советского Азербайджана. Процесс «примирения» начался с активного участия в обсуждениях по проектированию газопровода «Набукко». Азербайджан, превратился в активнейшего лоббиста этого проекта, предполагающего перекачку газа из Средней Азии и Азербайджана в Европу в обход России и Ирана. Более того, вначале позиционируя себя как страна, поставщик и транзитер газа, Баку затем и вовсе заявил, что способен самостоятельно обеспечит необходимое для проекта количество газа. И хотя всем было ясно, что необходимого количества газа у Азербайджана просто нет, на Западе не могли не обратить внимания на столь откровенное выражение верноподданнических чувств Баку. Собственно говоря, именно на это и рассчитывал И. Алиев. Тем не менее, широкий жест Азербайджана мало повлиял на позицию Запада и США по отношению к этой стране. Америка держит Баку и лично Алиева на жестком поводке: близко не подпускает, но и отдалиться не дает. И проводит свою политику, направленную на сглаживание противоречий между Ереваном и Анкарой. Чаяния США понятны: вашингтонские стратеги рассчитывают, что открытие границы между двумя антагонистическими государствами выведут Армению из зоны влияния России и приведут в объятия Запада. Этому способствуют и конфликтные отношения между Грузией и Россией, в результате которых экономическая связь Армении с Россией сильно затруднена. Подобная внешняя политика США на Южном Кавказе никак не может устроить Азербайджан, мечтающий о захвате не только НКР, но и Республики Армения. При этом в Баку понимают, что без могущественных союзников эта задача им не по плечу, а потому и стараются найти «однополчан» в обмен на нефть и газ. Теперь вдруг выясняется, что для Запада геополитические интересы в регионе Ближнего Востока дороже азербайджанских углеводородов. А противоречия во властном лагере Ирана дают надежду на замещение азербайджанских энергоресурсов значительно более масштабными иранскими запасами нефти и газа. Даже в случае, если подобная замена произойдет не на нынешнем этапе. Уже построенные и функционирующие трубопроводы Баку-Тбилиси-Джехан (БТД) и Баку-Тбилиси-Эрзрум (БТЭ), таким образом, превратились в некое подобие капкана, куда Азербайджан угодил «двумя ногами». Кроме того, практически с каждым днем умаляется значение все еще остающегося фантомным проекта газопровода «Набукко». Что автоматически означает снижение значимости Азербайджана для рационально мыслящего Запада. БТД и БТЭ функционируют, заблокировать их Азербайджан не может – себе дороже – значит, амбиции этой тюркской республики можно приструнить. На этом фоне решение конгресса США о выделение Нагорно-Карабахской Республике финансовой помощи в размере $10 миллионов в Баку справедливо восприняли как пощечину. В Азербайджане понимают, меньше всего это решение продиктовано беспокойством о финансовом положении динамично развивающейся НКР. Понимают и другое: подобное решение не могло бы зародиться, если бы США испытывали беспокойство по поводу внешнеполитической ориентации Азербайджана. Жесткий поводок, о котором мы упоминали, смонтирован из прочных труб и находится в опытных руках. Азербайджан лишен возможностей политического маневрирования, что красноречиво подтверждает реакция этой республики на решение конгресса США. В сложившейся ситуации все заявления и демарши Азербайджана по поводу предоставленной НКР помощи носят несколько карикатурный характер. Так, с разницей в несколько часов с заявлениями выступили МИД Азербайджана и аппарат президента этой республики. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана, устами своего пресс-секретаря Э. Полухова, заявило о своем категорическом неприятии данного решения: «Мы считаем, что односторонние действия на оккупированных территориях могут быть рассмотрены Азербайджаном как поддержка сепаратизма». В то же время из аппарата Алиева, в качестве извинения за вынужденный тон более адресованного внутреннему потребителю заявления МИДа, прозвучало: «нет никаких препятствий к приезду американского президента в Баку, и такой шаг был бы очень желателен». Администрация президента Алиева уговаривает Б. Обаму понять и простить заявление МИДа и просит о снисхождении: «нам бы хотелось, чтобы новая администрация США более внимательно отнеслась к проблемам Азербайджана». Самое примечательное: заявление озвучил Новруз Мамедов. Тот самый, с членским билетом Аль Кайеды в кармане.
-
Преступление на совести руководства Азербайджана Прокуратура и МВД Азербайджана обнаружили неопровержимые улики армянского следа в громком преступлении от 30 апреля текущего года, когда в Бакинской нефтяной академии было убито 17 человек. В тот день преступник, а судя по результатам баллистической экспертизы, все выстрелы были произведены из одного оружия – пистолет Макарова – ранил еще около десяти человек, после чего застрелился, или был убит сообщником. Покончившим с собой (или убитым) оказался некий Фарда Гадиров, гражданин Грузии, проживавший в селе Даштепе Марнеульского района. До осени 2008 года он некоторое время проживал и работал в России, затем вернулся в Грузию, где, кстати, на вполне легальных основаниях приобрел оружие, а в начале весны 2009 года перебрался в Баку. Где и совершил массовое убийство (или стал одной из жертв). Самоубийство Фарды Гадирова вызывает большие сомнения у любого мыслящего человека, и вот почему. Согласно многочисленным свидетельским показаниям, стрельба в Бакинской государственной нефтяной академии началась ровно в 9-30 утра, и продолжалась примерно 12-15 минут. Еще минут через 10 приехала полиция, которая некоторое время не могла найти убийцу. Примерно в 10-15 в одной из пустых аудиторий был найден мертвый человек в маске. А еще минут через пять руководитель пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджанской республики Эльдар Султанов заявил, что преступник уничтожен и что им оказался гражданин Грузии Надир Ширханоглу. Спустя примерно три часа тот же руководитель пресс-центра прокуратуры заявил, что преступником, совершившим массовое убийство в нефтяной академии, явился гражданин Грузии, азербайджанец Фарда Гадиров. Еще часа через два был арестован… Надир Ширхан оглу Алиев. Живым и невредимым. Больше того, Надир Алиев оказался односельчанином Фарды и проживал вместе с ним на съемной квартире в Баку. То есть так или иначе был связан с Фардой. Таким образом, всплывшее из недр прокуратуры Азербайджана имя Надира Алиева было совсем не случайным. Скажу больше: застрелившимся (или убитым) преступником должен был быть именно Надир Алиев. Ничем иным невозможно объяснить мгновенное, после обнаружения трупа Гадирова, заявление пресс-центра прокуратуры, в котором впервые прозвучало имя Надира Алиева. Однако это обстоятельство недвусмысленно указывает на то, что прокуратура Азербайджана знала о готовящемся преступлении! Знала, и не предотвратила! Исходя из пока еще неизвестных нам соображений. Версия о том, что правоохранительные структуры Азербайджана сами подготовили это преступление, не выдерживает критики по той простой причине, что в обнаруженных в Грузии, в доме Фарды Гадирова документах и видеозаписях недвусмысленно указывается на готовящийся теракт. Если, конечно, верить официальным сообщениям азербайджанских следователей. Но вот в том, что в Баку были осведомлены о планах Фарды (или Надира) сомнений не остается. Интересно, что уже после первого сообщения головотяпов из прокуратуры Азербайджана, полицейские этой республики допустили еще не один промах, указывающих на если не причастность, то, по крайней мере, осведомленность правоохранительных органов о готовящейся трагедии. Так, один из высокопоставленных полицейских чинов, восхваляя собственную службу, рассказал сотрудникам прессы о том, что усилиями полицейских был предотвращен готовящийся Фардой теракт в метро, который мог бы привести к гораздо более многочисленным жертвам. Другой полицейский поделился новостью о том, что их сотрудники следили за Фардой (!!! – Л. М.-Ш.), и он, спасаясь от неминуемого ареста, вбежал в АГНА, где стал расстреливать людей. Как бы там ни было, Фарда мертв, «воскресший» Надир Алиев арестован (что-то мне подсказывает, что он больше никогда не выйдет из заключения), взяты под стражу еще несколько человек. Среди них, как отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, Джейхун Ширинов, Ариз Габулов, Наджаф Сулейманов и другие. В уголовном деле фигурирует и некий Рашид, промышляющий поддельными азербайджанскими паспортами. Как легко можно заметить, все перечисленные люди являются закавказскими турками. Однако азербайджанские полицейские явно имели четкое и недвусмысленное задание: найти в трагедии в университете «армянский след». И, надо сказать, с «честью» справились с заданием. Им удалось выяснить, что с апреля по август 2008 года Фарда Гадиров работал в городе Подольск, в паркетном цехе завода, генеральным директором и начальником цеха которого были армяне: Александр Кочаров и Эдуард Мкртумян. То есть Фарда целых четыре месяца кормился из рук армян. Но и этого мало. Было выяснено, что кроме гендиректора и начальника цеха, на заводе работали еще 28 армян, на полном серьезе рассказывают генпрокуратура и МВД Азербайджана. В Баку давно и хорошо знают, там, где собрались свыше двух армян, следует искать террористическую организацию. Исходя из этого, мне лично непонятна граничащая с идиотизмом беспечность бакинских оперативников, не выяснивших, сколько на заводе людей, живущих с армянами в гражданском или законном браке, у кого из сотрудников завода соседи являются армянами, и т.д. Кроме того, в целях пресечения новых терактов в Баку, следовало бы выяснить, кто еще из представителей закавказских турок когда-либо работал на этом заводе? Топорная работа, надо сказать. Вернемся, однако, к теракту в нефтяной академии. Как явствует из свидетельских показаний, убийца, хладнокровно расстреливавший людей, орудовал без маски. А найденный в пустой аудитории труп Фарды был в маске! Как и почему она оказалась на его лице, еще предстоит разобраться, но уже сейчас можно утверждать: маска ввела в заблуждение работников прокуратуры, заявивших, что преступником является Надир Алиев. Вывод очевиден: согласно преступному плану, убитым должен был быть именно Н. Алиев. Не оба преступника, а именно Алиев, которому, судя по всему, каким-то образом удалось обмануть Фарду Гадирова, и заставить его застрелиться. Или самому расстрелять подельника. Столь же очевиден и другой вывод: бойню в нефтяной академии устроили власти Азербайджана. По крайней мере, с ведома властей, отчаянно нуждающихся в демонстрации политической воли. А всякие попытки сосчитать количество армян на том или ином предприятии в Подольске являются не чем иным, как данью внешней политике Азербайджанской республике, стремящейся все свои преступные деяния объяснить происками «армянских террористов». Как это было в Сумгаите, как это было в Ходжалу, как это пытаются представить и на этот раз.
-
[b]В Азербайджане задержан человек, сообщивший, что армяне планируют взорвать Девичью башню[/b]
-
Короче, любая чушка, работавшая у армян, продавшая зелень армянам, прошедшая мимо армянского магазина, посетившая армянский форум, становится потенциальным убийцей-психопатом. Зимостеник, а ты сколько азеров собираешься укокошить?
-
Настоящему грузину милее турецкий ятаган и насильственная исламизация, чем армянская школа и армянский язык. Они очень хотят умереть, при этом потащив за собой нас. Пришел бы уже второй Дро.
-
Все три предложенных Карсом варианта - отличные!
-
Арис Казинян ОККУПАЦИЯ: КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ Рассмотрение карабахской проблемы без учета историко-правовой составляющей конфликта обусловило неизбежность представления предмета противостояния в искаженном свете, в результате чего провозгласившая свою независимость НКР в настоящее время предстает на международной политической арене в качестве спорного объекта армяно-азербайджанской территориальной вражды. Именно по этой причине мировое сообщество сегодня увязывает процесс поиска путей урегулирования с соответствующей готовностью президентов Армении и Азербайджана. Игнорирование фактора Нагорного Карабаха как полноправного и первого субъекта конфликта не адекватно сути и характеру самой проблемы, и следовательно не в состоянии гарантировать справедливый и относительно прочный мир, к чему на словах и стремится международное сообщество. Переговоры относительно статуса НКР не могут и не должны вестись между Ереваном и Баку, так как независимый Азербайджан не имеет никакого правового отношения к данному вопросу. Статус Нагорного Карабаха в полном соответствии с международными и союзными правовыми положениями был определен народом НКР, который и обладает исключительным правом обращения в определенные структуры с целью достижения международного признания собственного выбора. Именно народ Арцаха и представляющее его политическое руководство - единственный истец данного производства, и если даже иск целого народа не будет удовлетворен в конкретной международной инстанции, то Азербайджан все равно не может иметь к этому какого-либо отношения. Официальный Баку, провозгласивший себя правопреемником существующей в 1918-1920 годах АДР, утратил и право на обладание советским наследством, в том числе - и над Нагорным Карабахом, который только при СССР был субъектом Азербайджанской ССР. Субъектный (автономный) статус НКАО в свою очередь обуславливает невозможность вовлечения Баку в процесс, так как Нагорно-Карабахская Республика декларировала суверенитет в соответствии со всеми международными нормами. Следовательно, Арцах является субъектом конфликта и ни в коем случае - объектом армяно-азербайджанского территориального спора. По вопросу определения его политического статуса Ереван и Баку не могут считаться правомочными договаривающимися сторонами. Игнорирование этого фактора чревато параличом переговорного процесса, очевидцами которого мы и являемся на протяжении всех последних лет. Предмет переговоров Сказанное вовсе не означает, что между Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом не должен вестись переговорный процесс. Но увязывать предмет переговоров с вопросом статуса НКР нельзя. Это две принципиально разные политические плоскости, и любая попытка их искусственного смешения изначально обречена на неадекватное развитие событий. География предмета трехсторонних переговоров объективно не может распространяться на территорию, охватывающую площадь бывшей НКАО и прилегающего к ней Шаумяновского района, которые и образуют НКР (в этой связи отметим, что 15% территории НКР до сих пор оккупировано Азербайджаном). Переговорный процесс в трехстороннем формате правомочен обсуждать вопросы, касающиеся лишь территорий, не входящих в состав НКР, и только на этой плоскости уместно говорить о возможности взаимных уступок. В данном аспекте любая попытка лоббирования формулировок типа «территории взамен на статус» недопустима и абсурдна по сути. Предметом переговоров, таким образом, должны быть семь районов вокруг НКР, которые в период развязанной официальным Баку войны против НКР и РА являлись форпостами армии Азербайджана. В настоящее время часть этих районов контролируется армянскими силами обороны, образуя пояс безопасности НКР и РА. Это именно та площадь, последующая судьба которой и должна обсуждаться в ходе трехсторонних переговоров. Пространство обсуждений Таким образом, предметом переговоров между Ереваном, Баку и Степанакертом должны стать районы, которые известны МГ ОБСЕ под следующими названиями - Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Кубатлинский, Зангеланский, Кельбаджарский и Лачинский. Названия данных районов приводятся в соответствии с советской административной схемой, которая к моменту конфликта еще оставалась в силе. Суммарная площадь упомянутых единиц составляет 8810 кв. км, или чуть больше 10% от территории Советского Азербайджана (86600 кв. км). Данный расчет в свою очередь основан на статистике предконфликтного периода, которая оставалась неизменной вплоть до осени 1994 года, когда посольство АР в РФ распространило книгу «Азербайджанская ССР - административно-территориальное деление» с указанием на площадь «оккупированных армянскими силами азербайджанских территорий». Согласно этому источнику, упомянутые выше районы занимали следующую территорию: Кельбаджар - 1936 кв. км; Лачин - 1835 кв. км; Кубатлы - 802 кв. км; Джебраил - 1050 кв. км; Зангелан - 707 кв. км; Агдам - 1094 кв. км; Физули - 1386 кв. км. Принимая во внимание тот факт, что Агдам и Физули контролируются Армией обороны НКР не полностью, а соответственно на 35% и 25% (383 кв. км и 347 кв. км), то общая площадь подконтрольных НКР территорий составляет 7060 кв. км, или менее 10% от общей площади признанной мировым сообществом территории Азербайджана. Чем в таком случае мотивируется официально провозглашаемая властями Баку цифра в «20% оккупированных территорий»? В традиционном русле Помимо сугубо пропагандистского метода округления выгодной статистики, мы имеем дело и с традиционным для Азербайджана принципом периодической перекройки административных единиц. На этот факт хочется обратить особое внимание, так как он, хотя и становился у нас предметом публикаций, но преимущественно касался периода советской истории. В данном же случае мы имеем дело с новым проявлением старой традиции. В 1999 году в независимом Азербайджане была проведена первая перепись населения и были определены новые районы республики. Официально территория страны включает 78 районов, в том числе 65 сельских и 13 городских. По опубликованным в 2000 году данным, площадь, в частности, Кельбаджарского района «составляет» уже 3054 кв. км, т. е. более чем на 1118 кв. км превосходит «бывшую» его территорию. Очевидно, что, указывая международным посредникам на факт «оккупации» Кельбаджарского района, официальный Баку сегодня имеет в виду новую версию своего административно-территориального деления. Путем осуществления таких несложных и традиционных для себя махинаций Азербайджан и пытается представить с трибун факт оккупации пятой части собственной территории. При подобном положении вещей Ереван может вполне себе позволить и отказ от дальнейших переговоров, так как предмет обсуждений меняет свои контуры в соответствии с желанием на то властей Азербайджанской Республики. Об этом следует поставить в известность самих посредников и, опираясь на данный факт, ознакомить международные структуры с историей подобных территориальных ухищрений. В рамках исторических границ Лигу Наций - предтечу ООН - весьма трудно назвать организацией, в которой уважались права малочисленных народов. Однако даже эта организация не признала поддерживаемую Турцией Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР) субъектом международного права. Причина в тех же территориальных ухищрениях, которые позволяло себе это государство уже с первых дней своего существования. В частности, Лига Наций не признала границ АДР в том виде, в котором они наносились на карту самими татарами. В «тюркской редакции» карты АДР Нахичеван и Арцах, помимо прочих «спорных территорий», также числились в ее составе. Напомним, что правопреемником именно этого непризнанного международным сообществом государства и провозгласил себя независимый Азербайджан. Отказавшись 28 августа 1991 года от советского политического наследства, Баку утратил и все свои сомнительные права не только на Арцах, но и на Нахичеван. Те махинации, которые просто не могли быть приняты Лигой Наций, нашли понимание уже со стороны большевиков в период советизации Закавказья, так как с точки зрения новой власти именно Азербайджан являлся форпостом социализма на окраинах бывшей империи. Арцах и Нахичеван были переданы Азербайджану, которому также был дан карт-бланш на перекройку региона, причем не только территориальную, но и демографическую. Уже в 1923 году от Карабаха, каким он понимался даже при принятии сталинского постановления Кавбюро от 5 июля 1921 года, были отчуждены Лачинский, Кельбаджарский, Кубатлинский, Джебраильский, Шаумянский, Ханларский, Гетабекский районы и другие территории, и на основе оставшейся площади была создана Автономная Область Нагорного Карабаха. И несмотря на тот факт, что часть отчужденных территорий была принесена в жертву виртуального образования «Красный Курдистан», их генетическая принадлежность к Карабаху практически не оспаривалась. Таким образом, те площади, которые сегодня контролируются Армией обороны НКР, не выходят за рамки Карабаха, каким он понимался в период его искусственной передачи Азербайджанской советской республике. Следовательно, переговоры на предмет политических перспектив указанных районов - это уже большая уступка со стороны армянских сторон. И опять о махинациях Осуществленные в 1921-1923 гг. махинации нашли свое продолжение и в последующем. В 1927 году 10 армянских населенных пунктов Гетабекского района были переданы Шамхорскому району. Примечательно, что все это имело место в период существования ЗСФСР, когда казалось, что для подобных переделов не должно быть особого повода. В начале 1930 г. армянское село Огер Гадрутского района было передано Физулинскому району, со смешной мотивацией – «далеко от райцентра». Село Гюлабли Мартунинского района было передано Агдамскому району ввиду того, что «местное население плохо понимает армянский». Местечко Лесное на территории Аскеранского района было выделено в качестве отдельного населенного пункта с названием Мешали. Подобные операции осуществлялись весьма часто, а абсурд заключался в том, что сам передел происходил на территории исторического Карабаха. Причем новосозданные районы вокруг НКАО представлялись азербайджанским руководством уже как нечто иное, не имеющее никакой связи с Арцахом. Примечательно вместе с тем, что волнения в отчужденных частях единой исторической территории все равно давали о себе знать. Еще в 1987 г. , за год до нового этапа карабахского движения, в селе Чардахлу (Северный Арцах) возникла напряженная ситуация в связи с решением Баку передать соседним азербайджанским селениям часть угодий этой известной армянской деревни. Подобные, и даже более радикальные меры были приняты в отношении армянского населения Нахичевана. В частности, в 1926 г. власти Азербайджана, несмотря даже на факт существования ЗСФСР, отказали армянским беженцам из Нахичевана в просьбе возвратиться в родные очаги, мотивируя отказ тем, что «Нахичеваньская АССР малоземельна». В итоге эта часть Армении был полностью тюркизирована, и армянский этнический элемент практически перестал там существовать. В ходе переговоров армянские стороны, конечно, должны привлечь внимание международного сообщества к данной теме и особо подчеркнуть, что «новая территориальная редакция», в частности Кельбаджарского района, является закономерным явлением политики Азербайджана. Потерянные территории Вопрос территорий, который, как мы отметили выше, и должен быть единственным предметом трехсторонних обсуждений - это отдельная проблема, не связанная с вопросом статуса НКР. И хотя он объективно вписывается в контекст азербайджанской территориальной агрессии против армянского народа, однако его развитие имеет свою специфику и историю. Отторжение армянских земель в пользу Азербайджана происходило не только за счет перекройки площадей Арцаха и Нахичевана, но и непосредственно - Советской Армении. В частности, постановление Президиума ЗСФСР от 18 февраля 1929 года передало Азербайджану территорию в 4739 кв. км, до этого принадлежащую Арм. ССР (площадь которой составляла 34539 кв. км). Любопытно, что на изданных в 1926-1928 гг. картах (Атлас СССР, Москва, 1926 год; Большая Советская Энциклопедия, Москва, 1926 год; Карты Военно-технического ведомства Красной Армии, Ростов-на-Дону, 1926-1928 гг.) Армянская ССР и АОНК (Автономная область Нагорного Карабаха) имеют общую и достаточно длинную границу именно в районах Кельбаджара и Лачина. (Кстати, тот же Арцвашен был потерян не в августе 1992 года, а гораздо раньше, когда, будучи одним из приграничных армянских сел, он вдруг стал анклавом в Азербайджане. В середине ХХ столетия арцвашенские угодья были отобраны под азербайджанское землепользование, в результате чего деревня и стала островком армянской республики в Азербайджане. На картах 1970-1980 гг. он уже определялся как анклав. В то же самое время в пользу Нахичеванской АССР была урезана территория в Араратском районе Армении (село Кярки), оформившее свой «азербайджанский статус» на картах эпохи развитого социализма.) Очевидно, что обсуждая вопрос Лачина и Кельбаджара, связывающих сегодня НКР и РА, необходимо особо указать и на факт их силового отторжения от Армянской ССР. Позиция РА относительно невозможности анклавного существования НКР помимо прочих и не менее важных аргументов должна базироваться и на данном факте, в отношении которого существует документальная информация. Вопрос территорий обречен таким образом рассматриваться в отдельной плоскости, с привлечением всех необходимых данных. Важно также подчеркнуть, что азербайджанская территориальная агрессия имела место и в последующие десятилетия. В последние годы СССР Если официальный Баку отказывается от советского наследства, то он, помимо прочих территорий, обязан вернуть РА и 506 кв. км, «приватизированных» им уже в последний период советской власти. В конце 1960 гг. крестьянами азербайджанского села Кямарлу (Казахский район) были присвоены 700 га леса и пахотной земли армянской деревни Довех (Ноемберянский район). Причем на этих территориях находились и средневековые кладбища армян. В 1970-1980 годы «Довехский вопрос» весьма часто вносился в повестку обсуждений, однако каждый раз «во избежание межнациональных столкновений» не находил своего решения. В 1984 году им занимались лично Карен Демирчян (первый секретарь ЦК КП Армянской ССР) и Владимир Мовсисян (заместитель председателя Совета Министров Армянской ССР), причем было доказано, что за прошедшие десятилетия у армян было отнято около 2100 гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий, отмеченных на картах 1920 гг. в качестве армянских. В Москве «Довехская папка» нашла свое «разрешение», однако лишь на карте. Земли формально были возвращены Армении, но на самом деле азербайджанцы продолжали использовать эти территории. Более того, в районе села Баганис-Айрум выросли новые азербайджанские дома, скотные дворы и фермы. Нарушилась граница и у церкви Сурб Аствацацин в Воскепаре. В 1970 гг. Армянская ССР в районе ноемберянского села Коти потеряла еще 700 га территорий, переданных азербайджанской деревне Ташсалахлор. Площадь эта имеет большую историческую ценность: у подножия одной из скал находится средневековое армянское кладбище, а на ее вершине - построенная в XIII веке часовня Св. Саркиса. Часовня, кстати, была реставрирована в 1838 году жителем Коти Арзуманом Тер-Саакянцем. Еще несколько лет назад с армянских высот виднелся ее купол с водруженным на нем крестом. Отметим, что в последние годы СССР Армения таким образом лишилась более 500 кв. км территорий и стала единственной республикой СССР с площадью менее 30 тысяч кв. км. В данном материале мы попытались обратить внимание на тот факт, что вопрос территорий, который и должен стать главным предметом трехсторонних переговоров, объективно не может и не должен влиять на процесс международного признания НКР. Всякого рода формулировки типа «территории взамен на статус» ущербны, так как не соответствуют реальной ситуации и международным правовым положениям. Территориальный вопрос должен рассматриваться в контексте приведенных выше (и прочих) данных, и только на этой плоскости он и может найти свое решение.
-
Пока Ник наслаждается своей заслуженной поездкой, желающие могут ознакомиться (или вспомнить) о поездке победителя предыдущей акции hayastan.com-а: http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=732746
-
Тереза джан! С днем рождения! Счастья здоровья, радости, удачи, творческих находок и профессионального роста!
-
С. М. Минасян, М. В. Агаджанян Гуманитарное измерение карабахского конфликта ВВЕДЕНИЕ Возникнув как конфликт по поводу реализации коллективного права нации на самоопределение, на право распоряжаться своей судьбой, пройдя этап военного отстаивания данного права, карабахский вопрос может быть урегулирован, только продолжив свое человеческое (гуманитарное) измерение. Урегулирование карабахской проблемы в гуманитарном измерении должно являться основной целью, к которой надо стремиться, тогда как другие измерения проблемы – военно-политическое и социально-экономическое, являются производными факторами, находящимися в исключительной и прямой зависимости от гуманитарного измерения конфликта. При этом любое урегулирование карабахского конфликта, начавшегося с гуманитарной катастрофы в виде массовых убийств и геноцида армян в Баку и Сумгаите, а также последующих этнических чисток, депортации и изгнания в 1988-1990 гг. почти 500 тыс. граждан Азербайджанской ССР армянской национальности, должно в первую очередь подразумевать восстановление справедливости и возмещение нанесенного морального и материального ущерба этим людям. Это обстоятельство, т. е. полное восстановление справедливости для указанной категорий лиц, обязательно должно учитываться всеми сторонами, вовлеченными в процесс урегулирования конфликта. Тем самым, начавшись с гуманитарной катастрофы, карабахский конфликт должен именно в гуманитарном измерении и в полном соответствии с основополагающими принципами и целями международного права1 быть справедливо разрешен. Понятие «гуманитарное измерение карабахского конфликта» Сложившаяся реальная ситуация, имеющая конкретные военно-политические и социально-экономические составляющие, требует разъяснения и освещения понятия гуманитарное измерение конфликта. Гуманитарное измерение карабахского конфликта – это, в первую очередь, вопрос беженцев и вынужденных переселенцев, вопрос гражданства этих лиц и, соответственно, вопрос политико-правовой связи конкретного человека с тем или иным субъектом международного права. Данный вопрос имеет исключительную важность не только в силу того, что речь идет о десятках и сотнях тысяч людей, который стали, по сути, основными жертвами конфликта, но и по той причине, что именно от того, как будет решена их судьба и обеспечено право на нормальную и безопасную жизнедеятельность, зависит и формат возможного в перспективе урегулирования конфликта. Если в военно-политическом и экономическом аспекте конфликта сложилась достаточно стабильная ситуация, которая, однако, несет в себе определенный элемент «тупиковости» по отношению к дальнейшей динамике противостояния (другими словами, военно-политическое и, тем более, экономическое взаимодействие между противоборствующими сторонами в лице Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Азербайджанской Республики (АР) практически полностью отсутствуют), то выходом из данной ситуации следует предположить продвижение инициатив в гуманитарном измерении карабахского конфликта. При этом следует уточнить, что эпизодические контакты между Республикой Армения (РА) и Азербайджанской Республикой на уровне глав государств и внешнеполитических ведомств не могут содержать в себе всеохватывающий потенциал по урегулированию, причем данный тезис особенно характерен и относим к гуманитарной стороне конфликта, так как: 1. РА и АР могут так или иначе договариваться по военно-политическим вопросам и это будет иметь определенный вес для НКР, хотя в чисто военном аспекте данная мысль страдает определенной ущербностью (т. к. в реальности линия фронта на карабахском направлении контролируется в основном Армией Обороны НКР); 2. РА и АР могут иметь определенные договоренности в социально-экономическом направлении, и это будет иметь принципиальный вес для дальнейших действий НКР, однако; 3. РА и АР не могут договариваться по гуманитарной проблематике конфликта в той части, которая полностью находиться в ведении НКР (в частности, РА не может нести ответственности за урегулирование противоречий между НКР и АР, в том числе относительно последствий конфликта, выходящих за рамки границ Армении). Когда говорится о нераспространимости взаимных договоренностей РА и АР в гуманитарном измерении на НКР, или, тем более, о нераспространимости решений других субъектов международного права в указанной сфере на действия НКР, то имеется в виду именно исключительный характер самой политико-правовой связи конкретного человека с тем или иным государством. Если лицо является беженцем, то данная политико-правовая связь существует между ним и государством его «изгнания» и его «принятия»; если лицо является вынужденным переселенцем, то данная политико-правовая связь существует между ним и государством, по территории которого оно было вынужденно переместиться; если лицо является гражданином, то данная политико-правовая связь существует исключительно между ним и государством его гражданства. Как нетрудно убедиться во всех трех случаях, особенно если все три статуса лиц (беженец, вынужденный переселенец, гражданин) «разворачиваются» по поводу или в отношении наличного конфликта, статусы имеют своей главной целью распространить на лицо защитительный потенциал того субъекта международного права, с кем указанное лицо состоит в политико-правовой связи. Другими словами, вопрос безопасности всегда имеет свое зримое присутствие в гуманитарном измерении, а во время конфликта и постконфликтной ситуации особенно четко выступает на первый план. Соотношение статусов беженцев и ВПЛ в современном международном праве Основным документом, обозначившим принципы правового статуса беженцев в международном праве, является Конвенция о статусе беженцев 1951 г. с Протоколом, касающимся статуса беженцев 1966 г. По Конвенции 1951 г. статус беженца предоставляется лицам, которые в силу обоснованных опасений стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедования, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не могут или не желают вернуться в нее вследствие таких опасений. Согласно Конвенции 1951 г. (ст. 12) личный статус беженца определяется законами страны его домициля (имеется в виду юридически оформленное место пребывания) или, если у него такового не имеется, законами страны его проживания. В отношении вынужденных переселенцев или внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нет общих документов международно-правового характера, как в случае с Конвенцией о статусе беженцев 1951 г. Существуют Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны, которые были разработаны под общим руководством Представителя Генерального секретаря ООН по делам лиц, перемещенных внутри страны. Хотя принципы, в отличие от международного договора (конвенции) не являются обязывающим документом, они отражают нормы действующего международного права и соответствуют им. Они охватывают все фазы перемещения: предусматривают защиту от насильственного перемещения, создают основу для защиты и помощи во время перемещения и устанавливают гарантии безопасного возвращения, переселения и реинтеграции. После представления Принципов Комиссии по правам человека ООН в 1998 г. последняя единогласно одобрила резолюцию о принятии их к сведению. Экономический и Социальный Совет и Генеральная Ассамблея ООН также официально подтвердили Принципы, и широкий круг ведомств приступил к их распространению. В соответствии с данными Принципами, перемещенными внутри страны лицами считаются лица или группы лиц, которых заставили или вынудили бросить или покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности, в результате или во избежание последствий вооруженного конфликта, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека, стихийных или вызванных деятельностью человека бедствий, и которые не пересекали международно признанных государственных границ. Беженец отличим от ВПЛ тем, что первый является или являлся гражданином того государства, которое он вынужден был покинуть и получает свой действующий статус - статус беженца - в государстве его принявшем (давшем ему убежище). ВПЛ же международные границы не пересекает, а остается на территории государства своего гражданства или постоянного места жительства, но вынужден покинуть место жительства в силу вооруженного конфликта. Объединяет же их то, что обе категории пострадавших лиц имеют право на свое дальнейшее безопасное существование, дальнейшее соблюдение своих прав и свобод, их гарантию, обеспечиваемые со стороны государства, давшего им убежище. Беженец уже или никогда не вернется туда, откуда был изгнан, или вероятность его возвращения очень мала (данное положение вещей особенно явственно представлено в нынешнем положении беженцев-армян из Азерб. ССР). Проблема беженцев и ВПЛ в контексте урегулирования карабахского конфликта С учетом важности и вместе с тем малой изученности проблемы беженцев и ВПЛ в контексте влияния на урегулирование карабахского конфликта, необходимо вначале определиться с основными положениями и определениями, исходя из следующих утверждений: 1. Проблема беженцев в отношениях между РА и АР – это вопрос беженцев из Азербайджанской ССР в Армянскую ССР, и наоборот. Однако здесь важно учесть асиметричность (по основным международно-правовым критериям) статусов беженцев-армян из Азербайджанской ССР (речь идет приблизительно о полумиллионе человек), депортированных из этой республики в 1988-1990 гг., и беженцев-азербайджанцев из Армянской ССР, покинувших ее в 1989-1990 гг. По таким международно-правовым критериям, как насильственность изгнания, полная или почти полная потеря собственности, реальная угроза жизни этих людей и массовые убийства армян в Сумгаите, Баку и других регионах Азербайджана, и т. д., можно констатировать исключительно полный характер статуса беженцев-армян из Азербайджанской ССР и на ущербный характер статуса беженцев для азербайджанцев из Армянской ССР (т. к. исход азербайджанцев из Армении был вызван во многом причинами морального характера, не было насилия к беженцам, полная или почти полная непотеря собственности, правительство Армянской ССР впоследствии компенсировало значительную часть материальных потерь беженцев-азербайджанцев, перечислив соответствующие суммы Азербайджанской ССР, и т. д.). Кроме этого, значительная часть проживающих в Арм. ССР азербайджанцев (свыше 80 тыс. человек) в 1988-1989 гг. на значительно более выгодных для себя условиях обменяла свои дома или квартиры с беженцами-армянами из Аз. ССР (большая часть которых уже была вынуждена покинуть Аз.ССР, но которые пока еще сохраняли юридические права на принадлежащую им там недвижимость). Следует также напомнить, что зачастую к беженцам-азербайджанцам необоснованно причисляются также лица, которые, оставшись без жилья и крова, были вынуждены покинуть северные районы Арм. ССР вследствие разрушительного Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 г. Данная весьма многочисленная категория лиц азербайджанской национальности (около 80 тыс. человек) вообще не может претендовать на статус беженцев из Армении по той простой причине, что они, как и сотни тысяч других жителей пострадавших от землетрясения северных районов Арм. ССР, были вынуждены исключительно по социально-экономическим причинам в период после 7 декабря 1988 г. выехать в различные регионы бывшего Советского Союза в поисках жилья и работы, при этом получив значительные материальные компенсации от правительства Арм. ССР как жертвы стихийного бедствия; 2. Вопрос вынужденных переселенцев-азербайджанцев из контролируемых НКР территорий и вопрос вынужденных переселенцев-карабахских армян из контролируемых АР территорий - это исключительно вопрос между НКР и АР, но не РА или кого бы то ни было. Статус карабахских армян из контролируемых ныне АР территорий НКР (Мартуни, Мартакерт и Шаумян) - это статус вынужденных переселенцев, так как данные территории охватывались действиями Декларации о независимости НКР от 2 сентября 1991 г. и, самое главное, Референдумом о независимости НКР от 10 декабря 1991 г. Итак, в контексте рассматриваемой нами проблемы существуют следующие категории лиц: 1. Беженцы-армяне из Азербайджанской ССР; 2. Вынужденные переселенцы-армяне из части районов Мартуни, Мартакерта и Шаумяна; 3. Беженцы-азербайджанцы из бывшей НКАО; 4. Вынужденные переселенцы-азербайджанцы из контролируемых НКР территорий Низинного Карабаха. НКР, учитывая, как минимум, собственную моральную ответственность перед беженцами из Азербайджанской ССР, может пойти на признание за ними права на получение гражданства НКР в наиболее упрощенном порядке. При этом НКР может оставить за собой право предоставить данной категории лиц возможность расселяться на территориях, контролируемых ею, исходя из того, что большинство из указанных лиц, во-первых, в наибольшей степени пострадали от данного конфликта как в моральном, так и в материальном плане, во-вторых, до момента своего насильственного изгнания, имевшего характерные признаки геноцида и этнической чистки, были гражданами Азербайджанской ССР и СССР2. То есть, до момента своего изгнания они находились в устойчивой политико-правовой связи сначала с Азерб. ССР, а уже через нее с единым Союзом ССР. А поэтому они имеют право селиться на территориях бывшей Азерб. ССР, так как в данный момент обладают статусом беженца, который в свою очередь носит временный характер и предполагает тем самым возможность возвращения данных лиц на места их последнего гражданства. Ими являются и территории бывшей Азерб. ССР (Низинный Карабах), контролируемые силами НКР и где может быть обеспечено безопасное пребывание и безопасное развитие для всех лиц, пострадавших от конфликта3. Это связано с тем, что Низинный Карабах, в отличие от других территорий под юрисдикцией НКР, имеет намного большие возможности для размещения и обеспечения нормальной жизнедеятельности указанной категории людей, чем те районы республики, которые в советское время были репрессивно ограничены рамками бывшей НКАО. Для сравнения следует напомнить, что за годы советской власти количество армян - выходцев из НКАО, проживающих в остальных регионах Аз. ССР, в 5-6 раз превышало армянское население собственно НКАО (хотя этому способствовали не только объективные социально-экономические причины и ограниченность природных и материальных средств, но и откровенная государственная политики властей Советского Азербайджана по выселению армян из НКАО, в результате которой к концу 1980-х гг. автономию покинуло свыше 80% ее населения). Однако, данные территории Низинного Карабаха, тем не менее, не являются достаточной материальной компенсацией для тех бывших граждан Аз. ССР, которые покинули эту республику в 1988-1990-х гг. в результате массовых гонений и геноцида. Качественное сопоставление того недвижимого имущества, которое имели армянские граждане бывшей Аз. ССР, жившие в гг. Баку, Кировабаде, Сумгаите и др., показывает, что речь примерно о 100 тысячах квартир и собственных домов, оставленных ими в результате депортации и этнических чисток. Учитывая тот факт, что армяне в Аз. ССР, имея своеобразный профессиональный ценз (в частности, они традиционно составляли большинство ведущих специалистов в нефтяной промышленности Советского Азербайджана и т. д.) и уровень высшего образования, находились в лучшем материальной состоянии, чем остальное население бывшей Аз. ССР (в том числе, населенных к концу 1980-х гг. азербайджанцами районов Низинного Карабаха), некоторые имели по 2-3 квартиры и т. д., это не может быть достаточной гарантией и компенсацией за их потери. Вместе с тем, речи не может идти о том, что они могут вернуться в прежние места своего проживания, учитывая перманентную практику больших и малых геноцидов в отношении армянского населения, осуществляемых любыми властями Азербайджана в течение всего прошлого века. Если даже в советский период, когда наличие сильной центральной власти, которая в значительной мере контролировала власть на всех вертикалях, не смогло предотвратить проявление перманентных репрессий, дискриминации в отношении армян Азербайджана, приведшее, в конце концов, к геноцидным действиям против армян в Сумгаите в 1988 г., в Баку в 1990 г., и далее в остальных армянонаселенных районах Азербайджана, то как нынешний Азербайджан, где армянофобия и человеконенавистничество введено в ранг государственной политики, может обеспечить безопасность и нормальную жизнедеятельность бывших граждан Аз. ССР. Поэтому единственным выходом может являться этническое размежевание и единственными территориями, где репрессированным бывшим гражданам Аз. ССР может быть предоставлена возможность безопасного проживания, являются районы Низинного Карабаха, находящиеся под юрисдикцией НКР. Вместе с тем, уже исходя из того, что НКР может предоставить определенные гарантии безопасности и, соответственно, взять данную категорию лиц под свою непосредственную государственную защиту, появляется необходимость оформления политико-правовой связи между указанными лицами и НКР в виде гражданства последней. Указанная категория лиц, которая покинула страну своего предыдущего гражданства (Азерб. ССР и через нее единый СССР), имеет право на получение гражданства НКР по признанию, исходя, как минимум, из того факта, что когда-то НКАО входило в состав Азерб. ССР (формально, оставив в стороне законность такого вхождения) и поэтому является в определенной степени правопреемницей Азерб. ССР, так как: 1. Ныне существующая АР отказалась быть правопреемницей Азерб. ССР и, приняв Декларацию от 30 августа 1991 г., провозгласила существовавшую в 1918-1920 гг. АР своей предшественницей в правовом смысле; 2. Так как АР не является правопреемницей Азерб. ССР, она не может претендовать в абсолютном, не терпящем никакого контраргумента смысле на всю территорию бывшей Азерб. ССР. Таким контраргументом в правовом смысле выступает «эффективный контроль» НКР над теми своими историческими территориями, над которыми ни Азербайджанская Демократическая Республика «образца 1918-1920 гг.», ни Азербайджанская Республика «образца 1990-х – 2000-х гг.» никогда такого контроля не осуществляли, равно как и не имели тех легитимно установленных или признанных международным сообществом границ, на которые в настоящее время предъявляет претензии руководство Азербайджана. В частности, напомним, что образованная в 1918 г. в результате турецкой агрессии в Закавказье и впервые появившаяся на политической карте АДР предъявила необоснованные территориальные претензии ко всем соседним государствам на территории от Баку до Батуми, представив в 1919 г. в Лигу наций соответствующий документ. Однако Лига наций не посчитала эти претензии АДР законными (что явилось главной причиной отказа Лиги де-юре признания АДР) и данное государство покинуло политическую карту мира без международно признанных и легитимных границ. Азербайджанская Республика, провозглашенная в 1991 г., фактически вернулась к правовым реалиям 1918-1920 гг., тем самым став правопреемницей государства, не имевшего международно признанных границ и, соответственно, каких либо прав на территории, ныне находящиеся под юрисдикцией НКР. Более того, даже принятие Азербайджана в ООН, ОБСЕ и ряд других международных организаций (равно как и остальных постсоветских государств) явилось следствием инерции международной правосубъектности СССР и не предполагало какого-то признания этими организациями тех границ и территорий, на которые сейчас предъявляет права официальный Баку; 3. Армяне наравне с азербайджанцами были государствообразующей нацией созданной в 1920-гг. Азербайджанской ССР хотя бы в силу того факта, что имели единственное на территории Азерб. ССР национальное образование и остались тем государственным образованием, которое несет ответственность за всех армян, проживавших до 30 августа 1991 г. на территории Азерб. ССР. Поэтому армяне-беженцы из Азерб. ССР имеют право претендовать на получение гражданства НКР по признанию. Что касается азербайджанского населения бывшей НКАО, то его большая часть покинула места своего компактного расселения после провозглашения Декларации независимости 2 сентября 1991 г. и после референдума 10 декабря того же года в результате войны, начатой Азербайджаном. Причем возможность участвовать в референдуме у азербайджанцев была, никто не запрещал им участвовать в нем, но с их стороны он был, в основном, проигнорирован. Несмотря на активное участие в борьбе против законного права подавляющего большинства населения Карабаха на создание независимого государства, НКР может сохранять за данной категорией лиц право на возвращение и реинтеграцию в государство и гражданское общество Карабаха в качестве полноправных граждан. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НКР, используя соответствующие международные нормы, может реализовать свое законное право на их применение к ситуации неопределенности как со своими ВПЛ (из районов Шаумяна, Мартуни и Мартакерта), так и с гражданами бывшей Азерб. ССР (вне зависимости от их национальности), пребывающими ныне в статусе беженцев. Здесь мы основываемся на общем принципе временного характера статусов беженцев и ВПЛ, что подразумевает под собой постоянные пути нахождения способов по закреплению соответственно постоянного характера статуса данных лиц в виде предоставления гражданства, и на соответствующие данному принципу конкретные положения, обозначенные в действующих международно-правовых актах. Логичным продолжением данной политики должно быть предоставление лицам, обладающим на данный момент статусом беженца или ВПЛ, права на заселение на территориях, контролируемых НКР, уже в качестве полноправных граждан этой республики. НКР не должна мириться с временным статусом данных лиц, которые в свою очередь не могут находиться бесконечно долгое время в переходном статусе своего политико-правового существования. Причем, если АР не идет на контакт с НКР по указанному выше вопросу, то Степанакерт в этом случае может действовать самостоятельно, так как АР не желает брать за основу ни существовавшие при Азерб. ССР квазиграницы искусственно и незаконно ограниченной в территориальном аспекте НКАО, ни вести переговоры о выяснении вопросов и своей материальной ответственности, связанных с реальной помощью тем лицам, которые в наибольшей степени пострадали именно из-за развязанного ею вооруженного конфликта4. В политико-правовом измерении понятия «гражданство» на первый план выступает двусторонняя, взаимозависимая связь человека и государства, при этом государство, в силу существования данной связи и ее развития, несет главную и в большинстве случаев исключительную ответственность за свободное развитие человека, могущее быть таковым только в условиях его безопасной жизнедеятельности. Поэтому, основываясь на универсальных нормах международного права5, а также на нормах, непосредственно касающихся обсуждаемого вопроса по ВПЛ6, НКР имеет полное право предоставления статуса граждан лицам, которые пожелают поселиться на постоянное местожительство на контролируемых ею территориях. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Согласно Статье 1-й Устава ООН: «Организация Объединенных Наций преследует Цели: Поддерживать международный мир и безопасность… и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира…». 2 По ст. 33 Конституции СССР 1977 г.: «В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР. Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяется Законом о гражданстве СССР». 3 Надо подчеркнуть, что данные территории, несмотря на их однозначную важность с точки зрения обеспечения безопасности и жизнеспособности НКР, для нас в рассматриваемом измерении конфликта представляют интерес только исключительно с гуманитарной точки зрения. 4 Речь идет об исключительной материальной ответственности азербайджанских властей перед всеми категориями беженцев и ВПЛ (вне зависимости от их национальности), пострадавших в ходе конфликта, так как именно власти Азербайджана являлись инициаторами начала военных действий. 5 Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: ст. 6 «Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности» и ст. 15 «Каждый человек имеет право на гражданство». 6 Одно из основополагающих положений Руководящих принципов (принцип 3) устанавливает, что «на национальные власти возлагается основная обязанность и ответственность за предоставление защиты перемещенным внутри страны лицам, находящимся под ее юрисдикцией».
-
Эдуард Абрамян По пути ли Джавахку с Грузией? Нынешние внутриполитические процессы в Грузии заставляют задуматься армянство Самцхе-Джавахк-Цалки: нужно ли ему идти вместе с этой страной. Грузия, которая кроме того, что всячески в массовом порядке ущемляет своих же граждан-негрузин, но и со стороны всех политических сил этноконфессиональная политика Саакашвили в отношения негрузинского населения страны не подвергается критике. Ведь совершенно ясно, что на сегодняшний день критике со стороны грузинских оппозиционных сил подвергаются абсолютно все аспекты внешней и внутренней политики правящего руководства, однако ни один оппозиционный лидер и объединение не услышали голоса десятка тысяч армян Самцхе-Джавахк-Цалки. Исходя из подобного обращения, как властей, так и оппозиции, необходимо сделать четкий вывод, что к власти в Грузии может придти кто угодно, но национальная, политическая и социально-экономическая ситуация в Джавахке не улучшится. Государственная политика по ассимиляции, деэтнизации и выдавливанию будет продолжаться во все времена, при любых властях страны, поскольку это - Грузия, имеющая давний опыт и историю по всяческому ущемлению негрузинских народов. Таким образом, армянство Грузии не только не должны интересовать внутриполитические процессы в столице «чужой и враждебной» для них страны. Оно должно осознать горькую реальность того, что во всей Грузии вряд ли найдется хоть три грузина, которые могут не согласиться с национальной политикой своей страны в отношении негрузин и готовы раскритиковать ее во всеуслышание. В этом и заключается вся суть проблемы Самцхе-Джавахк-Цалки, суть комплексной нерешенности национально-политических проблем с армянами. Грузины, начиная с руководства, заканчивая простыми гражданами, не желают понимать проблему такой, какая она есть. Они продолжают проводить антиармянскую политику во всех сферах социально-политической и экономической жизни. И если они не желают останавливать процесс выдавливания, ущемления и ассимиляции армян, как с ними можно договариваться за столом переговоров, если объекта под названием «проблема армян Джавахка» грузинская сторона абсолютно не выносит? Таким образом, предстоящий визит президента Грузии в Армению будет являться лишь своеобразной галочкой по усилению «сказок» о добрососедстве. И если все это имитация, и реальные проблемы всячески маневрируются, нужны ли Армении и армянству визиты грузинских чиновников вообще? Нужно ли постоянно обманывать свое общество, что у нас с ними все отлично и все в порядке?
-
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Михаил Петросян - польский партизан С фотографии на нас смотрит целеустремленный юноша в буденовке. Это Михаил (Манук) Сергеевич Петросян – 20-летний курсант Военного пулеметного училища в Калинковичах (Белоруссия). Последнее письмо домой он написал 15 июня 1941 года: «Училище окончил. Отпуск отменяется. Получил назначение, выезжаю в часть. Как прибуду на место, напишу подробно. Может, дадут отпуск - приеду, повидаемся, отметим окончание училища». Но отпуска он не получил, не приехал, не успел повидаться с родителями. Как впоследствии написал один из его фронтовых друзей, Мишу Петросяна война застала в рядах защитников Брестской крепости. Туда он прибыл 19 июня. Его так и не успели до 22 июня занести в списки воинской части. Все годы после войны на запросы его матери и братьев приходил один и тот же ответ: «Сообщаем вам, что ваш сын Петросян Михаил Сергеевич в списках убитых, раненых, пропавших без вести не числится». Итак, 20-летний юноша бесследно исчез, не оставив ни семьи, ни детей, ни любимой девушки. Документальная память о нем - два фото из армии и несколько солдатских писем-треугольников. Но если официальные органы, обязанные восстановить судьбу каждого воина, забыли о долге, то солдатская дружба и обязательства друг перед другом сделали свое доброе дело. В январе 1946 года из Сталинграда пришло письмо от Федора Хворостова. Он писал, обращаясь к родителям Миши, что был вместе с ним в лагере для военнопленных в крепости Демблин в Польше. От него стало известно, что Миша - контуженный, в Бресте попал в плен, заключен в концлагерь в Била-Подляска, позже переправлен в Демблин. Михаил организовал подпольную работу среди военнопленных, сколотил боевую группу и в октябре 1941 г. организовал побег из лагеря. Хворостову не удалось бежать, но перед расставанием они обменялись адресами. О дальнейшей судьбе Миши после 1946 г. уже никто не знал. Лишь мать и родные продолжали верить и ждать. Вторая весточка появилась в 1965 г. Герой Советского Союза Н. Прокопюк, бывший командир партизанского отряда, ныне военный историк, писал, что ищет родных Михаила Петросяна, бывшего командира польско-русского отряда, и просил прислать его фотографию для опознания. Вскоре мы узнали, что Миша погиб в1942 г. Нам сообщили адреса его соратников, которые рассказали о судьбе Миши. Совершив побег из концлагеря Демблин, он почти месяц скитался в Парчевских лесах, больной тифом, опухший от голода. Его приютила в селе Рудки Люблинского воеводства семья Сидор: спрятали в стоге сена и выходили до полного выздоровления. По вечерам в доме Сидор стали собираться патриотически настроенные поляки, готовые бороться против немецкой оккупации. В конце 1941 г. сложилась группа партизан, в которую вошли Казимир Сидор, его сестра Мария, их сосед Кирпичный и другие поляки. Они ушли в Парчевские леса и стали совершать диверсии против оккупантов. В лесах к группе примкнули советские бойцы, вышедшие из окружения и бежавшие из плена. Так появился первый русско-польский отряд на Люблинщине под командованием Михаила Петросяна. В «Истории польского рабочего движения в годы войны и фашистской оккупации 1939-1945 гг.» на странице 38 читаем: «Первый русско-польский партизанский отряд в Люблинском повяте (округе) действовал под командованием советского офицера Михаила Петросяна». Писали о нем К. Сидор в книге «Тщетий фронт», В. Гура – «Были с нами» и С. Вронский, в Армении писал о нем М. Акопян в статьях об армянах-партизанах за рубежом. Но там упоминали Михаила, а наша семья искала вестей о Мануке. Сейчас, по прошествии многих лет, трудно восстановить эпизоды борьбы партизанского отряда, но значение его было настолько велико, что во всех книгах, посвященных освободительному движению в Польше, он упоминается как первый. А имя Михаила Петросяна называется в числе первых руководителей польского Сопротивления. Впоследствии Мария Сидор нам рассказывала: «Миша узнал, что в Парчевском лесу действует партизанский отряд и стал пытаться найти с ним связь. Однажды Миша исчез на целую неделю. Мы забеспокоились, но тут он вернулся вместе с командиром того самого русского партизанского отряда - Федором Ковалевым. Вскоре отряды объединились. Отряд решили назвать именем Адама Мицкевича. Еще до объединения четыре месяца наш отряд действовал самостоятельно. Было организовано несколько нападений с целью захвата оружия. Партизаны перерезали провода, стреляли в автомашины, разрушали дороги. Но все это были локальные действия». Далее о судьбе Миши нам рассказал Володя Омельчук, который по нашему приглашению приезжал в Ереван в 1989 году: «В июне 1942 года руководство отряда решило перейти Буг и влиться в состав Белорусского партизанского движения Федорова. Переход был назначен на ночь 7 июня. Я должен был протянуть канат по реке, чтобы те, кто не умеет плавать, могли держаться. Согласно разработанному плану, первыми должны были перейти трое, в том числе и Миша, чтобы опробовать переправу. Но в отряде оказался предатель. Немцы открыли пулеметный огонь. Мишу сразу сразила пуля, И. Тимченко ранило, другой, чье имя не установлено, тоже был убит. Я тогда был маленький, только всем помогал. Побежал сразу в село и стал кричать: «Мишу убили!» Мишу тайно похоронили на берегу Буга у хутора Ставки. Но поляки помнили о нем. После окончания войны Казимир Сидор и Володя Омельчук не разрешили захоронить его в братской могиле. Останки перевезли во Влодаву на военное кладбище. И по сей день уже дочь Володи, ее муж Янош, их дети Юстинка и Адам ухаживают за могилой. Польские журналисты смогли собрать много материала о движении Сопротивления в Польше и о первом партизанском отряде, руководимом армянином Михаилом Петросяном. А Польский Красный Крест в 1969 г. отыскал нас и сообщил нам тяжелую весть о его гибели и месте захоронения. С этого времени мы приобрели много друзей в Польше, связь с которыми не теряем до сих пор. Уже дружат наши внуки. А могила моего дяди не осталась безымянной. Теперь его имя занесено в книгу, где записаны имена воинов, погибших и похороненных в Польше. В этом списке Михаил Петросян значится. Эмма Петросян, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА, доктор исторических наук