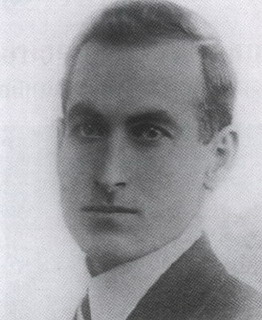Юрий Барсегов
Дело королевского пирата Кидда
из истории борьбы армянского купечества против пиратства
История захвата армянского торгового судна "Кедахский купец" капитаном Киддом и ее драматический исход составляют интереснейшие страницы в летописи борьбы против пиратства, за свободу торгового судоходства. Это яркий пример вырождения каперства в разновидность пиратства, использования организованной формы морского разбоя английским государством и английскими колониальными властями против морской торговли армян. Он представляет немалый интерес и для раскрытия средств неравной борьбы армянского купечества по защите своих прав, а тем самым прав всех других купцов и судовладельцев. Исход этой эпопеи, когда английский король и его правительство не смогли спасти своего компаньона от смертной казни через повешение, говорит сам за себя.
Капитан Кидд — одна из центральных фигур всемирной истории морского разбоя. О нем складывались песни и баллады, его "подвиги" описывались и до сих пор описываются на страницах всех книг о пиратстве. Ему уделяют специальные статьи в Британской и Американской энциклопедиях, в английском и американском биографических словарях.
По определению последнего Кидд — "самый известный пират в английской литературе". Из одной книги в другую кочуют два разных образа. Один — образ удачливого архипирата, за кладом которого до сих пор идет охота. Другой — печальный образ полукапера-полупирата, который ничего или почти ничего не сумел награбить, но стал жертвой высокой политики и межпартийных интриг и в результате угодил на виселицу. "Каковы бы ни были преступления Кидда, ясно, что суд над ним не был справедлив, и он был признан виновным на основании недостаточных улик", — утверждает английский биографический словарь.
Образ Кидда-неудачника первоначально был создан его высокопоставленными сообщниками и защитниками с целью оправдать не столько самого капитана, сколько тех, кто стоял за его спиной. Затем он был подхвачен апологетами морской истории Великобритании, пытавшимися задним числом затушевать ее неприглядную пиратскую сторону, мало того — представить эту страну чуть ли не борцом против пиратства.
На самом же деле Кидд был настоящим пиратом — не единственным и даже не самым худшим из этой разновидности морских разбойников. Английское пиратство процветало до него и после него. Оно пользовалось поддержкой государства и Ост-Индской компании, служило как для обогащения, так и для расправы с конкурентами по морской торговле. Тогда почему же Кидда в конце концов казнили? Действительно ли он стал жертвой интриг и межпартийной борьбы в Англии? Или, быть может, там изменили отношение к пиратству и процесс Кидда подтверждает версию апологетов английской морской истории?
Внимательное изучение событий в связи с общей ситуацией в Индии того времени показывает, что Англия не изменила отношения к пиратству, а для осуждения Кидда были более веские причины, чем интриги и межпартийная борьба. Последние создали лишь благоприятные условия, но главным было решительное сопротивление, которое оказали сперва пострадавшие армянские купцы, а потом Великий Могол Аурангзеб, не без оснований связав разбойные действия Кидда с поддержкой пиратства официальной Англией и Ост-Индской компанией.
Кидд стал символом и воплощением английского пиратства. Об этом скажет представитель обвинения на судебном процессе д-р Ньютон: "Эти преступные предприятия и действия сделали его имя (к бесчестию и в ущерб английской нации) слишком хорошо известным и заслуженно ненавистным в отдаленных частях мира, и на него смотрели как на архипирата и общего врага человечества".
Среди самых разных типов пиратства, с которыми армянские купцы и мореходы сталкивались в морях и океанах, эпизод с капитаном Киддом занимает особое место. В силу особых обстоятельств события приняли неожиданный оборот, вышли из-под контроля властей, и потому стало известно, кто стоял за спиной пиратов, более того, был подлинным организатором пиратского промысла.
История эта началась в 1695 г., когда английский король Уильям (Вильгельм) III поручил лорду Белламонту, с которым поддерживал дружеские отношения и назначил губернатором Нью-Йорка, Массачусетса и Нью-Гемпшира, принять меры против пиратов Новой Англии. Имея королевское поручение, губернатор вместе с другими видными представителями вигов решили снарядить частный военный корабль (приватир) — официально для борьбы против французов и даже для пресечения пиратства, а на самом деле с целью обогащения за счет морского разбоя.
Поскольку правительство не финансировало экспедицию, все расходы, связанные с приобретением корабля, его снаряжением, содержанием экипажа взяла на себя созданная губернатором Нью-Йорка частная акционерная компания, члены которой, естественно, рассчитывали на дивиденды. Держателями акций были сам лорд Белламонт, другие знатные и высокопоставленные лица: первый лорд Адмиралтейства Орфорд, лорд-канцлер Сомерс, государственный секретарь лорд Ромни, член Верховного суда герцог Шрусбери и др. Организация предприятия лежала на губернаторе Нью-Йорка лорде Белламонте. По вполне понятным причинам они предпочитали скрывать свои имена и действовали под вымышленными именами как Эдмонд Харрисон, Уильям Роули, Джордж Уотсон, Томас Рейнольдс и Сэмюел Ньютон. Члены этого синдиката вложили в дело 6 тыс. фунтов стерлингов, которые предназначались на покрытие первоначальных расходов — снаряжения судна и найма команды. Пятую часть расходов взяли на себя Роберт Ливингстон и капитан Кидд — основной исполнитель задуманного предприятия.
Кандидатуру Кидда предложил сам губернатор. Выбор этот был не случайным. Сын кальвинистского священника Кидд жил в Нью-Йорке — одном из тогдашних центров пиратства. Здесь составлялись пиратские команды, здесь "реализовывали" свою добычу пираты Новой Англии, Вест-Индии, а позднее и пираты Индийского океана. Кидд поддерживал с ними деловые отношения и сам на своем небольшом корабле орудовал в качестве "приватира" в американских водах. Его можно было представить как опытного моряка, хорошо знавшего места пиратских операций и другие тонкости этого ремесла. По словам своего современника Томаса Хевитсона, Кидд был "сильной личностью" в Вест-Индии.
Нанимая капитана, синдикат, выступавший в роли судовладельца, должен был договориться с ним об условиях вознаграждения. Поскольку пиратское предприятие основывалось на "самоокупаемости", это, естественно, выливалось в соглашение о разделе будущей добычи. Оно предусматривало порядок раздела добычи между капитаном и его командой с одной стороны, и членами товарищества, участвовавшими в снаряжении каперского корабля, с другой. Соглашение было заключено между Киддом и губернатором Белламонтом, который действовал от имени своих друзей. На долю Кидда и рекомендовавшего его Ливингстона выделялась 1/5 расходов по снаряжению судна и соответственно одна пятая часть доходов. Остальные 4/5 расходов брали на себя Белламонт и другие члены синдиката. Соответственно им было положено 4/5 чистого дохода, а в случае отсутствия такового Кидд обещал возвратить вложенную ими сумму. Белламонт брал на себя также получение согласия короля.
На вложенные средства к концу августа 1695 г. был снаряжен фрегат водоизмещением в 287 тонн с тридцатью парами весел, вооруженный 36 пушками. По предложению Кидда и Ливингстона кораблю дали выразительное название — "Корабль приключений" ("Adventure Galley"). Затем Кидд направился в Лондон, чтобы получить каперский патент от короля и решить некоторые другие вопросы. Пробыв здесь до февраля 1696 г., "Корабль приключений" ушел в Плимут, где оставался до конца апреля. Задержка имела свои причины: решались важные для предприятия вопросы. Белламонт представил Кидда первому лорду Адмиралтейства Орфорду, а полковник Хевитсон взял его к государственному секретарю лорду Ромни. В декабре 1695 г. капитану Кидду был выдан патент за печатью Адмиралтейства, уполномочивавший его осуществлять репрессалии против французов. Ему предписывалось отправиться на корабле "в военную экспедицию под его личным командованием и силой оружия арестовывать, захватывать и брать в приз корабли, суда и груз, принадлежащие французскому королю и его подданным или жителям владений упомянутого французского короля". Взятые призы должны были доставляться в ближайший порт для присуждения на основе международного права решением судов Адмиралтейства. Согласно обычаям, только после присуждения капер мог распоряжаться захваченным имуществом как собственностью врага.
Через шесть недель, 26 января 1696 г., Кидд получил второй каперский патент. Король Уильям (Вильгельм) III, "посоветовавшись" с Адмиралтейством, выдал ему каперский патент под Большой печатью, уполномочивавший "возлюбленного друга Уильяма Кидда, действуя в качестве приватира (private man of war)", задержать некоторых конкретно поименованных пиратов из Род-Айленда и Нью-Йорка — Томаса Тью, Томаса Вейка, Уильяма Маса, Джона Айрленда и "всех пиратов, флибустьеров и морских разбойников любого рода", занимающихся разбоем в ущерб торговле и в нарушение международного права. В соответствии с полученными полномочиями Кидд должен был пресекать отплытие пиратов из Америки в Индийский океан, он мог также преследовать их в Индийском океане. За каждого захваченного пирата Кидд должен был получать по 50 фунтов стерлингов вознаграждения. За Эйвери была назначена сумма в 100 фунтов, которую затем подняли до 500 фунтов. Что же касается вознаграждения членов синдиката и самого короля, вопрос этот регулировался специальным документом — королевским пожалованием для судовладельцев. За вычетом доли самого короля (ему резервировалась "свободная от всех расходов полная десятая доля того, что будет взято") все имущество, захваченное у пиратов, предназначалось членам синдиката в качестве компенсации их расходов. В соответствии с документами, составленными в казначействе, члены синдиката гарантировали королю полную выплату его части приза и принимали обязательство дать полный отчет под присягой о всем имуществе и ценностях, захваченных у пиратов. От самого же Кидда в связи с этим требовалось лишь вести точную регистрацию захваченного. Согласно полученному патенту он должен был вести подробные и точные записи о всех своих действиях в судовом журнале. Ему вменялось в обязанность вести подробную опись всех судов, их вооружения, снаряжения и груза, захваченных на основании приватирских полномочий. Очевидно, что ведение такого учета предусматривалось не с целью возвращения имущества законным собственникам, а только для определения "законной" доли короля и дележа награбленного по старшинству. Таким образом, игнорировалось фундаментальное правило о признании пиратства незаконным.
Текст выданных каперских патентов не раскрывает в полной мере содержания предстоявшей деятельности Кидда. Поручение брать в качестве законного приза корабли и суда противника, а также захватывать независимых пиратов и их имущество — лишь официальная сторона его миссии. Она дополнялась тайными, но вполне определенными указаниями, которые не только разрешали, но и прямо предписывали заниматься пиратством в пользу казны и синдиката — с единственным ограничением: не нападать на английские суда. Об этом свидетельствуют как обстоятельства снаряжения экспедиции, так и поведение Кидда.
В последние дни апреля 1696 г. Кидд вышел из Плимута и взял курс на Нью-Йорк, однако в пути встретил небольшой французский корабль. Захватив его, Кидд вернулся обратно, чтобы в соответствии с условиями каперского патента и по всем правилам взятия призов реализовать свой трофей. Полученные деньги Кидд мог использовать для завершения снаряжения своего корабля и доукомплектования команды, которая насчитывала тогда восемьдесят человек. Во всяком случае, прибыв в Нью-Йорк в июле 1696 г., Кидд довел численность команды до 155 человек под предлогом того, что направляется на Мадагаскар для борьбы с пиратами. Новых матросов Кидд набирал из числа хорошо известного ему круга людей сомнительной репутации. Сам характер подбора не оставлял у современников никаких сомнений относительно подлинных целей готовившейся экспедиции. Не скрывал их и сам Кидд, который обещал своим людям "вместо балласта заполнить трюмы корабля золотом и серебром". Опытных моряков ожидала единичная доля добычи, прислугу и другой вспомогательный персонал — половинная. Из общего количества 160 долей капитану выделялись сорок.
"Корабль приключений" покинул Нью-Йорк 6 сентября 1696 г. Хотя четверо из конкретно поименованных в королевском патенте пиратов находились в то время у американского побережья, Кидд поспешил в Индийский океан. По пути он зашел за вином и фруктами на Мадейру, запасся водой на Кейп-Верде. Западнее Африки он встретился с английской королевской эскадрой в составе кораблей "Виндзор", "Тигр", "Совет" и "Стервятник" под командованием Уоррена. Кидд попытался избежать встречи, но его нагнали. Когда он показал королевский патент, ему предложили для большей безопасности продолжить путь вместе, хотя бы до мыса Доброй Надежды. Это не входило в расчеты Кидда и через шесть дней, воспользовавшись штилем, парализовавшим парусники, "Корабль приключений" на своих 30 парах весел ушел ночью от военной эскадры.
Кидд не собирался, конечно, ни воевать с французами, ни бороться с пиратами, тем более что его фрегат не был приспособлен для этого. Кидд имел на борту 36 пушек, тогда как на борту, к примеру, пиратского судна Эйвери их было 50. Зато тридцати пушек и ста пятидесяти членов команды, испытанных в пиратстве, было достаточно для нападения на местные торговые суда. Небольшой французский корабль, неожиданно попавшийся ему на пути еще до начала экспедиции, был не только первым, но и последним призом, соответствовавшим общим представлениям того времени о каперстве. И хотя Кидд направился прямо на Мадагаскар — к пристанищу пиратов Индийского океана, цель его состояла отнюдь не в том, чтобы вступить с ними в бой, а в том, чтобы присоединиться к ним, заручиться их поддержкой. Но Кидду не повезло: встретиться с пиратами ему не удалось — все были заняты морской охотой.
Запасшись на пиратской базе провизией, Кидд взял курс на Мозамбикский пролив. Потом пошел к северу и занял позицию у входа в Красное море, откуда мог наблюдать за судами, идущими из Красного моря в Индию. Кидд начал охоту за караванами, которые направлялись в арабский порт Мокка. Сюда приходили торговые суда арабов, индусов и армян с восточными товарами, отсюда вывозили западные товары, доставлявшиеся из Средиземноморья. Кидд посылал туда людей на разведку, требовал захватить "языка" или разузнать, какие там находятся суда. Узнав о предстоявшем прохождении каравана ("Мосса fleet"), Кидд принял меры, чтобы не упустить его ночью. Было установлено дежурство. "Давайте, ребята! Я сделаю из этого каравана много денег!" — воодушевлял капитан свою команду. Встретив 14 августа 1697 г. долгожданный караван, Кидд выбрал одно из больших судов и, бросившись в погоню, открыл по нему огонь. Тут он обнаружил, что караван конвоируют английский корабль "Скипетр" и датский военный корабль, которые открыли ответный огонь. Пришлось на время отложить замысел и изменить район пиратского промысла.
Теперь Кидд направил свой корабль к Малабарскому побережью Индии, району оживленного торгового судоходства. Он не прогадал. Здесь Кидд "совершил много крупных пиратских операций и грабежей, захватывая суда и грузы индийцев и других, мусульман и христиан". Неподалеку от берега севернее Бомбея 29 августа Кидд захватил местную бригантину из Сурата "Мери". Капитана захваченного судна Томаса Паркера взяли на "Корабль приключений" штурманом, а находившегося на борту португальца — переводчиком. Однако некоторым членам экипажа индийского судна удалось бежать, и известие об этом пиратском акте распространилось по всему Малабарскому побережью. Затем последовали другие удачи: 20 сентября Кидд ограбил "мусульманское судно" с грузом перца, кофе и мирры, 27 ноября захватил и ограбил "Девицу", ряд других мелких судов. О пиратской деятельности капитана Кидда английская песня говорила следующими словами:
Вел я судно от пролива к проливу
И много кораблей я встретил на пути.
И все их я сжег, когда был я в плавании,
Когда был я в плавании.
Итак, вместо борьбы с пиратством, Кидд, как выразится потом обвинитель на суде в Оулд-Бейли, "сам стал пиратом, причем величайшим и худшим из всех". Но Кидд был не просто пиратом. Он действовал, имея на руках каперские патенты английского короля, уполномочивавшие его на захват кораблей враждебных наций. Поэтому, занимаясь пиратством, он не подымал пиратского флага, а крейсировал под английским. "Ограничиваясь" захватом туземных кораблей, он не нападал на английские суда.
Кидд настойчиво стремился договориться со своими соотечественниками из Ост-Индской компании. 4 октября 1697 г. он посылает письмо английскому фактору в Каликуте: "Сэр! Я удивляюсь, почему Ваши люди боятся приближаться к нам, хотя я принял все возможные меры, чтобы дать им понять, что я англичанин и не намерен нападать на английские суда. Поэтому я взял на себя смелость написать это письмо и рассеять все подозрения. Я приплыл из Англии 15 месяцев назад с поручением короля извести пиратство в этих водах, а из Карвара вышел месяц назад, так что, я полагаю, Вам уже известно, кто я такой. Мне ничего не надо, кроме дров и воды, и если Вы прикажете мне их доставить, мы честно расплатимся с Вами за это, и я, со своей стороны, всегда рад сделать для вас все, что в моих силах. Уильям Кидд". Не портил Кидд отношений и с пиратами, которых должен был задерживать. Он не напал ни на одного, хотя океан кишел ими.
Шел второй год плавания Кидда в Индийском океане. За это время у него было уже немало счастливых встреч, но "самый лучший", "самый большой приз" был связан с захватом у Малабарского побережья 30 января 1698 г. армянского торгового корабля "Кедахский купец". Этот случай описывается практически во всех книгах о пиратстве, начиная с изданной в Лондоне в 20-х годах XVIII в. книги капитана Чарлза Джонсона "Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами, а также их нравы, их порядки, их вожаки с самого начала пиратства и их появления на острове Провидения до сих времен", действительным автором которой предположительно является Д. Дефо.
"Кедахский купец" был парусником водоизмещением в 400, а по другим данным — 500 тонн, с командой из 90 человек, вооруженным десятью пушками для самообороны. Стоимость его с оснасткой оценивалась в 400 фунтов. Корабль был зафрахтован "тремя или четырьмя армянскими купцами" и одним мусульманским купцом ("мавром"), которые перевозили свой груз из Бенгалии в Сурат и сами находились на борту. В материалах судебного разбирательства эти "армяне", "армянские купцы" фигурируют как владельцы груза и самого корабля, а их имена не указываются. Нам удалось лишь установить, что судовладельцем был "сын каландара", т. е. старосты армян, и что имя одного из фрахтователей-ходжа Ованнес (Cojee Abanus). Эти данные сохранились в сделанном по распоряжению английского наместника переводе письма "Павла армянина" (Paulo Armenian), написанного на армянском языке 27 апреля 1698 г. в ставке Великого Могола. В этом рейсе "Кедахский купец" имел на борту ценный груз: 200 тюков муслина стоимостью в 1000 английских фунтов, 70 ящиков опиума стоимостью в 400 фунтов, 250 мешков сахара на 100 фунтов, 20 тюков шелка-сырца на 400 фунтов, 100 тюков миткаля на 200 фунтов и другой груз на общую стоимость 4500 фунтов.
Эти данные содержатся в обвинительном акте по делу о захвате судна Киддом, то есть в источнике, как увидим далее, явно заинтересованном в снижении стоимости, подлежавшей выплате грузовладельцам. Другие источники говорят о наличии на судне также железа, селитры и слитков золота общей стоимостью груза в 200 000 рупий. Дж. Биддалф оценивает стоимость армянского корабля в 10 или 12 тыс. фунтов.
В момент захвата корабля его капитаном был англичанин Райт, два помощника капитана были голландцами, а канониром — пожилой француз. Такой пестрый состав команды был обычным явлением того времени. Особо следовало бы обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство, которое побуждало именно армян к "многонациональному" подбору команды. Дело в том, что европейские колониальные державы постоянно враждовали друг с другом, военные корабли и каперы, не признавая нейтральности судов и грузов других наций, захватывали их под предлогом "связи" с противником. Поэтому армянские судовладельцы вынуждены были закупать для своих торговых судов пропуска и лицензии на право ходить под флагами каждого из враждовавших государств. Обычай иметь несколько флагов сохранялся на протяжении веков. Только Конвенция ООН по морскому праву, принятая в 1982 г. и вступившая в силу в 1994 г., установила в ст. 92, что "судно должно плавать под флагом только одного государства", что оно "не может переменить флаг во время плавания, кроме случаев действительного перехода права собственности или изменения регистрации". Согласно этой Конвенции "судно, плавающее под флагами двух или более государств, пользуясь ими по удобству, не может требовать признания ни одной из соответствующих национальностей другими государствами и может быть приравнено к судам, не имеющим национальности".
Право ходить под несколькими флагами, если угодно, было формой утверждения своего нейтралитета, нежелания армянских и других "местных" купцов быть втянутыми помимо своей воли и вопреки своим интересам в конфликты европейских колониальных держав. По этой же причине армянские судовладельцы старались иметь в составе своих экипажей представителей различных европейских наций, чтобы в случае необходимости как-то оградить себя от нападений их военных кораблей или каперов.
Кидд, конечно, знал об этом и потому сознательно преследовал армянское купеческое судно не под английским, а под французским флагом. Он явно рассчитывал на то, что на армянском судне помимо английской лицензии будет и перестраховочная французская, а судовладельцам ничего другого не останется, как поднять французский флаг. Тогда судно можно было бы представить как "собственность врага" и приз считался бы законным.
Подойдя к "Кедахскому купцу", Кидд приказал капитану спустить шлюпку и явиться к нему. Армянские судовладельцы, скорее всего, сознательно, по разработанному уже сценарию, послали на борт французского, как им казалось, корабля своего канонира-француза. Поднявшись на борт "Корабля приключений" и убедившись в обмане, француз тут же заявил, что он не капитан, а всего лишь артиллерист-пушкарь. Когда же перед Киддом предстал его соотечественник капитан Райт, пират арестовал его и потребовал информации о корабле, его грузе и судовладельцах.
Как вел себя капитан Райт? Обычно европейские и особенно английские капитаны сотрудничали с пиратами и каперами своей национальности. Такой вариант поведения английского капитана армянского судна отнюдь не исключен. Если Райт заранее, еще до пиратского нападения вошел в сговор с Киддом, он мог сознательно послать на борт пиратского корабля канонира-француза. Представив себя капитаном, француз тем самым дал бы возможность оправдать захват армянского судна и его груза на основании английского королевского патента в качестве "французского" судна. Если это так, то, конечно, армянских судовладельцев побуждали представить французский "пропуск". Достоверно известно, что они этого не сделали — то ли потому, что у них не было перестраховочной французской лицензии, то ли потому, что армяне разгадали маневр Кидда и предусмотрительно послали канонира-француза без французского пропуска.
В связи с вопросом о возможности сотрудничества капитана Райта с Киддом важно отметить, что всех четырех европейцев с армянского судна пират взял в свою шайку. Хотя Кидд и продолжал настаивать на суде, что капитаном "Кедахского купца" был француз, а Райт якобы был всего лишь "содержателем таверны из Сурата", никого из четверки он не призвал в свидетели и ничего не предпринял, чтобы обеспечить их столь нужные показания. Скорее всего, он оставил их на Мадагаскаре с той частью своей пиратской шайки, которая пожелала продолжать там занятие морским разбоем.
Даже если Кидд не знал этого до нападения, теперь он был официально уведомлен, что судовладельцами и собственниками большей части перевозимого груза являются армяне. Согласно показаниям на судебном процессе, "капитан корабля заявил, что корабль и его груз дружеские, а не вражеские". Какие это имело бы последствия, если бы Кидд исходил из официальных условий каперского патента?
Десятью годами ранее, 22 июня 1688 г. английский губернатор и "Компания лондонских купцов, торгующих в Ост-Индии" (была создана в 1600 году, играла доминирующую роль в новой Ост-Индской компании, созданной в 1698 году) после "продолжительных переговоров" в Лондоне заключили договор с представителями армянских купцов, торговавших в Индии — ходжой Фаносом Калантаром и Джоном Шарденом. По договору "отныне и навсегда" за "армянской нацией" признавалось "равное право на пользование или извлечение выгод из всех привилегий, которые Компания предоставила или когда-либо отныне предоставит любому из своих предпринимателей или любым другим английским купцам". Договором признавалось, в частности, право армян осуществлять морские перевозки своих грузов из любых портов в пределах действия устава Компании "в любые порты или места в Индии, Южных морях, Китае или Манильских островах" на любых судах Компании или любых других допускаемых Компанией нелицензируемых судах на тех же условиях, которыми мог пользоваться "любой свободный англичанин".
Признание формального равноправия армянских купцов с английскими было, конечно, вынужденным. Английская компания еще должна была считаться с армянскими купцами ввиду их положения в Индии и других странах Востока — их финансового могущества, тесных связей с правителями Востока, знания торговой конъюнктуры, наличия отлаженной веками, четко действовавшей торговой сети, которая охватывала не только европейские страны, но и все страны Востока от Турции, Персии и Эфиопии до Китая и Филиппин. Наконец, как это видно из текста самого договора, одна из целей предоставления армянам привилегий и преимуществ заключалась в стремлении привлечь огромные поступления за морскую перевозку армянскими купцами восточных грузов. Требовалось свернуть основной поток этих перевозок с традиционных путей через Персидский залив, Аравийское и Красное моря к портам Восточного Средиземноморья и далее в Европу на новый "английский путь" — в Европу вокруг Африки. При этом англичане явно рассчитывали на то, что соображения безопасности, желание избавиться от нападений пиратов будут играть не последнюю роль в отношении армянских купцов к такой альтернативе. Это отнюдь не означало, что английская Ост-Индская компания в действительности отказалась от неэкономического воздействия на армян с помощью пиратства. Факты говорят об обратном. По замыслу англичан пиратство должно было использоваться целенаправленно — не во вред Компании, не для того, чтобы отталкивать армян от сотрудничества, а, напротив, для того, чтобы принудить их к такому сотрудничеству. Принудить армян отказаться от пользования своими торговыми судами и поощрять использование ими английских судов для перевозки своих грузов.
Чиня всяческие препятствия развитию армянского купеческого флота, тайно поощряя пиратство против армянских и других "местных" купеческих судов, английская Ост-Индская компания внешне выступала в роли чуть ли не защитника армянских интересов. В упомянутом выше договоре 1688 г. содержалось, в частности, торжественное обязательство Компании "увольнять с нашей службы любого губернатора, который каким-либо образом будет препятствовать или отказывать в поддержке армянам в полном осуществлении ими всех привилегий, настоящим предоставляемых им". Поэтому открытый пиратский акт против армянского торгового судна, совершенный английским капитаном на английском каперском корабле и на основании каперского патента английского короля, не только открыто нарушал условия договора с Компанией, но и наносил тем самым ущерб ее интересам.
"Законность" захвата армянского судна английским капером не могло обосновать и присутствие на борту индийского купца-мусульманина с товарами, купленными на деньги местных должностных лиц, ибо между англичанами и Великим Моголом был мир. Поэтому у Кидда оставалась одна возможность — объявить судно французским. Доказать же французскую принадлежность судна можно было либо наличием французского пропуска, либо, на худой конец, французской национальностью капитана судна. Но если на "Кедахском купце" и был перестраховочный французский пропуск, Кидд, судя по всему, получить его не смог. Именно поэтому пират прибег к своему обычному приему: он и раньше заставлял французов на борту захваченных судов представлять себя их капитанами. Этот же прием Кидд хотел применить на армянском судне, пользуясь тем, что в составе экипажа был канонир французского происхождения. Как выяснилось позже из показаний членов его команды, Кидд прикидывался, будто не понимает, что капитаном судна является англичанин Райт, а не француз. Несмотря на отсутствие оснований, предусмотренных королевским патентом, Кидд приказал своим людям идти на борт и захватить судно. Судовладельцам и собственникам груза Кидд сообщил, что "он взял корабль по полномочию короля Англии". Он, конечно, понимал, что армянское судно не может быть присуждено ему как законный приз, и поэтому, в явном противоречии с порядком обращения с захваченным имуществом врага, решил продать груз его же собственникам и тем самым как бы получить санкцию самих потерпевших. Как это было подтверждено потом свидетельскими показаниями, Кидд сказал армянам, что они могут "выкупить" корабль, если предложат подходящую сумму. Последовавшее за этим предложение армян выплатить ему 20 000 рупий (около 3 000 фунтов стерлингов), а по другим данным - 30 000 рупий, он отклонил, считая, что эта сумма несоразмерна ценности груза. По словам члена его команды Роба Брэдинхема, Кидд "ответил им, что это всего лишь ничтожная часть денег, и груз стоит намного больше". Обуянный жадностью, он решил, что будет гораздо выгоднее самому реализовать товар.
Высадив команду захваченного корабля (за исключением, как указывалось, европейцев) в разных местах побережья, Кидд приступил к распродаже части груза — прежде всего скоропортящихся товаров (мануфактуры и пр.) индийцам-банианам, известным своей склонностью к торговле. Но, действуя в качестве купца, Кидд по-прежнему оставался разбойником. Приглашая покупателей на борт корабля, он создавал здесь видимость настоящих торгов, дотошно торгуясь и пунктуально заключая сделки. Получив деньги или обмененные товары и продукты, Кидд высаживал обманутых покупателей на берег, оставляя себе и полученные деньги и проданный товар, что было не совсем обычно даже для пирата.
Только теперь Кидд решил, что награблено достаточно и можно возвращаться в Америку. Но прежде чем завершить свою почти двухлетнюю пиратскую экспедицию, надо было рассчитаться с командой и подготовиться к дальнему рейсу через океан. Наиболее подходящим местом для этого был Мадагаскар — пристанище всех пиратов. Кидд со своим "призом" прибыл сюда в начале мая 1698 г. На этот раз обитавшие на острове пираты были на месте. Был здесь и небезызвестный капитан Каллифорд со своим пиратским судном "Резолюшн". До него дошли слухи, что у Кидда есть поручение короля об аресте пиратов и захвате их имущества. Будучи в списке разыскиваемых, Каллифорд поначалу проявлял подозрительность, но Кидд сразу рассеял сомнения пиратов, сказав, что "он такой же головорез, как и они" и не собирается причинить им ни малейшего вреда: он скорее согласится, чтобы душа его горела в аду, чем тронет хотя бы волос на голове кого-либо из команды Каллифорда. Поднявшись с пиратами на борт корабля, Кидд, по словам свидетеля Р. Брэдинхема, "поднял чашу бамбукового напитка и поклялся, что будет верен и окажет им помощь". В знак дружбы Кидд подарил Каллифорду пушки, ядра и якорь, столь нужные пирату, и еще передал ему трех членов своей команды. В свою очередь, в знак признательности и доверия, Каллифорд подарил Кидду китайский шелк ценой в 400-500 фунтов. Теперь пираты ходили в гости друг к другу на корабль уже без всякой опаски. Об этих деталях братания рассказали свидетели на судебном процессе Кидда.
Часть суммы в десять или двенадцать тысяч фунтов стерлингов, полученных при "реализации" захваченного у армян товара, Кидд присвоил под видом расходов на приобретение боеприпасов и продовольствия. Кроме этого, в соответствии с условиями договора, он имел право на сорок долей. Всего лично Кидд получил 8 тысяч фунтов. Остальную сумму он разделил между членами команды, на каждого моряка пришлось 200 фунтов стерлингов. Нераспроданную часть захваченного имущества выгрузили с "Кедахского купца" и также разделили в соответствии с условиями между членами пиратской шайки. Положенные капитану 40 долей должны были составить 120 тюков.
После раздела денег и имущества часть пиратской шайки Кидда — 90 человек — осталась на Мадагаскаре, где они продолжили заниматься морским разбоем, перейдя на корабль Ост-Индской компании "Мота Фригейт". Поскольку каперский корабль Кидда дал течь, он перебрался с частью своей команды на армянское купеческое судно, превратив его в военный корабль. Через четыре месяца, в сентябре 1698 г., полный радужных надежд, он взял курс на Нью-Йорк, везя в трюмах четвертую часть награбленного — дорогие товары, золото, деньги. Кидд, вероятно, надеялся, что в Америке под влиянием губернатора Белламонта адмиралтейский суд задним числом присудит ему приз. Однако он просчитался. Дело приняло иной оборот.
Прибыв в Вест-Индию, Кидд узнал, что обвиняется в пиратстве. Он еще не представлял себе всю серьезность положения, не верил, что его, исполнителя воли могущественного синдиката, могли обвинить в пиратстве из-за захвата имущества "туземных" купцов. Ведь ограбление торговых судов и грузов "азиатов" в Англии никогда не рассматривалось как преступление! Достаточно обратиться к признаниям упомянутого уже Дж. Биддалфа относительно нравов, господствовавших среди его соотечественников: "Ограбление и плохое обращение с азиатами рассматривались как простительные проступки, и многие моряки после совершения пиратских рейдов возвращались на борт честных торговых судов, и никто не думал об этом плохо". Кидд был уверен, что урегулирует недоразумение. Ему все еще казалось, что возникшие проблемы связаны лишь с условием раздела добычи, он не знал, какие силы приведены в действие армянскими купцами и судовладельцами — жертвами его разбойных действий.
В случае с пиратским нападением Кидда, как и в других подобных ситуациях, армянские купцы и судовладельцы всеми доступными им средствами добивались возвращения принадлежавшего им имущества, наказания пиратов и их покровителей с целью предотвращения морского разбоя в будущем. В Ост-Индской компании знали о влиянии, которым пользовались армянские купцы в Индии и помнили, к чему приводили их протесты в аналогичных случаях. Компания приняла срочные меры, чтобы опередить и нейтрализовать действия армян. Сразу же по получении известия о захвате Киддом армянского судна английский губернатор Бомбея Джон Гейер отправил своего представителя к Великому Моголу, чтобы успеть оправдаться от имени Компании до того, как в столицу поступят жалобы от пострадавших. Но этот демарш ожидаемых результатов не дал.
Расчетам английской компании помешали армянские купцы, предпринявшие быстрые и решительные шаги. В Сурате они обратились к наместнику Великого Могола, который выступил с угрозой наложить запрет на торговлю европейцев в порту Сурата. Не удовлетворясь этим, армянские купцы вместе со своим мусульманским компаньоном обратились за помощью к Великому Моголу Аурангзебу. Согласно упомянутому выше письму, присланному "Павлом армянином" из ставки Великого Могола через некоего "армянского падре Sermo Churdeech", фрахтователи "Кедахского купца" — "один мусульманин и три или четыре армянина" представили Аурангзебу прошение с жалобой, что англичанин ограбил их, присвоив весь товар. По этому армянскому источнику Великий Могол приказал губернатору Сурата Аманаат Кауну "получить имущество от англичан в Сурате и вернуть собственникам", а если англичане не возвратят, прислать их к Великому Моголу. Чиновник с приказом Аурангзеба вместе с жалобщиками направились в Сурат.
Внимательно следя за действиями армян, встревоженные представители Ост-Индской компании в форте Сент-Джордж известили правление в Лондоне о развитии событий. Сообщили они и о том, что армянские купцы добились от Великого Могола приказа на имя губернатора Сурата с требованием заставить англичан вернуть разграбленные товары.
И купцы, и Великий Могол не без оснований считали, что лондонская Ост-Индская компания была тайно связана с пиратами. Поэтому Великий Могол возложил материальную ответственность за пиратство солидарно на англичан, французов и голландцев, потребовав уплатить в качестве компенсации потерь, причиненных пиратством, 14 лакхов (сотен тысяч) рупий. Только за разграбление "Кедахского купца" англичане должны были уплатить 2 лакха рупий. В подкрепление этого требования были приняты специальные меры обеспечения: к факториям европейцев в Сурате была приставлена стража, всякая торговля и сношения с ними в Сурате, Бенгалии и других местах были запрещены. Реакция Великого Могола отчасти объясняется как большим влиянием, которым пользовались армяне при дворе Аурангзеба, так и тем, что "мусульманский пайщик армян" действовал как торговый представитель высоких могольских должностных лиц: взяв у них 200 тысяч рупий (так в источнике!), он обратил деньги в бенгальские товары и погрузил на армянское судно.
Как реагировали на это европейские колонизаторы? Голландцы и французы попытались было уйти от солидарной ответственности, сославшись на то, что пираты были англичанами. В то же время, видя решимость Великого Могола положить конец европейскому пиратству, компании прибегли к угрозам. Голландцы заявили, что они вообще покинут Сурат. Что же касается англичан, то в ответ на требование Великого Могола их губернатор в Бомбее Джон Гейер осуществил одну из самых ранних акций "дипломатии канонерок". Он снарядил три военных корабля и во главе эскадры прибыл в Сурат. Наведя пушки на крепость, Гейер послал к могольскому наместнику гонца с сообщением, что англичане не намерены ни платить компенсации за действия пиратов, ни гарантировать от актов пиратства в дальнейшем. Он обещал лишь конвоировать корабли, идущие в Мокку. Сообщив, что война в Европе кончилась, Гейер обещал, что эскадра, направленная из Англии, будет бороться с пиратами.
В этих условиях наместник Великого Могола согласился не настаивать на компенсации самими компаниями за старые потери, если англичане примут обязательство компенсировать ущерб от пиратства в будущем. Это также было отвергнуто, но Аурангзеб сумел настоять на своем и, в конце концов, англичане, французы и голландцы вынужденно приняли письменное обязательство действовать совместно для уничтожения пиратства и компенсировать весь ущерб, который будет наноситься пиратами в будущем. Согласно принятым обязательствам, голландцы выплачивали 70 тысяч рупий губернатору, конвоировали корабли с паломниками в Мекку и патрулировали вход в Красное море. Англичане должны были уплатить 30 тысяч рупий и патрулировать акватории, которые тогда называли Южными Индийскими морями. Французы, заплатив столько же, должны были патрулировать Персидский залив.
Получив известия о мерах, принятых Великим Моголом в связи с захватом армянского судна, правление Ост-Индской компании стало опасаться за свое положение в Индии. Надо было успокоить Великого Могола, как можно скорее продемонстрировать действенные меры против пиратства вообще и конкретно против Кидда. Именно поэтому полученную в августе 1698 г. информацию о захвате "Кедахского купца" и других пиратских актах Кидда правление Компании передало членам Верховного суда в Лондоне. В Индию направили сообщение о мерах, принятых в Англии с целью лишить пиратов возможности получать припасы из Америки. Известили также об аресте капитана Кидда в Вест-Индии и его скором предании суду, как и захваченных людей пирата Эйвери.
На самом же деле правительство Англии и Ост-Индская компания рассчитывали отделаться внешней видимостью борьбы с пиратством. Принятие каких-либо эффективных мер против пиратов саботировалось. Капитаны кораблей Ост-Индской компании отказались действовать в качестве конвоя под предлогом, что у них нет полномочий преследовать пиратов. Сама Компания не проявляла желания брать в аренду, экипировать и укомплектовывать командами местные суда. Когда же в январе 1699 г. в Индийский океан прибыла, наконец, английская военная эскадра из четырех кораблей под командованием коммодора Уоррена, начался период "странной" борьбы с пиратством. Королевские комиссары на борту имели право амнистировать добровольно сдавшихся пиратов. Амнистия не распространялась только на самых известных — Эйвери и Кидда. Это вряд ли было показателем решимости английского правительства бороться с пиратством. Во всяком случае, коммодор поставил эскадру на якорь у Мадагаскара, воздерживаясь от активных поисков или преследования. Пираты спокойно ждали окончания показательных "операций" и ждать пришлось недолго. Коммодор заболел и в ноябре 1699 г. умер. Сменивший его капитан Литтлтон боролся с пиратством не менее своеобразно. Два месяца он вел переговоры с пиратами, оказывая им при этом, как свидетельствует Гамильтон, различные услуги: "По каким-то весьма веским причинам он их отпускал на волю. А так как им трудно было килевать свои большие корабли, он щедро помогал им, поставляя большие блоки и снаряжение для очистки". Единственный "недружественный" акт по отношению к пиратам, зарегистрированный в судовом журнале: на салют пиратов из девяти залпов Литтлтон ответил только пятью залпами.
Что касается дела Кидда, и губернатор Белламонт, и английские власти в Лондоне больше заботились о получении своей доли добычи, чем о наказании преступления и возмещении ущерба потерпевшим. Проявляя осторожность, Кидд сперва рассредоточил и надежно запрятал свои сокровища. Часть их он разместил в различных тайниках на побережье нью-йоркского залива и уже потом направился на Род-Айленд. Отсюда через своего друга юриста Эммота капитан связался с Белламонтом.
Кидд сообщал губернатору, что захваченный в Индии "маврский корабль" с грузом большой ценности он оставил в бухте на побережье Эспаньолы (Большие Антильские острова), а сам, чтобы "договориться об условиях", прибыл на шлюпе, имея на борту ценностей на тысячу франков. Кидд соглашался явиться к Белламонту при условии, что ему будет обещано прощение, уверял, что "может доказать свою невиновность показаниями многих свидетелей". Белламонт посоветовал Кидду без опасений прибыть в Бостон, если он в состоянии подтвердить свою невиновность.
Понадеявшись на власть денег и возможности синдиката, Кидд 2 июля 1699 г. прибыл в Бостон, где его подвергли допросам губернатор и Совет. Белламонт потребовал указать местонахождение "Кедахского купца". Большую "заботу" о судьбе захваченной Киддом добычи проявляли и его компаньоны в Англии. В специальном письме от 7 сентября 1699 г. лорды, члены Казначейства выразили надежду, что губернатор Белламонт примет необходимые меры "для сбережения захваченных Киддом и другими пиратами сокровищ от расхищения и пришлет все сюда в сохранности". Какие надежды связывались в Лондоне с конфискацией богатств Кидда, можно представить с учетом отправленного туда сообщения Белламонта, о достоверной стоимости груза "Кедахского купца" приблизительно равной 70 тысячам фунтов.
Кидд, однако, перехитрил своих высоких компаньонов. Он долго отказывался указать место, но, в конце концов, согласился. Туда решили послать специальное судно, но прежде, чем оно было готово, выяснилась ложность сведений. В то же время от капитана Эвертли поступило сообщение, что люди Кидда перенесли грузы с "Кедахского купца" на шлюп и увезли на Кюрасао, а армянский корабль подожгли.
Тем не менее, губернатор Белламонт в Америке и пайщики пиратского предприятия в Лондоне делали все, чтобы выгородить Кидда. Только после трех недель раздумий и колебаний губернатор арестовал своего подопечного, уже объявленного пиратом, в первую очередь благодаря действиям пострадавших армян. Идя на этот вынужденный шаг, губернатор, очевидно, еще не представлял, как будут развиваться события в Лондоне. Сообщники по синдикату надеялись, что им удастся оставить Кидда под опекой Белламонта в далекой американской колонии и не допустить его доставки в Лондон, где накалялись страсти.
Благодаря энергичным протестам армян и решительным мерам Великого Могола Аурангзеба дело приняло совершенно неожиданный оборот. Откровенно пиратские действия Кидда, совершенные на основании полномочий короны и организованные синдикатом высокопоставленных государственных деятелей — лидеров партии вигов, были использованы оппозицией в парламенте в политических целях. В результате разразился колоссальный политический скандал, в котором оказался замешанным и сам король. Представляя пайщиков этого предприятия как "опаснейшее объединение высокопоставленных людей, превратившихся в пиратов", в Лондоне открыто говорили, что они "занимались актами пиратства и разбоя по желанию и при поддержке его величества короля". Как свидетельствуют современники, дело Кидда "долгое время было главным предметом дискуссий в королевстве". Более того, оно было предметом разговоров во всем мире. Палата общин решила провести следствие по этому делу, мотивируя свое решение тем, что полномочия, данные Кидду королем через губернатора Белламонта, наносят ущерб чести короля, "противоречат международному праву" и "пагубны для торговли". Были уже подготовлены статьи импичмента против канцлера и других причастных к делу должностных лиц.
Чем острее становилась обстановка в Англии, тем упорнее пиратский синдикат пытался удержать Кидда в Америке. Восемь месяцев, что он провел в бостонской тюрьме, шла переписка с Лондоном. Когда же Адмиралтейство послало в Америку специальный корабль "Рочестер" для доставки в Лондон пиратов и захваченного ими груза, случилось нечто весьма странное: из всех кораблей, направлявшихся в Новую Англию, он один не смог совершить плавание. Сославшись на шторм, "Рочестер" в ноябре 1699 г. вернулся в Англию. В этом видели еще одно проявление тайного сговора, затрагивающего не только непосредственных организаторов пиратской экспедиции, но и высоких ее покровителей.
В связи с задержкой доставки Кидда в Лондон и настойчивыми усилиями вигов взять суд над ним под свой контроль, парламент в марте 1700 г. затребовал у лорда Белламонта все необходимые документы и специально предписал, чтобы до следующей его сессии Кидда не судили, не оправдали и не помиловали. Опасаясь саботажа со стороны Белламонта и других членов синдиката, Палата представителей настаивала, чтобы Адмиралтейство представило письма, инструкции, протоколы допросов Кидда, королевское пожалование лорду Белламонту за Большой печатью, тексты соглашений между королем и получателями дарственных актов и все другие относящиеся к делу бумаги. Ожидались большие разоблачения. Шел слух о наличии еще одного патента, о существовании секретных статей договора между Белламонтом и Киддом.
8 апреля 1700 г. фрегат "Эдвайс", доставил Кидда в Англию, на о. Ланди и направился в Даунс, куда король послал за ним яхту и назначил маршала Адмиралтейства для взятия его под стражу и изъятия его бумаг. Узнав об этом, парламент принял еще одно постановление, предписывавшее доставить Кидда для допроса прямо на скамью Палаты общины с тем, чтобы устранить малейшую возможность воздействия на него.
Как только Кидда доставили в Лондон, начались споры, кто должен вести следствие. Дело взяла на себя Комиссия Адмиралтейства. Король распорядился, чтоб оно было рассмотрено на заседании Тайного Совета в его личном присутствии. 14 апреля 1700 г. Адмиралтейство "приватно" допросило Кидда. Все это вызвало резкие возражения в Палате представителей, которая настаивала на парламентском рассмотрении дела, протестовала против его рассмотрения в Комиссии Адмиралтейства на том основании, что она не составляет суда и не обладает соответствующей судебной юрисдикцией. В результате компромисса по просьбе Адмиралтейства парламент допустил судью Адмиралтейства на допрос Кидда в присутствии депутатов 14 апреля 1700 г. Но после того как Кидду были заданы вопросы о пиратстве, представителя Адмиралтейства попросили уйти. Допрос продолжался, но теперь показания Кидда о причастности тех, кто дал ему королевские патенты, — лорда-канцлера Сомерса, первого лорда Адмиралтейства Орфорда, государственного секретаря лорда Ромни, лорда Белламонта и других — стали достоянием Палаты общин. Парламентариев интересовало в первую очередь, имел ли Кидд секретные указания синдиката нападать на местные корабли и присваивать награбленные сокровища. Иначе говоря, существовала ли тайная договоренность о занятии пиратством.
У замешанных в деле знатных особ было много возможностей влиять на ход расследования. Среди них — непосредственное воздействие на Кидда, от чьих показаний зависело многое. Если канцлеру и другим высокопоставленным вигам грозили политический скандал и импичмент, то для самого Кидда дело шло о жизни и смерти. Будет ли он молчать, возьмет ли всю вину на себя? Больше года провел Кидд в знаменитой лондонской тюрьме строгого режима Ньюгейт и все это время к нему подсылали представителей двух противостоящих групп, организовывали тайные встречи с замешанными в пиратстве лордами. В дело было вовлечено много людей — от короля Англии до хозяйки таверны на Чарингкросс, сторожа тюрьмы Ньюгейт и владельца кофейни около Палаты представителей. Одни внушали ему, чтобы он сказал правду и не шел на казнь ради высокопоставленных вдохновителей и организаторов пиратского предприятия. Другие обещали поддержку, если он выгородит членов синдиката. Судя по поведению Кидда, он больше прислушивался к последним. Вероятно, верил в их всемогущество: сумели же они оттянуть суд на целый год! Он не сказал ни слова, которое могли бы истолковать во вред членам синдиката.
Поскольку Кидд отрицал наличие секретных инструкций, оппозиция в парламенте не смогла доказать, что пиратские действия Кидда совершались по прямым указаниям синдиката. Это дало вигам возможность отыграться на одном Кидде, сведя все к нарушению полномочий. В итоге оппозиции не удалось добиться осуждения членов синдиката. При голосовании в Комитете полного состава Палаты общин было отклонено общее обвинение в том, что королевские пожалования каперских полномочий наносят ущерб чести короля, противоречат статутному праву Англии, посягают на частную собственность и гибельны для торговли.
Возник принципиальный спор о законности каперства, о различии между каперством и пиратством, об абсолютно необходимых условиях правомерного приза, о правах короны на захваченное пиратом имущество и т. п. Позиции членов синдиката изложены как в материалах расследования, так и в специальной публикации — памфлете, подготовленном "другом" Белламонта, который представлял себя "личностью с высокими достоинствами". Защита членов синдиката строилась прежде всего на доказательстве законности пожалования королем каперского патента Кидду. Опираясь на широкое толкование института каперства юристами средневековья, они утверждали, что во время войны все государи имеют право выдавать каперам полномочия вести борьбу с противником, захватывать, удерживать и использовать его корабли и грузы или такую их часть, какую государь сочтет нужной в зависимости от условий войны. С передачей права вести войну подданным к ним переходит право государя на военную добычу и право судить, кого считать врагом. Предоставление каперам права ареста судов и их груза до вынесения решения суда об их присуждении тем самым допускает и "возможность того, что они могут причинять трудности друзьям и союзникам: завладевать судами купцов, находящихся в мире с королем, или, по меньшей мере, их имуществом, которое может оказаться на борту вражеских судов". На пострадавших дружественных купцов может лечь бремя доказательства в английском суде своих прав на захваченное имущество.
Применительно к конкретному случаю с армянским судном, утверждали, что король мог претендовать на "ряд прав и интересов" в отношении захваченного Киддом имущества либо непосредственно, либо через назначенных лиц, получивших его пожалования. С любой точки зрения это была попытка легализовать присвоение результатов морского разбоя.
Участие в данном деле высших должностных лиц королевства оправдывали традициями со времен королевы Елизаветы. Более того, каперство и пиратство представлялись как отвечающие высшим национальным интересам. Исходя из этого, против критиков синдиката выдвигалось контробвинение — они якобы "предают страну".
В юридических аргументах обвинения указывалось, что действия капера должны соответствовать нормам международного права, в частности, приз должен быть присужден соответствующим судом. Указывалось, что с правовой точки зрения король не мог "жаловать" имущество, захваченное капером, по крайней мере, до вынесения соответствующего судебного решения. Поскольку же Кидд действовал не как капер, а как пират, то в соответствии с международным правом пиратский захват имущества не мог повлечь изменения права собственности. Следственно собственники имущества сохраняют законный титул, а всякое распоряжение таким имуществом кем бы то ни было, в том числе королем, юридически неправомерно. Ссылка на этот основополагающий принцип международного права встречается и в других случаях судебной защиты армянами своих прав от пиратов.
Указывалось также, что купцы, при незаконном захвате их имущества, заранее лишались правосудия. Жертвы пиратства не могли надеяться на правосудие в суде лорда-канцлера, поскольку это противоречило бы его личным интересам. Они не могли надеяться на правосудие в Адмиралтействе, где председательствовал лорд Орфорд — другой член синдиката. Они не могли рассчитывать на правосудие короля, поскольку всякий доступ к нему осуществлялся через секретаря, а им был член синдиката герцог Шрусбери. Не могли они добиться правосудия и в английской колонии — в Америке, поскольку там находился лорд Белламонт. Единственным судьей, определяющим законность захвата груза, был сам капитан Кидд. Указывалось, что этот казус может послужить плохим прецедентом, ибо заранее признавать виновными и лишать имущества противно идее правосудия и Биллю о правах.
Тем не менее, английский парламент отказался осудить каперство даже тогда, когда оно выражалось в чистом пиратстве. Англия не могла и не хотела отказываться от каперства — одной из основ политики колониализма и морской гегемонии. Поэтому осуждению подверглось отступление от формальных канонов каперства. Долгие дебаты в Палате общин завершились своеобразной сделкой. Угроза импичмента высокопоставленных вигов была снята. Подлинный организатор этого предприятия губернатор лорд Белламонт умер своей смертью 5 марта 1701 г. в Нью-Йорке. Он был похоронен с почестями. Действовавшего по его сценарию главного исполнителя планов синдиката — капитана Кидда в соответствии с решением парламента предали обычному суду.
Кидда судили 8-9 мая 1701 г. в суде Адмиралтейства в Оулд-Бейли за пиратский захват армянского корабля "Кедахский купец" и за убийство канонира Мура, не пожелавшего заниматься пиратством вместе с ним. По обвинению в пиратстве судили девять членов его команды. Два других члена команды были представлены в качестве королевских свидетелей. На суде присутствовал и один из пострадавших армянских негоциантов — тот, кто предложил выкупить корабль за 20 тысяч рупий.
Теперь, когда обвинение членов правительства в прямом и непосредственном участии в пиратстве было снято, вопрос на суде стоял в несколько иной плоскости, чем при рассмотрении в парламенте. Кидду и членам его команды было предъявлено обвинение в том, что они "в открытом море на расстоянии десяти лиг от Кочина в Ост-Индии и в пределах юрисдикции Адмиралтейства Англии по-пиратски и преступно напали, взяли на абордаж, ворвались и завладели торговым судном под названием "Кедахский купец", принадлежавшим лицам, с которыми... присяжные лично не знакомы, и после этого там, на том же самом судне, по-пиратски и преступно совершили физическое насилие над моряками, когда милостью Божией и нашего самодержавного государя короля царил мир, и после этого там по-пиратски и преступно угрожали жизни названных моряков этого судна, которые находились на вышеупомянутом судне, и после этого... по-пиратски и преступно, воровским образом завладели, захватили и увели... упомянутое торговое судно под названием "Кедахский купец"". Подробно перечислялись состав и стоимость захваченного имущества — как корабля, так и его груза, которые состояли "на попечении и во владении названных моряков, находившихся на том же судне".
В цитированном отрывке обвинительного акта настойчиво подчеркивается мысль, что захват судна и груза произошел в открытом море и с применением насилия к владельцам судна и груза, с которыми Англия находилась в состоянии мира. Обвинитель от Адмиралтейства д-р Ньютон, изложив обстоятельства дела, дал следующую оценку действиям Кидда: его преступления, сказал он, нанесли ущерб не только непосредственно пострадавшим, но и вообще всей торговле на Востоке. Его преступления осуждают не только пострадавшие, но и все человечество.
Зачитав тексты королевских патентов, Кидда спросили, что он может сказать в свое оправдание, чем может обосновать захват "Кедахского купца" и его груза. Кидд строил свою защиту на том, что он действовал в пределах полномочий, предусмотренных каперским свидетельством и королевскими патентами, что захват "Кедахского купца" и его груза представляет законный приз, так как корабль и его груз принадлежали французам. Такая постановка вопроса, если бы она была подтверждена и принята судом, отвечала интересам синдиката. В случае успеха (впрочем, уже маловероятного) члены синдиката получили бы дополнительные козыри против оппозиции, а в случае неудачи ответственность падала на одного Кидда, поскольку его действия расценивались бы как самовольное нарушение условий королевских пожалований.
Оценивая правовые аргументы, выдвигавшиеся Киддом в свое оправдание, "лорд главный барон" Уорд заявил суду: "Он сказал Вам, что действовал на основании полученных патентов, но это можно принять только в том случае, если он представит Вам доказательства того, что корабль и его груз принадлежали французскому королю или его подданным или что корабль имел французский пропуск. В противном случае ничто не может освободить его от обвинения в пиратстве, ибо если он захватывает имущество, принадлежащее друзьям, то он пират. У него не было никаких полномочий на это. Имеющиеся у него патенты не дают ему никаких оснований для захвата такого имущества". Подсудимый "стремится доказать, что судно и его груз принадлежат французам или, по крайней мере, что судно находилось в плавании с французским пропуском", и если бы дело обстояло так, как говорит Кидд, это был бы "законный приз, подлежащий конфискации". В противном же случае, если будет доказано, что захват был совершен в открытом море, если имущество принадлежало лицам, находящимся в мирных отношениях с английским королем, тогда эти действия должны квалифицироваться как "чистое пиратство": "Такие действия, совершенные на суше, составляли бы тяжкое уголовное преступление, а совершенные на море, они составляют пиратство, ибо это захват судна у законных собственников и его использование для себя".
Итак, дело сосредоточилось вокруг доказательства факта принадлежности судна и его груза армянам и подданным Великого могола, а не французскому королю или его подданным.
В отличие от пиратствующих каперов, а в более широком плане — от колониальных морских держав, которые не проводили различия между национальной принадлежностью судна и груза и тем оправдывали захват нейтрального груза на вражеском судне, в аргументации армянских купцов прослеживается четкое разграничение юридического положения судна и перевозимого на нем груза. Транспортируя значительную часть своих товаров на судах постоянно враждовавших между собой европейских государств, армянские купцы были заинтересованы в обеспечении интересов нейтральных грузовладельцев. К разграничению положения судна и груза прибегали и в тех случаях, когда армянам принадлежали как судно, так и груз. Тем самым перестраховывались интересы армян-грузовладельцев при захвате судна под предлогом его вражеского флага — мнимого или действительного.
Такая позиция армянских купцов имела и более широкую международно-правовую основу, восходившую к традициям Киликийской Армении. Задолго до утверждения в международном праве этого принципа армянские купцы исходили из того, что нейтральные грузы, захваченные на неприятельском судне, подлежат возврату их собственникам (этот принцип был окончательно подтвержден в Парижской декларации 1854 г.).
Хотя английская практика долгое время не воспринимала норму, согласно которой нейтральное имущество на борту вражеского судна, должно быть объявлено свободным от захвата, на судебном процессе Кидда, очевидно под воздействием армян, видевших в этом дополнительные возможности защиты своих интересов, ставился отдельный вопрос об установлении принадлежности самого груза. В частности, лорд Уорд задавал свидетелям Брэдинхему и Палмеру специальный вопрос: "Принадлежал ли груз французам или армянам?" Ответ был однозначным: "Армянским купцам".
Следует обратить внимание, что и сам Кидд, не очень надеясь на возможность доказать французскую принадлежность судна и его груза, упорно называл армянских владельцев "маврами", "мусульманами", а о самом "Кедахском купце" говорил не иначе как о "маврском", "мусульманском корабле". Делалось это сознательно, с целью обойти тот факт, что корабль и его груз были захвачены в прямое нарушение упомянутого уже договора английской Ост-Индской компании с "армянской нацией" (любопытно, что этой линии придерживаются и почти все английские историки пиратства).
Поскольку установление неприятельского характера судна и его груза упиралось в национальную принадлежность, на судебном процессе неизбежно должен был возникнуть и вопрос о том, как она определяется. В практике национальность судна определялась не столько национальностью его судовладельца, сколько его флагом и пропуском. Поэтому вопрос о французском пропуске стал ключевой проблемой всего судебного процесса. Если бы Кидд мог представить французский пропуск или как-то иначе доказать его существование, это дало бы английскому суду и покровителям Кидда реальную возможность оправдать пирата.
Заранее продуманная версия с французским пропуском не была оригинальным изобретением Кидда или синдиката. Она основывалась на обычной у каперов практического приписывания незаконно захваченному судну вражеской национальности. Так поступил, в частности, шевалье Анри д'Англюр де Бурлемон в 1649 г. при захвате в Средиземном море торгового корабля "Мерканте Армено", который принадлежал армянскому судовладельцу Антону Богосу и перевозил груз армянских купцов. Кидд пытался подвести под эту версию необходимую базу уже во время захвата "Кедахского купца". Потом он безуспешно ссылался на нее при расследовании в парламенте, а теперь продолжал свою линию на суде.
Свидетели противной стороны показали, что Кидд, стремясь с самого начала создать доказательства французской принадлежности захваченного судна, притворялся, будто верит, что француз-канонир — это капитан "Кедахского купца", хотя все знали, что он им не был. На просьбу представить суду французские пропуска, изъятые, по его словам, при взятии армянского и других судов, Кидд заявил, что они будто бы находятся у губернатора Белламонта. С тех пор и до настоящего времени ходит версия защитников Кидда о том, что французский пропуск якобы на самом деле был отобран у капитана армянского корабля и вместе со всеми документами и судовым журналом передан Белламонту. Однако и тогда на суде, и перед современным историком встает вопрос: почему же член синдиката должен был утаить доказательства невиновности своего соучастника и исполнителя? Единственный аргумент в пользу такого предположения: Белламонт мог быть заинтересован в обвинении Кидда в пиратстве, рассчитывая присвоить привезенные им сокровища, Но, во-первых, не Белламонт первый обвинил Кидда в пиратстве. Напротив, он оказался перед свершившимся фактом. Во-вторых, он не мог рассчитывать на получение изъятых у Кидда сокровищ, ибо, как он сам признавал в своих письмах, ввиду виновности Кидда в пиратстве арматоры "Корабля приключений" не могли ссылаться на королевские пожалования как основание для прав на имущество, привезенное Киддом. Наконец, сокрытие важного доказательства было просто неблагоразумно, ибо обвинения Кидда в пиратстве навлекали обвинения в адрес всего пиратского синдиката. Наоборот, Белламонт и другие члены синдиката были заинтересованы в представлении доказательств французских связей армянского и других судов, захваченных Киддом.
Не удовлетворяясь голословными заявлениями обвиняемого, суд потребовал предъявить доказательства существования такого пропуска. Кидд обещал представить свидетелей, которые подтвердят, что захваченный им корабль имел французский пропуск, но свидетели подтверждали только утверждения, слышанные от самого Кидда. Свидетель Палмер сказал, что он "не видел никакого пропуска". Тогда сам Кидд задал ему наводящий вопрос в форме утверждения: "Но вы слышали о нем". На это Палмер ответил: "Я слышал о нем, но никогда не видел". Дэвис, приглашенный по просьбе Кидда в качестве свидетеля, не смог подтвердить, что французский пропуск, о котором он слышал от капитана Элмса, действительно принадлежал "Кедахскому купцу". Брэдинхем, которого по просьбе Кидда повторно спросили о пропусках, снова ответил отрицательно: "Я никогда не видел французского пропуска, я только слышал о нем". Суду ничего не оставалось, как констатировать, что "нет никаких доказательств, подтверждающих наличие французских пропусков, и, судя по всему, никто не видел их, кроме него самого (т. е. Кидда — Ю.Б.), если только он сам их видел".
Потерпевшие купцы через своего представителя на судебном процессе сумели доказать армянскую принадлежность как корабля, так и его груза. Они ссылались и на соглашение Компании с "армянской нацией" 1688 года, и на существующие мирные отношения между Великим Моголом и королем Англии. Внимание суда было обращено на то обстоятельство, что при захвате судна "капитан заявил, что корабль и его груз принадлежат друзьям, а не врагам". В резюме лорда главного барона Уорда на основании материалов судебного разбирательства подтверждалось, что "Кедахский купец" принадлежал армянам: "Как вы слышали, свидетели, подтверждают, что судно и его имущество принадлежат армянам и другим людям, находящимся в мирных отношениях с королем".
Поскольку Кидд продолжал бездоказательно ссылаться на существование французских пропусков, внимание суда обращалось и на то обстоятельство, что даже наличие французского пропуска и пользование французским флагом не давали бы ему права на присвоение судна и его груза. В соответствии с действовавшими правилами для законности приза необходимо было решение специального призового суда. Кидду указали, что если бы "Кедахский купец" имел французский пропуск и шел под французским флагом, то он обязан был бы произвести опись корабля и его груза, а затем добиться судебного присуждения приза в соответствующем суде Англии или какого-либо английского владения, как он сделал это с небольшим французским судном, захваченным между Плимутом и Нью-Йорком в начале подготовки экспедиции. В этом случае Кидд мог бы претендовать лишь на свою часть приза, а король должен был получить свою, как это предписывалось в патентах. Однако "ничего этого не было сделано, а захваченные деньги и товары были разделены". Кидд не смог объяснить, почему он никак не проявил намерения добиться судебного присуждения приза и распорядился всем грузом по своему усмотрению.
Не имея возможности отрицать факт незаконного присвоения захваченного груза и его дележа между членами своей команды, Кидд стал ссылаться на бунт экипажа. Он утверждал, что не стремился к пиратскому захвату купеческих судов, не хотел присвоения их грузов, что к этому его каждый раз вынуждала бунтующая команда, предварительно заперев в капитанской каюте. По словам Кидда, он не принимал участия в разделе добычи, более того — даже не знал о нем. Этот "аргумент" оказался несостоятельным. Напротив, из свидетельских показаний стало очевидно, что сам Кидд активно призывал команду к морскому разбою. По показаниям Палмера, во время погони за караваном, направлявшимся в арабский порт Мокка, Кидд вдохновлял свою команду обещаниями богатой добычи: "Давайте, ребята! Я сделаю из этого каравана много денег!"
Когда Кидд попытался на суде свалить вину на команду, произошла любопытная перепалка между ним и членом его команды Палмером, позволяющая узнать некоторые подробности захвата "Кедахского купца" и роли в этом самого Кидда. Воспроизведем эту сцену на основании судебного протокола:
Кидд: "Я вызвал всех вас на палубу, чтобы посоветоваться. Вы знаете, господин Палмер, я бы вернул им это судно, но вы бы не вернули. Вы все голосовали против возвращения".
Палмер (указывая на армянина, присутствовавшего на суде): "Этот человек предложил вам 20 тысяч рупий за судно, но вы отказали ему".
Кидд: "Не спросил ли я, куда вы поведете это судно? А вы сказали: "Мы захватим его и возьмем на Мадагаскар".
Палмер: "Капитан Кидд сказал своим людям: "Эти армяне подняли такой шум из-за судна, что я должен был сказать, что мои люди не откажутся от него". Но на месте не было и четверти людей, которых это касалось. Армяне стали кричать и ломать руки в отчаянии. Тогда капитан Кидд сказал: "Я должен сказать, что мои люди не отдадут им судна". Поэтому некоторые люди из команды пошли на полубак, делая вид, что они не отдадут им судно. Но их было меньше четверти от числа всех, кого это касалось".
В судебных протоколах содержатся и другие сведения об активной роли Кидда. Так, на вопрос, присутствовал ли он при захвате "Кедахского купца" и дележе добычи, член команды подсудимый Черчилль ответил: "Да, милорд, но я ничего не мог поделать. Я был вынужден выполнять приказы, которые давал мне капитан". Такие же показания дал подсудимый Джеймс Хоув.
По свидетельствам Палмера и других членов команды было установлено, что Кидд, захватывая торговые суда, "подвергал их грабежу и разбою", избивал людей и применял пытки, чтобы узнать, где деньги, не утаили ли от него что-то стоящее его внимания. На суде подтвердилось, что Кидд добивался беспрекословного повиновения команды: он расправлялся с теми, кто возражал против его разбойных действий, представляя их в качестве "бунтовщиков". Так, oн обвинил в бунте и убил артиллериста — "мавра", который не хотел участвовать в его преступлениях.
Суд не мог не сделать должного вывода из того факта, что Кидд никогда не пытался приводить захваченные им суда в порт для судебного присуждения приза. "Не проявляя желания получить такое судебное решение, он продемонстрировал свои цели, намерения и желания, он показал, что действовал не на основании своего патента, а вопреки ему...".
Установив, что судно и его груз принадлежали армянам — "народу, находящемуся в дружбе с королем Англии" — суд пришел к заключению, что ни один из имевшихся у Кидда патентов не позволял обосновать захват "Кедахского купца". Поэтому 9 мая Кидда и шестерых его сообщников признали "виновными в пиратском захвате судна и находившегося на нем груза", а также в других актах пиратства и приговорили к смертной казни. "Милорд, это очень жестокий приговор, — сказал Кидд в последнем слове. — Я самый невиновный из всех".
Две недели после вынесения приговора священник призывал его признать свою вину и раскаяться, но он был непреклонен. Его повесили вместе с сообщниками 23 мая 1701 г. в доке, где казнили пиратов. Как говорили, веревка на перекладине оборвалась. Кидда подняли и повесили на дереве.
Относительно возмещения ущерба армянских грузовладельцев и судовладельцев сведений нет. Означает ли это, что они получили соответствующую долю из суммы компенсации, предусмотренной по соглашению с Великим Моголом? Это представляло единственную реальную возможность обеспечения интересов пострадавших. Если бы им пришлось полагаться на английское правосудие, их шансы на возвращение имущества сводились бы практически к нулю. И не только потому, что сам Кидд скрыл награбленное, но и потому, что этого не допустило бы само английское государство. Ни виги, организовавшие это пиратское предприятие, ни оппозиция не стремились к возвращению имущества его законным собственникам. В Англии использовали в качестве средства обогащения не только пиратство, но и "борьбу" с пиратством. Учитывая награбленные богатства, нетрудно представить, что задержание пиратов или прощение при добровольной сдаче были весьма прибыльным делом. Сама возможность заниматься этим была предметом вожделений и острой конкурентной борьбы.
Ссылаясь на то, что "большое число злонамеренных людей, прибывших на кораблях из Европы и Вест-Индии, совершали акты пиратства под английским флагом", английская Ост-Индская компания еще 2 марта 1696 г. направила легацию лордам Адмиралтейства с просьбой разрешить ее кораблям захватывать пиратов и дать самой Компании право учредить адмиралтейский суд для их осуждения. Однако в Лондоне не желали отказываться от права присуждения призов в пользу Компании. Там готовы были назначить вице-адмирала в Бомбей для борьбы с пиратством, но без передачи прибыльной прерогативы распоряжаться захваченным имуществом.
Имея в виду это соперничество за право распоряжаться богатствами пиратов, автор упоминавшегося памфлета в защиту губернатора Белламонта разоблачает тех, кто создал "шумное дело" вокруг "законных" действий синдиката, а сам повинен в незаконном обогащении под прикрытием мер "борьбы" с пиратством: "Есть люди, которые вкусили сладость от держания адмиралтейских судов в Индии и, прикрываясь этим, на протяжении ряда лет совершали самое настоящее пиратство на кораблях Англии и индийских правителей. За это они платили короне в виде десятой части так называемых призов и, как все говорят об этом, еще больше за дачу прощения пиратам. Они озлоблены, что не могут опять действовать как адмиралтейские суды и не могут присвоить все добро, взятое у пиратов в свое владение под предлогом обеспечения имущества, подлежащего возвращению их собственнику в Индии".
Отсюда можно понять смысл той возни вокруг сокровищ Кидда, которая долгие годы не утихала в Англии и в Америке. Даже сведения о найденных властями сокровищах Кидда крайне запутаны и противоречивы. По данным "Британской энциклопедии" на о. Гардинер (восточнее Лонг-Айленда) была найдена только часть сокровищ Кидда стоимостью около 14 тысяч фунтов стерлингов, привезенная на шлюпе "Антоний", на котором он прибыл для переговоров с Белламонтом. Согласно данным английского биографического словаря большая часть богатства находилась на "Кедахском купце", который так и не был найден. Согласно этому источнику правительство не смогло найти и той части сокровищ, которая была зарыта на о. Гардинер. По данным же американского биографического словаря властями было обнаружено золота, драгоценностей и других богатств на сумму приблизительно 10 000 фунтов стерлингов, "Кедахский купец" был захвачен Боултоном и его командой и оценен в 40–50 тыс. фунтов. Достоверно известно лишь то, что в 1705 г. был принят парламентский акт, уполномочивавший корону "распорядиться имуществом отъявленного пирата Уильяма Кидда на нужды больницы в Гринвиче". На основании этого акта конфискованные 6 472 фунта были переданы королевой Анной указанной больнице.
Зато с самого начала поползли слухи о зарытых кладах — испанских золотых монетах, которые армянские купцы привозили из Манилы, различных драгоценностях. Имели ли слухи реальное основание или их распространяли власти, захватившие эти богатства? И сегодня считается, что вопрос о "сокровищах Кидда" еще не исчерпан. Сокровища, которые он якобы закопал перед тем как предаться в руки правосудия, ищут до сих пор.
Дело капитана Кидда не означало отказа англичан от морского разбоя и его использования в качестве средства подавления морской торговли других народов. Однако оно заняло заметное место в истории борьбы с пиратством.
Эпилог
Французский пропуск корабля "Кедахский купец" был обнаружен в Государственном архиве Великобритании спустя 219 лет после процесса над капитаном Киддом. Текст гласит:
От Имени Короля
Мы, Франсуа Мартен, щитоносец, советник Короля, генеральный директор по торговле для Королевской Компании Франции в Королевстве Бенгали, на Берегу Коромандель и других территориях, приветствуем всех тех, кто увидит настоящие письма.
Названные Ходжа Ованнес и Ходжа Яков армянин, командиры корабля "Кедахский купец", водоизмещением приблизительно в 350 тонн, который некто Агапирис Календер, армянский торговец, зафрахтовал в Сурате у некоего Коержи Наннабай Парси из порта, на котором являются лоцманами Рет Тодель или боцман Жионату и писатель Гассу, нам сообщили, что перед их поездкой из Сурата они взяли пропуск Компании, который они нам показали с датой первого января 1697 года, подписанный Мартеном и ниже Де Гранжемоном, и, опасаясь беспокойств в путешествии, которое они должны осуществить из этого порта в порт Сурата под предлогом, что данный паспорт просрочен, они нас настойчиво просят им отправить новый.
Рекомендуем и предписываем всем тем, кто находится под властью Компании, просим предводителей эскадронов и командующих кораблей Его Величества, требуем у всех друзей и союзников Короны не создавать никаких препятствий, которые могут задержать его ("Кедахского купца" — прим. перев.) путешествие, а также предоставить ему всю возможную помощь и содействие, обещая, что в случае необходимости они поступят именно так. В подтверждение чего мы подписали данные письма, которые удостоверяются подписью секретаря Компании, и на настоящем акте прилагается гербовая печать в генеральной конторе города Угли.
14 января 1698 года
подписи: Мартен, Дэпрэ
(гербовая печать Французской Ост-Индской компании)
(перевод со старофранцузского Дианы Степанян)
Этот пропуск безусловно не меняет сути пиратской деятельности Кидда. Но по британскому законодательству конца XVII — начала XVIII века он мог бы стать на суде веским аргументом в пользу подсудимого.